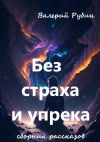Текст книги "Чужестранцы"

Автор книги: Сборник
Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Стоило мне провести в Клети разума достаточно долгое время, как, сначала немного, а потом все больше и больше, призрачное сияние, точно сотканное из тумана символов, стало разгораться в Библиотеке, создавая повсюду мерцающий свет. Я созерцал круговращение математических формул. Нарастал рокочущий, кипящий гул, вдруг резко оборвавшийся с короткой вспышкой. Казалось, что она отняла у меня не только зрение, но и разум, самое драгоценное…
Я очнулся, но, видимо, уже много часов спустя, среди железных томов старых книг. В голове установилась какая-то пустая тишина. Звуки и образы медленно возвращались короткими пощелкиваниями. Даже сейчас тяжело описать это.
А потом, потом, когда разум мой восстановился, приняв… Величайшие знания, прекрасные и бесценные, стали его достоянием. Но прежде я пытался расколоть голову о камни, столь мучительным было это знание. Так казалось мне в тот миг. Знание, что превыше всего, перед которым стоит склониться в подчинении.
Мысли мои снова спутались…
На следующий день безумие вновь одолело меня, вынудив метаться по всей Клети (вот уж действительно, когда это название подошло ей как никогда). Я даже писал что-то в Клеть Малую, свою тетрадь, но по большей части прочитать это уже нельзя. Вновь пытался расколоть голову о камень, но, к счастью, ничего из этой затеи не вышло.
Затем какое-то странное и даже пугающее безмыслие снизошло на меня как отдохновение. В почти животном состоянии рассудка я бессмысленно бродил по пещерам, стаптывая ноги в кровь, искал какую-то пищу, вроде той, которая становится добычей крысокрабов. Возможно, я даже пытался напитать себя мхом.
А потом… Потом меня охватила безумная, неведомая никогда прежде злоба.
Новые знания помогли мне создать горючее, очень хорошее горючее – вещество, которым я и уничтожил библиотечную клеть. Как же я ненавидел в тот миг свои знания. Как же я ненавидел себя и весь душный пещерный мир-механизм.
Ненавижу ли я все это сейчас, преследуемый дымом моего деяния, разносящимся по каменным коридорам?
Я не знаю. Пишу эти скорбные строки в надежде прояснить хоть что-то в голове, но, увы, ничего не выходит.
Запись… Я сбился со счета.
Уже очень долго не писал ничего в этот дневник. К величайшему своему стыду, множество листов отсюда пришлось использовать для растопки костров по ночам – зима. Впрочем, обо всем следует рассказать по мере установленного природой порядка.
После тяжелого помутнения рассудка, случившего со мной в Клети-из-камня-и-стали, я предпринял безумное, совершенно не оправданное рационально решение – отправиться на поверхность. Прежде мы с Наставником часто отправлялись туда, дабы добыть пропитание или обменяться какими-нибудь припасами с дикими поселенцами.
Даже ночью бродить там было опасно, ибо голубоватый свет луны, о какое предательство, так же нес в себе отпечаток пылающего солнечного гнева. Поэтому, прежде чем отправиться по путям вверх, следовало облачиться в специальный наряд, состоящий из бинтов, черной смолы и стеклянных окуляров. Только так можно было уберечь себя от солнца, что, ненавидя нас, преследовало даже ночами. Выходя на поверхность, я даже подумать не мог, что бинты станут мне второй кожей.
По какому-то невероятному стечению обстоятельств, лишь только выйдя из Червиных пещер, я столкнулся с людьми. Сами люди, впрочем, их за людей даже толком и не считали, уравнивая в своих глазах с чем-то вроде нас. Прокаженные. Меченые вороньей язвой. Почти нелюдь. Кучка этих несчастных, изгнанных из родных селений, ждала, прижимаясь друг к другу, около жалкого костерка. На них тоже были бинты. Поэтому, возможно, они меня и не прогнали.
Наставник много раз объяснял психологию подобных существ. Если для высших звеньев пирамиды бытия было характерно поведение, именуемое им «атомизацией», то есть разделением на все меньшие части, вплоть до кристаллизации чистого совершенного индивида, то для низших же существ было, наоборот, характерно собираться в стаи, и чем ниже существа, в тем большие стаи они сбивались. Народ, стоит тут отметить, потому и полагал себя великим, что воплощал всех в одном и одно во всех. Впрочем, теперь это уже и не так важно.
Низшие существа, недо-люди (и недо-нелюди) сидели предо мной. И что-то непонятное, какая-то невыразимая словами сила заставила меня подойти к ним и начать общение. Никогда прежде мне не доводилось говорить с людьми. Я ночами приходил к ним всю зиму и все чаще ощущал, сколько же у нас с ними общего.
Над нами минерально светились звезды.
Теперь-то я понимаю, что это было предвестием смерти. Или новой жизни?
Алгоритмы слышались тогда все слабее и слабее.
В одну из ночей, забыв обо всем, я засиделся до самого рассвета и был вынужден поспешно бежать. Не в силах добраться до Червиных пещер, в итоге я нашел защиту от солнечных лучей в какой-то затхлой дыре, среди скальных расщелин.
Следующей ночью я сошел с ума. Ибо решил не возвращаться к старым коридорам и старым пещерам, а отправился дальше в горы.
Так стал я странствовать от пещеры к лощине, от лощины к пещере. Много дней я шел поющими долинами и гремучими горными реками. Шел, придавленный грозным видом сияющих в лунном свете гор-исполинов. Гул знаний из прежней жизни, из затхлых подземелий, гул Народа перебивался гулом живого мира. Прекрасного, расцветающего живого мира! Нечто новое, пахнущее весенними ночами и дикими яблонями, наполняло, нет, не разум… Может ли так случиться, что у меня есть душа?
Наконец я нашел эту гостеприимную обитель. Она небольшая, и даже лучи солнца лишь изредка проникают сюда. Впрочем, мне они уже почти совсем не страшны: кожа настолько свыклась с бинтами, что я даже перестал обращать на них внимание.
Можно ли всю жизнь провести в этом прекрасном месте?
Тут, внизу, растут самые разные деревья. Я не знаю, как большую часть из них называют люди, потому придумываю свои названия, которые часто беру из старых книг. Народ замолчал в моем сердце – к добру ли, к худу ли?
Запись последняя.
То, что я поведаю ниже, будет, скорее неким итогом всего существования Народа, нежели новой историей из жизни, стремящейся вперед.
Все время, пока я бродил по поверхности, меня все чаще, чем дольше я находился вдали от пещер, настигало какое-то странное чувство. Оно подобно сияющему белому цветку, вроде тех, что произрастают прямо на озерах, раскрывающему прохладные лепестки прямо в груди.
Все время Наставник и весь дух Народа, стоявшие за моей спиной, убеждали, что у нас нет душ. Что мы выжгли их. Что душа – удел слабых людей. Что она не нужна, нужен холодный разум. Но вот разум перестал быть моим в полной мере после Библиотеки. Что же осталось?
Вела ли дорога, которой шел Народ к чему-то доброму. Великие Первые, что отняли у себя души, а у нас – солнце. Были ли они правы? Прав ли разум тогда, когда изгоняет все остальное?
Не за бездушность ли отвергает нас солнце? Не поэтому ли нас так сильно жгут его лучи? Не поэтому ли гонят нас люди?
И куда пришел я с грузом всего народа на своих плечах?
Много раздумывал я над этим в последние дни.
В конце этой ночи я принял решение.
Я сниму бинты и отправлюсь с первыми лучами прочь из пещеры. Возможно, я обращусь в пепел. Но что мне жизнь без души? А возможно, на самом деле душа у меня есть. А значит, я не нелюдь, а человек.
Эту тетрадь я оставлю здесь с прочими пожитками, дабы кто-то, кто обнаружит мое жилище (я порой сталкивался ночами с селянами, пугая их до глубины души), мог узнать эту историю.
Историю заката нелюди. И, возможно, историю начала человека».
На этом дневник завершился.
Вана проснулся на рассвете, как и обычно. Единственным отличием от привычного ему утреннего ритуала было то, что он не помнил события, происходившие вчерашним вечером. В висках саднило. Веки были тяжелыми, и, едва разлепив их, охотник обомлел от неожиданности.
Напротив него, на пеньке, расслабленно покручивая в руках астар (его, Ваны, астар!), сидело бледновато-серое существо, похожее на человека. Ростом оно не выделялось: едва ли взрослому мужчине до груди. Телосложения незнакомец тоже был не особенно-то и крепкого, со впалой грудью, тонкими ручками, которые все были покрыты ссадинами и царапинами, видимо, от долгой ходьбы по лесу, кривоватыми, похожими на птичьи лапы ногами, обутых, впрочем, в хорошие башмаки из какого-то желтоватого материала. Помимо этого, из одежды на нем были потрепанные штаны, ободранные чуть выше голеней и висевшие на ногах, как на ветках. Глаза существа были почти матово черными, с едва различимыми точками зрачков, а хищноватая ухмылка не предвещала для Ваны ничего хорошего. Вся эта странная пародия на человека вызвала в его голове лишь одну единственную мысль: «Нелюдь!»
Добыча. Его, охотника Ваны, добыча, которая теперь сама на время стала охотником.
Ненадолго.
– О, ты уже пробудился?
Нелюдь странно произносил слова, будто приноравливаясь раскрывать рот для речи.
Вана попытался приподняться на локте, но тело почему-то едва слушалось его. Нелюдь наставил на него черную иглу астара.
– Не надо двигаться.
Охотник понял намек и на время оставил попытки шевелиться. Но только на время.
– Ты уже понял, кто я?
Вана кивнул. Во-первых, потому что в таких ситуациях лучше всегда соглашаться, во-вторых – потому что и правда понял. Еще бы тут не понять.
– Это хорошо. Плохо то, что ты шел за мной по пятам. Зачем ты это делал?
«Он не знает? Или знает?» – мысленно спрашивал себя охотник, начиная бояться уже по-настоящему.
– Де… – язык едва шевелился, – На. а…града…
– Люди из шахтерских селений обещали?
– Д..да, – охотник закивал головой.
– Я нашел среди твоих вещей тетрадь. Мою тетрадь. Ты читал ее?
Вана снова кивнул.
– Значит, ты понял, что я уже человек. У меня есть душа. Разве хорошо убивать того, кто с душой человека?
– Э…э-э-э… – Вана что-то невнятно промычал. Надо ли говорить, скольких людей он убил на своем веку, не то что нелюдей.
– Печально, что многие еще не видят правды. Не верят музыке, которая льется с небес прямо в центр груди.
Вана лежал ни жив ни мертв. Его все-таки обыграли. Он знал, что рано или поздно это случится. Найдется кто-то удачливее, хитрее. Злее, в конце концов. Но чтобы вот так… В лесу, среди глухоманья, от рук не то человека, не то злой карлы, выбравшейся из пещер Червя, без сил даже пошевелить руками.
– Это наше оружие, – произнес нелюдь, глядя на матовую поверхность астара, – мы создали его, дабы сильные волей могли сокрушать подземных червей.
– Ты… ты отравил меня!? – прошептал охотник.
Нелюдь взглянул на него безднами почти черных глаз и промолчал. Вся жизнь промелькнула у Ваны перед глазами.
– Вы как грязь, – наконец проговорил серокожий, – как опухоль на теле человечества, – и в голос его пробрались страшные металлические нотки, – вас надо гнать, жечь, устранять…
По лицу Ваны катились слезы. В горле хрипел полушепот-полукрик:
– Не убивай меня.
В глазах дитя пещер промелькнуло удивление.
– Не убивать?
– Пощади…
Вана, прежде еще сохранявший надежду хотя бы смерть встретить без страха, теперь, рыдая, униженно просил о милосердии. И кого просил? Даже не человека! Уродца, нелюдь, пещерную тварь! Вана боялся. Всеобъемлющий, нечеловеческий страх сковывал его теперь лучше всякого яда. Всю жизнь он только и делал, что убивал. Безжалостно, надежно. Холодный острый инструмент, дающийся в те руки, которые могли предложить хорошую оплату. Вот и вся его жизнь, и вся тщета его стараний. «Что, – с ужасом думал Вана, – что ждет его на Той Стороне, после тьмы последнего вздоха?»
– Пощадить?
Казалось, что нелюдь искренне удивляется.
– Не убивай, – прохрипел Вана.
Их взгляды встретились.
Человек, в котором так много было от нелюди, и нелюдь, так походивший на человека.
Астар полетел в кусты, описав темную дугу.
Вана, широко раскрыв глаза от изумления, наблюдал, как сутулая спина его врага растворяется в зеленой листве.
Он ушел.
Он ушел! Ушел, пощадив его!
Вана вновь принялся плакать, на этот раз – от счастья. Жизнь, едва не ускользнувшая от него в это роковое утро, вновь возвращалась в обмершие члены.
Он жив! Он все еще жив!
Едва добравшись до Старокопа, полубезумный Вана отправился ко двору местного князя, где его, приняв за нищего или, что еще хуже, бродячего оккультиста, побили стражники, после чего, впрочем, благодаря защите местного придворного мудреца, хорошо знавшего охотника в прежние времена, его все-таки пропустили. Именно этому мудрецу в итоге Вана и продал бесценную тетрадь за какую-то чисто символическую сумму.
После этих событий Вана ушел от мира в какую-то далекую обитель вглуби Холодных земель, где и провел остаток своих дней, живя как простой человек и охотясь разве что на зайцев.
А по горным тропам еще много лет бродили слухи о странствующем мудреце, что порой бросает взгляд темных и грустных глаз на цветущие яблони по весне.
Юлия Махмудова
Ивушки
Максим сидел на окраине поселка и смотрел на желтое поле цветущего рапса. Как забытая косынка лимонного шелка на зеленом бархате травы, лежало это золотое поле, пропитанное лучами весеннего солнца. У мамы была такая косынка, он точно это помнил. Чуть шершавая на ощупь, сладко и терпко пахнущая ее духами. Пчелы деловито жужжали, проносясь над Максимкиной макушкой в сторону пасеки. Теплая безмятежность обнимала за плечи ласковым ветерком, навевала дремоту. Бабочки-капустницы танцевали вокруг мелких ромашек. Вот бы к ним! Максим легко поднялся с теплого замшелого валуна, раскинул руки, и вот он уже летел вместе с бабочками, купался в солнечных волнах, дышал пряным ароматом нагретых трав. Кружился, переворачивался. То будто нырял в лазурную небесную гладь, то обратно, в желтую гущу цветов. Веселый, счастливый, вернулся он на свой камень – как на необитаемый остров. Устроился поудобнее и замер в блаженном покое.
Поселок Ивушки одиноким пестрым пятном лежал среди зеленых полей и пастбищ, приткнувшись краешком к шоссе, ведущему в город. Небольшой, тихий, утопающий в зелени, он уютно устроился на холме, подставляя бока ветрам, дождям и солнцу. Максим жил здесь с бабушкой уже давно, даже и не вспомнить сколько. Долго не мог привыкнуть к тишине и покою после городской сутолоки и гомона. Не хватало людских толп, машин, автобусов, шумной ребятни. Густые чернильные ночи пугали шепотом травы и стоном деревьев посреди тяжелого безмолвия. Пугал глухой колокольный звон на старой церкви и молчаливые старички и старушки, живущие в поселке. Да и без мамы было тяжело. Внезапно выдернутый из повседневной суеты, из теплого домашнего гнезда, он долго плакал, тосковал. Жался к бабушке, просил вернуть его домой. А потом стерпелся, смирился. Не забыл, но горевать перестал. И даже понравилась ему эта непривычная тишина поселка. Никто не торопится, не спешит, не тянет его за руку: быстрее, быстрее, бежим, опаздываем. Никто не толкает в спину, не запихивает в переполненное нутро вагона метро, где сонные, безразличные взрослые дышат друг на друга прелыми запахами вчерашнего перегара, табака и нечищеных зубов. Никто не командует: «Туда не ходи! Здесь не бегай!». В Ивушках можно бегать, где душе угодно. Народ тут оказался хороший, спокойный. Стариков больше, конечно, но и дети есть. Кто-то, как Максим, живет со своей бабушкой или дедушкой. Кто-то с родителями. Но таких всего двое. Анютка, ей двенадцать лет. И Вадик, ему восемь, он с папой тут.
В первые месяцы жизни в поселке, как только прошла тоска по дому, Максимка оббегал все окрестные улочки, со всеми перезнакомился. Дома в Ивушках были разные: и ветхие, совсем старые развалюшки, и добротные участки, и даже хоромы попадались. Были и заброшенные, заросшие сорняками. Максим особенно любил там лазать. Никто его за это не ругал.
Год шел за годом, и незаметно для себя мальчик привык к новой жизни, да так, что другой и не представлял. Только вспоминал о маме иногда, особенно перед праздниками.
– Завтра же Пасха! – встрепенулся Максим, соскочил с камня и побежал через поселок к дому.
Узкие тропки, заросшие мятликом, подорожником и звездчаткой, петляли между участков, окруженных облупленными железными оградами. Максим бежал мимо, касаясь оград кончиками пальцев, здороваясь с соседями. Его светлая макушка мелькала в зарослях сирени, как большой солнечный зайчик, пустившийся в самостоятельное путешествие. Бежал вприпрыжку, останавливаясь только, чтобы поглядеть на голубую стрекозу или на божью коровку. Утренняя роса еще лежала на траве в тени деревьев, поблескивая крупными каплями, как россыпь самоцветов. Максим глядел на все это, впитывал в себя зеленую весеннюю красоту и свежесть.
– Бабуль! – крикнул он, подбегая к бабушке и привычно утыкаясь лицом ей в живот. – А я с бабочками летал!
Бабушка обняла внука за плечи и ласково взъерошила ему волосы на макушке.
– Ух ты какой! Всех обогнал?
– Не-а, мы не вперегонки, мы так, баловались просто.
– Вот бы и мне так, – вздохнула бабушка с улыбкой.
– А ты попробуй!
– Да я не смогу, Максимушка, грехи к земле тянут. Это ты, маленький еще, безгрешный, светлый. Вот и летаешь. А я только пешком, только по земле.
– Ой, бабуль! Завтра праздник, да ведь? Я забыл почти, но вспомнил, бабуль. Мама приедет?
– Может, и приедет. Если дел у нее срочных не будет, то, конечно, приедет.
– А почему дела у нее всегда?
– Такая вот жизнь, солнышко. Взрослые заняты сильно, забот у них много, работы, – заметив, как наморщился гармошкой Максимкин нос, бабушка подняла его мордаху за подбородок и утешающе сказала. – Но ты заранее не расстраивайся-то. Вдруг приедет, а у тебя нос раскис?
Максим согласно кивнул и утер нос тыльной стороной ладони.
Праздничное утро началось с заливистого перезвона колоколов на маленькой церквушке. Солнце взрывалось искрами на ее золотых куполах, блестело на зеленой листве деревьев, превращая Ивушки в сказочный изумрудный калейдоскоп. Местный гармонист, старый дядя Гена, где-то вдалеке затянул «Катюшу».
– Гостьюшки-то наши прибудут сейчас, ось притопчут… – сказала Максимке соседка, баба Нюра. – Вот пойдут, понапридут гостьюшки-то. Порассыпятся по дворам. Чекушки понаоткрывают, глянь-к. Песни запоют, слава тебе, Господи. Светлый праздник нонича, дитятко, светлый…
– А к тебе придут, баб Нюр? – спросил Максимка, прижимаясь пузом к ограде и высовывая нос наружу. Он с замиранием сердца следил за дорогой, чтобы ни в коем случае не пропустить маму. Хотел было бежать за околицу, к шоссе, да испугался, что в толпе ее проворонит.
– А кому я нужна-т, дитятко? Коряга старая… Уж только Лизавета у меня осталась, да и та уехала. Пришла тогда, говорит, прости, баб Нюр, уезжаю я в Америку. В последний раз тогда и свиделись, почитай.
– А чего она тебя с собой не взяла?
– Господь с тобой, куда? На чужбину? Да и как она меня возьмет? Чай, в карман не положишь. Нет, Максимушка, я лучше ось туточки, на своей земле родной буду.
Максимка вздохнул. Жаль бабу Нюру. Совсем она одна. И не только ее жаль. Много в Ивушках таких одиноких, забытых стариков. Он насупился и уткнулся лбом в железный прут забора.
А гости прибывали. Приезжали на автобусе или на своих собственных автомобилях. Шумные, гомонящие. Руки полны цветов и сумок. Бурливой пестрой рекой втекали они в устья улиц и переулков, спешили к своим родным. К полудню во многих дворах были накрыты столы, слышались тосты и перезвон стопок. Потянуло запахом краски. Кто-то, видать, решил красоту навести, помочь родным. Когда еще случай представится?
Максим глядел и глядел на дорогу и чувствовал, что глаза наполняются слезами. Мамы не было. Опять. Он отвернулся, подошел к бабушке и сел с ней рядом на лавочку. Бабушка сидела прямо, шепотом молилась и крестилась на купол церкви, чуть виднеющийся вдалеке за кроной цветущей липы. В левой руке она теребила белый платочек с полинявшим узором из голубых цветов.
– Господи, вразуми рабу свою Галину… Наставь ее на путь истинный… Не брось в час испытаний…
Максимка промолчал, не стал ей мешать. Подобрал худые коленки к подбородку, обхватил ноги руками и стал смотреть в сторону.
Он вспомнил тот день, когда мама привезла его в Ивушки. Провела рукой по его щеке на прощанье, смахнула слезы уголком вязаного шарфа. Сказала:
– Ну вот, Мась… Теперь ты тут… С бабушкой будешь… Оставляю его тебе, мам… Пригляди уж…
Постояла немного, помолчала и ушла.
Потом она приходила несколько раз. Сажала цветы, дергала сорняки. Как будто специально старалась себя чем-то занять. Но иногда просто сидела на лавочке и рассказывала о своей жизни: что сделала, что собирается сделать. Жаловалась бабушке, как ей тяжело.
Папа тоже приходил. Но всего пару раз и пьяный. Плакал, спрашивал что-то. А потом совсем перестал появляться.
Стемнело. Разъехались по домам шумные гости, и опустилась на Ивушки густая майская тишина, полная сладких запахов и едва слышных шорохов. Жалобно и красиво запел дрозд. Максимка выскользнул за ограду и пошел по улице, глядя себе под ноги и пиная камушки.
– Ты чего так поздно ходишь тут? – окликнул его мальчишеский голос.
Максимка обернулся и увидел Никиту, подростка шестнадцати лет, высокого, тонкого, с густыми темными бровями и задумчивыми карими глазами.
– Привет, Никит… – поздоровался он.
– Не пришла?
– Не-а…
– И моя нет…
Максим сел рядом с Никитой на ствол поваленного тополя и вздохнул.
– Почему так, а, Никит?
– Да я знаю, что ли? Ну не приходят и не приходят, – Никита сплюнул в сторону. – Я бы тоже сюда в гости не рвался.
– Но я же скучаю…
– К деду Мите дети переехали с внуками, – сменил тему Никита. – Я сам видел. Отец с матерью и пацан с девчонкой. Твои ровесники вроде.
– Ого!
– У них квартира сгорела, вот они и переехали.
– Здорово! Ну… То есть… Плохо, конечно, что квартира сгорела… Надо бабуле сказать, чтоб зашла к ним завтра.
– Скажи, ага. А то новенькие они тут, не знают никого. А насчет матери ты это… Не расстраивайся. Придет она. Занята, наверно.
– Бабуля тоже так говорит… Ладно, пойду я, Никит. Спокойной ночи!
– Спокойной ночи!
Возвращаясь, Максим увидел, что бабушка стоит посреди улицы и тревожно глядит то в один ее конец, то в другой.
– Максимушка! Ну где ты ходишь? – всплеснула она руками, увидев внука.
– Я гулял, бабуль. К Никитке ходил. Он говорит, к деду Мите дети с внуками переехали. У них квартира сгорела.
– Горе-то какое, господи…
– Зато деду Мите теперь нескучно будет…
Бабушка только покачала головой и сказала:
– Я в город еду срочно. А ты с бабой Нюрой побудь. Она за тобой присмотрит. Хорошо?
– Так поздно?
– Да, солнышко. К маме мне надо съездить.
– Возьми меня с собой!
– Нет, Максимушка, не могу. Маме плохо, не до тебя ей сейчас.
– Тем более! Ей плохо! Бабуль, так нечестно! Ты к ней всегда сама ездишь, а меня никогда не берешь! – его губы задрожали, на глаза навернулись крупные горошины слез. – Пожалуйста… – прошептал он. – Я соскучился…
Бабушка устало вздохнула и взяла его за руку.
– Хорошо. Только скорее. На автобус опоздаем.
Они еле успели на последний автобус, который проезжал мимо Ивушек в город. В полупустом салоне, слабо освещенном тусклыми лампочками, было совсем немного пассажиров. Группка молодых парней, судя по одежде и объемным рюкзакам, возвращалась в город с гор, которые были километров в ста от Ивушек. Мужчина в кепке и потрепанном пиджаке дремал, обхватив клетку с курицей. Старуха, замотанная в черный платок, уставилась на Максима подслеповатыми глазами и перекрестилась. Максим поежился от ее взгляда и отвернулся. Уткнулся лбом в холодное стекло окна и глядел, как мимо мелькают огни придорожных фонарей.
Ехали долго. Мимо полей, фруктовых садов и пастбищ, залитых вечерней темнотой. Потом – по городской окраине, мимо одноэтажных кособоких домишек. А потом внезапно начался город. Навалился душным, дымным воздухом, высокими стенами домов, глядящими сотнями желтых окон. Обступил со всех сторон, обвил проводами электропередач, вот-вот задушит. Узкие окраинные улочки сменились на широкие проспекты, полные машин: ревущих, спешащих, смердящих выхлопными газами. Несмотря на поздний час люди торопились, толпились, толкались на улицах. Утрамбовывались в троллейбусы и трамваи, чтобы потом высыпаться из них грудой скомканного мусора.
– Приехали, – бабушка взяла Максима за руку и потянула к выходу.
Он сразу узнал свой двор, зажатый между двух девятиэтажек. Вечно сырой и гулкий. Все было так же: детская площадка, футбольное поле, гаражи. Старые тополя тянулись свечками в небо. Подростки сидели на скамейке, лузгали семечки и смеялись. Словно вчера Максимка уехал отсюда.
Он вбежал в свой подъезд и поспешил по ступенькам наверх, не дожидаясь лифта. Выше-выше, на третий этаж, тут всего ничего бежать-то. Бабушка торопилась следом.
Площадка третьего этажа была неестественно ярко освещена белым холодным светом единственной лампы. В этом неприятном свете дверь родной квартиры выглядела чужой и нереальной. Максим нерешительно посмотрел на бабушку и взял ее за руку.
В квартире было темно. Только в гостиной бормотал телевизор, окрашивая стены разноцветными всполохами.
– Где мама? – настороженно спросил Максим. Необычная тишина дома испугала его.
– Сейчас проверю. А ты пока иди, загляни в свою комнату, поздоровайся с игрушками.
Он отпустил бабушкину ладонь и шагнул в приоткрытую дверь детской. Уличный фонарь глядел в окно любопытным желтым глазом. Максим увидел свою кровать в углу, с тем же синим покрывалом, разрисованным ракетами и кометами. Стеллаж с игрушками стоял справа от окна. Плюшевый медведь Мишкин и клоун Бося, казалось, обрадованно смотрели на своего маленького хозяина. Максим подошел к окну и выглянул наружу – там по дороге ехали машины по каким-то своим делам. Цвела старая липа под окном. Парнишка, отчаянно жестикулируя, что-то рассказывал смешливой девчонке. Все как раньше. Словно и не было никогда Ивушек.
А бабушка, неслышно замерев на пороге гостиной, с горечью смотрела на худую женщину сорока лет, раскинувшуюся на диване. В комнате висел тяжелый, затхлый смрад перегара, табачного дыма и пота. Возле дивана валялись пустые бутылки и жестяная банка из-под кофе, полная влажных окурков. Пыль толстым белесым слоем лежала на полках и полу. Только дорожка до дивана была дочиста прошаркана от постоянного хождения по одному и тому же маршруту.
– Здравствуй, Гала, – тихо сказала бабушка.
– М-м-м… – женщина скривила одутловатое лицо и махнула рукой, словно отгоняя комара.
– Что ж ты, доченька, с собой сделала? А?
– Уйди… Уйди… – промычала женщина, не открывая глаз.
– Ко мне не приходишь, ладно. Но сына почему забыла совсем? Гала, он же ждет тебя. Каждый день ждет. А на Пасху – особенно.
Гала приподняла голову и сощурилась в сторону двери.
– Опять пришла? Учить меня? Уйди, говорю! – сердито пробурчала она заплетающимся языком.
– Галюша, – бабушка подошла ближе. – Ну зачем ты так? Ты же губишь себя.
– Гублю… Да! Ты думаешь – чего? Думаешь, легко мне? Думаешь, легко? Вы там, а я – тут! Тут! – она ударила кулаком по дивану. – Я не могу тут! Не хочу!
Ее заплывшие глаза глядели на бабушку со злостью и укором. Перекатившись на бок, Гала попыталась сесть, но рухнула бессильным кулем. Махнула рукой, икнула и вцепилась пятерней в свои лохматые короткие волосы, сбившиеся сизыми колтунами.
– Чего ты пришла, мам? Чего? Чего ты хочешь? Чтоб я к вам? В гости? Я не могу. Не мо-гу! Сил моих нет! Как мне на могилу сыночки смотреть, а потом жить дальше? Как? Мам, скажи!
– А Виктор где?
– Ушел твой Виктор. Бросил меня. Падла… Тяжело ему одно горе пополам тащить. Нашел себе другую бабу. Веселую. Которая водкой глаза не заливает.
– И ты не заливай.
– Как? Как?! Ты вообще… ты представляешь себе, как это – сына пятилетнего похоронить? Я тебя похоронила – еле в себя пришла. Витька тогда помог, вытащил. Семью создали. Масика родили… А потом и Масика… Тебе отвезла… Как жить-то? Я же пробовала сначала. Старалась. Крепилась. Только зря все. Все зря… Не могу… Я вот… – Гала протянула руку, раскрыла кулак. На ладони желто блестел пузырек с таблетками. – Я все решила, мам. Рядом лягу. Место купила. Соседке записку оставила и ключи. Брату позвонила в Саратов.
– Раз решила, то собирайся.
– Куда собирайся? – Максим вбежал в комнату и остановился, загораживая бабушке дорогу к дивану и глядя то на нее, то на мать. – Куда собирайся? В Ивушки? Бабуль! Мам! Вы чего?! Мам, мамочка, не надо, пожалуйста, – он упал на колени рядом с диваном и жалобно смотрел испуганными глазами на опухшее материно лицо. – Мамочка, родная, не надо переезжать в Ивушки! Ты живи, прошу тебя! Живи, мамуля! Не надо! Я потерплю, я не буду больше плакать, честно. Даже в гости можешь не приезжать! Ты только живи, не умирай, мамочка!
– Мась? – Галин голос дрогнул, сорвался. Она протянула руку и погладила лунный луч, бьющий сквозь грязное окно. – Мась, ты? Не плачь, хороший мой, не плачь. Ну… Иди ко мне… – она ласково обняла луч руками, прижала ладони к груди, обхватила себя за плечи. – Не плачь, сыночка, все хорошо. Я не умру. Ты не бойся. Давай я тебе песенку спою…
Месяц над нашею крышею светит,
Вечер стоит у двора.
Маленьким птичкам
И маленьким детям
Спать наступила пора…
Луна, желтая и круглая, смотрела с неба в одно из окон обычного девятиэтажного дома, где пьяная женщина укачивала свет и пела ему колыбельную.
– Спи, мой воробушек,
Спи, мой сыночек,
Спи, мой звоночек родной.[1]1
Анна Герман, «Колыбельная».
[Закрыть]
Утром первым же автобусом Максим с бабушкой вернулись домой. Входя в ворота кладбища «Ивушки», окунаясь в его зеленую безмятежность, Максим спросил:
– Бабуль, а мы тут будем жить всегда?
– Пока нас кто-то помнит, Максимушка, пока кто-то помнит…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?