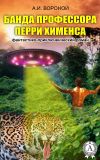Текст книги "Марбург"

Автор книги: Сергей Есин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Сестре 11 июля 1912 года. «Ты и понятия не имеешь, как я сбился со своего пути. Но ты ошибаешься: это случилось сознательно и умышленно: я думал, что у «моего» нет права на существование».
Что такое «мое»? Это ясно из контекста. «Своим» – пусть простит тень покойного мое интеллигентское амикошонство –Б.Л. считал творчество, искусство.
Другу, А. Штиху. 17 июля. Другая цитата и другой эпизод, который можно реставрировать без особого труда. «На пустой, полуденной улице, возле парикмахерской встречаю Когена. В день моего отсутствия пришло приглашение его посетить…Um ihren freundlichen Besuch bittet Ihr Proffesor Herm. Cohen. Я, конечно, извиняюсь. Длинный разговор. Между прочем расспросы, что я думаю делать…Россия, еврей, приложение труда, экстерном, юрист. Недоумение: «Отчего же мне не остаться в Германии и не сделать философской карьеры (доцентуры) – раз у меня все данные на это?» И ему же через два дня: Я видел этих женатых ученых… Они не падают в творчество. Это скоты интеллектуализма».
Опять Штиху, уже 19 июля. «Я ничего не боюсь. Что я запылился и ослаб и что я лишен того единственного, что заменяло мне недостающее дарование: что я лишен сейчас первого удивления молодости и еще одного, чрезвычайно важного: той непрерывности, с которой восторженность восприятия, восторженность чтения служила душою созидания и письма…»
Если это самопризнание сопоставить с дальнейшим творчеством, то возникает почва и для анализа и для раздумий. Дальше еще круче и еще безжалостнее. В письме возникает, как молния, формула: «это не желающее меня искусство». Как будет дальше с искусством и творчеством этот взрослый мальчик-философ с ореховыми глазами еще не знает, это как покажет будущее, но уж философия и научная карьера – прощай! Цитаты-то не о расчетливости, а о том, что в искусство нельзя лезть с психологией торговца мелочной лавки. Выигрывает тот, кто умеет проиграть. Если бы в сегодняшнем нашем искусстве был такой же личностный самоотбор.
А улица уже почти пройдена. После крошечной площади Wasserscheide, на которой собственно и стоит Маленький Мук, в своем стремлении вверх улица сменила название и теперь у нее уже новое имя Wettergfsse. Для полноты картины осталось чуть рассказать о Вольфе, взглянуть на знаменитую ратушу с ее петухом, кричащим и хлопающим крыльями каждый час. Об этой ратуше в свое время написал стихотворение Булат Окуджава: «Когда петух на Марбургском соборе». Здесь есть поэтическая расслабленность: к словам «мэрия» и «ратуша» рифму подобрать достаточно сложно. Про ратушу, про ратушу писал поэт. Марбург притягивает. Именно из Марбурга поэт и бард поехал в Париж, где и умер. Он оставил свою куртку и спортивную сумку в доме Барбары Кархоф. Она обязательно будет на лекции. Это завтра…
При мысленной отметине близкой лекции – хотя я думаю о ней не переставая –сердце забилось сильнее, чем положено. Будет ли на лекции Серафима? По телефону она обещала. Но путь у нее не короткий – из Берлина.
Ох, как хочется обо всем повспоминать еще. А может быть, просто сладко лелеять свои молодые годы? Куда-то улетели страсть, энергия, неутомимость, мужская крепость. Вспомнить – это почти пережить еще раз. Но в моем возрасте люди уже умеют держать себя в руках, не позволяют рефлексии полностью захватить сознание. Отведем в сторону «переживательную» струю.
Рядом с треугольником, образованным в одной вершине ратушей, в другой – домом, где молодой Ломоносов познакомился со своей будущей женой (там, в гостях у фрау Урф на Barfusserstasse, мы уже побывали – в романах всё происходит, как и в жизни: с чего начинается, тем и заканчивается), и в третьей – домом Вольфа, находится еще знаменитое кафе «Фетер». Я заглядывал туда и осталось ощущение, что именно здесь Пастернак – в настоящем романе всё близко, и всё имеет тенденцию, как в жизни, сближаться – несколько раз разговаривал с симпатизировавшим ему кельнером.
Кафе-то называлось совсем по-другому: Kaffe Lokal , и может быть даже, не кафе, а пивная, но оно не встретилось мне в городе. Известно, что в этом заведении была терраса. А все кафе «Фетер» расположено на огромной террасе. Какие виды на луга, на проскользнувшую дугой вдалеке железную дорогу! Здесь, т.е. в Lokal, тоже произошло знаменательное событие еще раз подтвердившее если не авантюризм, то решимость и смелость лирического поэта. Было в обрез денег и тем не менее «три товарища, два немца и француз» убедили, что можно еще совершить путешествие: встретится с родными, которые приехали на отдых и посмотреть Италию. Именно тогда этот доброжелательный, но безымянный кельнер, оставивший след в русской литературе, принес Kursbuh (расписание) и был найден некий невероятной дешевизны Bummelzug , на котором можно было буквально за гроши пересечь всю Германию. Все верно, это существует и сейчас, главное вчитаться в гроссбухи расписаний в праздничную щель недели, суббота и воскресенье, можно по льготному билету, пересаживаясь с одной электрички на другую устроить себе невероятное и невероятно дешевое путешествие. Что касается кельнера, («В кафе со всеми нами дружил старший кельнер. Он знал подноготную каждого из нас») ему посвящены строки в «Охранной грамоте». Здесь не только картинка живая и любопытная, но и какая-то, я бы даже сказал не русская вера в то, что можно радоваться удаче и успеху другого.
Ну, уж здесь простите, и потерпите, как вам покажется, с совершенно ненужной никому цитатой. «Он пришел в такой восторг, точно ему самому на другой день предстоял Базель. «Послушайте, – сказал он, облизнувшись и собрав пустые бокалы. – Вглядимся друг в друга попристальнее, такой у нас обычай. Это может пригодится, ничего нельзя знать наперед».
Теперь кафе Фетер (заместитель в моем воображении пивной Lokal ) знаменито своими литературными вечерами. Здесь были многие советские литераторы: и «больший, чем поэт» Евгений Евтушенко, и Тимур Пулатов, славный многими делами в пользу содружества писателей бывшего СССР и поэтому «больший, чем прозаик», и в прошлом полномочный представитель русских и киргизов, а ныне посол республики Кыргызстан Чингиз Айтматов… Но эти сведения, скорее, для фона, чтобы оказать, что жизнь не затихает. За нами, мы помним, должок. Поразмышляем возле дома Вольфа.
У Ломоносова не было мании исключительности, он не планировал свое будущее как необыкновенное. В конце концов, он не учился, как Пастернак, у Скрябина и Глиэра, в его доме не музицировали музыканты типа Исая Добровейна, его не посещали художники масштаба Серова и Левитана, он не провожал в последний путь «зеркало русской…» все-таки жизни, а не только революции. Он вообще мало думал о важности своей роли в русской литературе и русской – заметим! – науке. И то и другое его захватило, жило в нем нерасторжимо, его организм, как с конвейера, выдавливал наружу «продукт»: стихи, научные наблюдения и выводы, исторические исследования и прожекты преобразования академической и университетской систем на пользу обществу, письма. Всё было естественно, как пение птиц и кваканье лягушек.
О письмах Ломоносова – поговорим особо. Другое дело, с самой ранней юности «продукт» всегда высшего качества. Это двух писателей в какой-то мере объединяет. Ода «На взятие Хотина» стала прорывом в русской литературе, а две научные работы, написанные как «пробные» для получения звания «профессора-академика» – «О действии растворителей на растворяемые тела» и «Физические размышления о причине теплоты и холода», – оказались одними из первых, выведших русскую на самые передовые рубежи науки мировой. Но, как часто бывает, вокруг великих людей что-то происходит.
Эти работы, уже одобренные академическим сообществом, давний и страстный недруг Ломоносова и его же начальник Шумахер, вдруг посылает на рецензию к иностранному «почетному члену Академии» Леонарду Эйлеру. Имя является нарицательным, свидетельство высшей, безгрешной, почти божественной квалификации, так же, как и имя Шумахера, но здесь другой нежели у Эйлера, знак. Вот повезло пришлому в Россию человеку, только благодаря постоянным склокам с русским национальным гением остался в истории!
Пакет Эйлеру ушел дипломатической почтой, через посла русского двора в Берлине, и спустя четыре месяца – ни интернета, ни факса, ни телеграфа еще не было, не изобрели – пришел ответ. Не рой яму ближнему. Вот, что писал Эйлер. «При сем случае я должен отдать справедливость Ло-моносову, что он одарован самым счастливым остроумием для объяснения явлений физических и химических».
Бедный Шумахер, он-то надеялся берлинским отзывом выбить Ломоносова из седла, лишить звания академика и перевести на сугубо переводческую работу. О переводческой работе тоже упомянуто не случайно. Как хочется в будущей лекции привести знаменитый перевод поэта 143-го псалма. Но здесь надо подумать. Не в совсем простое время его переводил Ломоносов, а как раз тогда, когда IПумахер и его сподвижники, в основном немцы, не все одаренные, слетелись в Россию за чинами и рублем. Крепко отдельные представители травили нашего соотечественника. Не сочтут ли сегодня это стихотворение недостаточно политкорректным? Но мы у дома Вольфа, будем воспринимать всё в историческом аспекте.
Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой;
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод…
Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти:
Их речь полна тщеты, напасти;
Рука их в нас наводит лук.
Повторяю еще раз – это некое иносказание, но тем не менее перевод. И с Ломоносова и с меня взятки гладки. Много есть любителей приписать человеку черте что. Самое интересное, что обстоятельства с «немецкой интригой» Шумахера сложилось так, что самому же Ломоносову пришлось переводить эйлеровский текст, пришедший из Берлина. Перо, надо полагать, по бумаге летело. Вот она драма обстоятельств! «Все сии сочинения не токмо хороши, но и превосходны, ибо он изъясняет физические и химические материи самые нужные и трудные, кои совсем неизвестны и невозможны были к истолкованию самым остроумным ученым людям, с таким основательством, что я уверен в точности его доказательств… Желать надобно, чтобы все прочие Академии были в состоянии показать такие изобретения, которые показал господин Ломоносов». Браво, Ломоносов, браво, Эйлер!
Закроем эту страничку исторического научного письма. Осталось совсем немного.
Дом Вольфа – обычный крепкий средневековый дом, ныне выпотрошенный, перестроенный и, как и любой немецкий дом, почти недоступен: отгородился шторами на окнах, цветами, многочисленными персональными кнопками со звонками. Здесь Ломоносов бывал много раз. В «отпускном» письме Ломоносову Вольф сравнит его с другими русскими студентами: «Если, правда, Виноградов, со своей стороны, кроме немецкого языка, вряд ли научился многому… то я не могу не сказать, что Ломоносов сделал успехи и в науках; с ним я чаще беседовал, нежели с Райзером, и его манера рассуждать мне более известна». В другом письме Вольф также пишет: «Молодой человек с прекрасными способностями Михаил Ломоносов со времени своего прибытия в Марбург прилежно посещал мои лекции математики и философии, а преимущественно физики и с особенной любовью старался приобретать основательные познания. Нисколько не сомневаюсь, что если он с таким же прилежанием будет продолжать свои занятия, то он со временем, по возвращении в отечество, может принести пользу государству, чего от души и желаю». Как все же национальные гении похожи, даже в старте. Один окончил гимназию с золотой медалью, стал любимчиком у немецкого профессора, другой – стал любимчиком у другого немецкого профессора и получил «похвальное» отпускное письмо. Об сделались кумирами своего времени, обоих, кстати, любили цари!
Затихают ли в комнатах те разговоры, которые в них ведутся или в качестве микроскопической пыли, в качестве молекулярных изменений в крепости материалов, из которых стены возведены, все эти разговоры остаются, и со временем будут изобретены приборы, которые эти разговоры, перемешанные и уплотненные, разделят послойно. Боже мой, что же наши потомки услышат когда-нибудь! –
Как же мы все жаждем этих разговоров! И будет так: подходишь к «историческому» дому Вольфа, включаешь, опустив предварительно в щель автомата свою идентификационную карту мирового сообщества любителей истории, и слышишь божественные шорохи, в которых начинаешь различать поучения великих людей. Может быть, даже удастся услышать, как проректор Вольф усаживал в экипаж именно у своего дома порученных его попечению и выросших на его глазах русских мальчишек перед отправкой их во Фрейберг и его нравоучения. А может быть, и последние слова, которые он говорил своему ученику Михайле, когда отправлял его уже в Россию. Именно Вольфу Академия переслала деньги на дорогу Ломоносову. Честный и порядочный человек. Это немало. Жаль, что на доме нет еще и другой надписи: «Вольфу – благодарная Россия».
В маршрут подготовки лекции не вошел еще один важный адрес: Universitatstrasse, 62/1. По нему когда-то проживал кумир юного Пастернака Герман Коген. Философия – самая безжалостная из всех наук или искусств, как кому заблагорассудится считать. Здесь выживают только сильнейшие и открыватели. И как ни в какой другой науке быстро исчезают эпигоны и толкователи. Кто там у нас в мировой философии работал в одно время с Когеном? Пожалуйста: Кассирер, Риккерт, Гуссарль, Ясперс, Эдмонд Видельбанд, Макс Авенариус. В этой компании нетрудно и затеряться. Вот философии Авенариуса еще один русский гений посвятил целую монографию. А кто у нас писал о Когене?
Вот так-то, а ведь Коген гремел, имел популярность, учеников. Даже соблазнял заняться философией одного из будущих литературных нобелевских лауреатов. В его философии сейчас разобраться не возьмусь. Возможно, переводы Когена у нас есть. По крайней мере, один из профессоров Литературного института, мой приятель, таскающий меня по театральным премьерам, а в антрактах знакомящий с окололитературными сплетнями, написал о нем статью, но особых открытий в ней я не обнаружил, да и скучно было читать. Но Бог с ним, с Когеном, пусть спит на своем спокойном еврейском кладбище. Жаль, что до его дома не добрался. Сохранился ли вообще этот номер? А было бы интересно заглянуть туда, обойти, извиняясь за вторжение, все комнаты. Где же происходили знаменитые воскресные когеновские обеды? Описаний нет. Может быть, жив еще кто-нибудь из потомков?
Сам Пастернак, ставший со временем любимцем Когена, на этот обед, как уже известно, так и не попал, а приглашен, это тоже известно, был. Обед почти совпал с его импульсивной поездкой вслед за сестрами Высоцкими в Берлин. Он очень красочно описал в «Охранной грамоте», как, вернувшись из Берлина, получил сразу два письма: одно от двоюродной сестры Ольги Фрейденберг, которая проездом остановилась во Франкфурте, а второе от Когена – с приглашением. (Письмо уже было приведено, простим профессорские повторы, но повторение это мать учения) И на глазах оторопевшей хозяйки решил на обед не ходить. Во Франкфурт! Но не промалывает ли профессор все по второму кругу?
В «Охранной грамоте» Коген описан очень сочувственно, хотя надо отметить, что сам словесный портрет сделан скорее по рисунку отца, нежели по памяти сына. Отец в истории обучения сына у Когена сыграл свою роль. Первоначально Коген принял молодого человека из России не очень дружелюбно. Скорее всего, как всех, как обычного ученика. Но ведь не совсем обычным наш поэт хотел быть с детства – композитором, как Скрябин или Глиэр, пианистом, как Исайя Добровейн. Какое счастье, что кто-то из них раскритиковал его сонату!
В Марбург он, как известно, приехал в конце первой декады мая , а уже 8 июня у отца и сына завязывается переписка по поводу портрета, который хотел бы сделать с профессора Когена русский академик живописи. Согласимся, что здесь есть какая-то излишняя торопливость. Кого: отца, сына или посредницы некой г-жи Рубинштейн, сын которой состоял в учениках и был одним из любимцев профессора. Такое намерение появилось у отца, привыкшего делать портреты с известных людей. С натуры и по документальным свидетельствам. Возьмем хотя бы замечательный портрет Лермонтова написанный сепией в 1891-м году Леонидом Осиповичем. Расхлебывал за намерение отца и общую несогласованность сын. Младший Пастернак пишет о реакции Когена: «Он был удивлен и шокирован этим «навязываемым ему заказом», тем более, что не знал твоего имени и нашей национальности. Теперь, когда Коген узнал….., что ты – знаменитость и что еврейство твое вполне безупречно…» Дальше идут очень интересные подробности, связанные с экономической стороной предприятия, свидетельствующие в том числе о том, что молодой Пастернак уже хорошо разбирался в материальной и нравственной сути дела. К сожалению, всё так сложилось, что ученики и поклонники Когена заказали «одному художнику-еврею за плату рисунок с него»… Услуги старшего Пастернака оказались не нужны. Жаль. Впрочем, в том рисунке с натуры, который старший Пастернак, будучи проездом в Марбурге сделал с Когена, есть еще одна фигура – собственного сына. И это одно из драгоценнейших свидетельств молодости поэта.
Из чувства столь модной ныне политкорректности предыдущий эпизод можно было бы и опустить. Но, интересуясь и Марбургом, и Германией, я наткнулся как-то на газетную фотографию. Она сделана была пару лет назад, недавно, но в печальную дату «хрустальной ночи»? значит? 9 или 10 ноября: группка людей в Марбурге столпилась на небольшой площади в центре, где раньше стояла городская синагога. Напомню, что Марбург в войну не бомбили.
Ну, а как же Коген, как же его вспыхнувшая доброжелательность по отношению к умному юноше из России? Учитель всегда шире и добрее ученика. Он, правда, не всегда знает, что тому делать с его призванием. А потом Пастернак, да, впрочем, и его отец, были по воспитанию и общению людьми скорее русским, а значит и с вполне русскими целями. В том же письме есть и еще одно признание на этот счет. Сын отцу: «Ни ты, ни я – мы не евреи. Хотя мы не только добровольно и без всякой тени мученичества несем всё, на что нас обязывает это счастье…, не только несем, но я буду нести и считаю избавление от этого низостью; но нисколько от этого мне не ближе еврейство».
Так вот, Коген всё-таки встретил своего русского ученика. Но какая проза, как точны детали! И кого интересует, было так или все же было по другом? В вечности осталось все так, как это нарисовал поэт. «Охранная грамота» – до чего же опасно и в собственной лекции, и потом в собственном романе приводить такие цитаты. Чтобы всем стало ясно, как писал прозу небожитель и что приблизиться к подобному сегодня не получается, невозможно?
«…сады пластом лежали на кузнечном зное, и только стебли роз, точно сейчас с наковальни, горделиво гнулись на синем медленном огне. Я мечтал о переулочке, круто спускавшемся вниз за одной из таких вилл. Там была тень. Я это знал. Я решил свернуть в него и немного отдышаться. Каково же было мое изумление, когда в том же обалденьи, в каком я собирался в нем расположиться, я в нем увидел профессора Германа Когена … Его интересовали мои планы. Он их не одобрил. По его мнению, следовало остаться у них до докторского экзамена, сдать его и лишь после того возвращаться домой для сдачи государственного, с таким расчетом, чтобы, может быть, впоследствии вернуться на Запад и там обосноваться. Я благодарил его со всей пылкостью за это гостеприимство».
О лукавство художника. Ему было не разойтись с Россией. Ну, прощай, философия!
Глава девятая
Лекцию перенесли. Позвонила моя старая приятельница Барбара, ведающая здесь, как я уже писал, славистикой. Но славистов и людей, занимающихся русистикой и русской литературой, в Марбурге довольно мало, зато много эмигрантов, для которых очень важен человек, только что приехавший с родины. Поэтому-то лекцию из университетской аудитории перенесли в кафе «Корона» возле ратуши. Не по времени, а по месту. Демократичная Барбара посоветовала мне не волноваться, у них это обычная практика. Её студенты-русисты обязательно все придут, будет человек двадцать. Всем удобно: те, кто приедут прямо с работы, заодно и закусят.
Никакого волнения, тем более ущемления моего достоинства я не учувствовал. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Я уже давно перестал думать, что наука и нормальное научное общение происходят только в больших аудиториях. Потом мелькнула мысль и о политической подоплеке. Что немцам наши Ломоносов и Пастернак, эти имена лишь кое-что прибавляют к славе города. В конце концов и Джордано Бруно читал лекции здесь по пути из Лондона в Италию. Город, магистрат и университет, которым город живет, заботятся об эмигрантах предыдущей волны, не потерявших еще связь с русской культурой, и о совсем новых своих гражданах. Валяйте, валяйте, кафе так кафе.
Меня только одно при этой перемене забеспокоило. Серафима с ее внезапным звонком из Берлина. Сколько же ей лет, бодрая, значит старуха, если собралась приехать. Удивительно, ее утренний звонок сидел в моем сознании, как гвоздь. Значит все время я хожу с тремя гвоздями в голове: лекция, Саломея, Серафима…
Барбара будто почувствовала мою озабоченность: «Если ты, Алексей… – сказала она по-русски, и совершенная немецкая техника сохранила все обертоны ее голоса. Говорит Барбара почти без акцента, как и положено ученице знаменитого Фасмера. – Если ты кого-нибудь пригласил на лекцию, то мы в университете везде развесили объявления, куда ее перенесли. Найдут!»
Барбара всё-таки удивительный человек. Такую любовь к предмету своего вожделения я видел только у пьяниц, если те любят, то любят. Не было русского, специально приезжавшего в Марбург или коротко транзитом его проезжающего, которого бы она не приветила. Собственно, поэтому она знает всю московскую литературную элиту, а кто из писателей или поэтов не стремится завернуть в Марбург! В её истории есть некий до конца не познанный мною нюанс: в свое время, видимо, вместе с родителями, она эмигрировала из Риги. А вот университет заканчивала в Берлине и слушала того самого Фасмера, профессора Санкт-Петербургского университета, который в Германии выпустил «Этимологический словарь русского языка». Такого словаря у нас в то время и в помине не было.
– Барбара, ты будешь переводить или мне строить выступление по-немецки? – Спросил на всякий случай, ответ знал заранее.
– Нет-нет, не по-немецки. Русским студенты владеют, для них это будет и дополнительная практика. Для новых эмигрантов требует только русский. Мэру я буду шептать перевод на ушко, если он, конечно, придет.
Кафе «Корона» на рыночной площади, напротив фонтана со скульптурой святого Георгия, я нашел быстро. Полюбовался еще раз на ратушу – петух на часах с позолоченным циферблатом запоет и захлопает жестяными крыльями ровно в шесть, когда я начну лекцию. Немцы точны, как швейцарские часы. И площадь, хоть и маленькая, и ратуша замечательны. Круг почти замкнулся: дом фрау Урф – Barfusserstrasse – где, по семейным преданиям, Ломоносов познакомился с будущей женой, в двух минутах ходьбы, и здесь же «когтистые крыши», под которыми жили и Мартин Лютер, и братья Гримм. Площадь чуть скошена с подъемом от ратуши к фонтану и дальше, к итальянскому ресторану. Еще выше – замок, но это уже атмосфера Кафки.
Всё вылизано, чистенько, никаких машин, классический булыжник. Возле самой ратуши, с одной стороны кафе с летней террасой, с другой – магазин немудреных сувениров. По воскресеньям здесь, конечно, традиционный маленький базар: пяток фургонов с продуктами – мясо и мясные полуфабрикаты, колбасы, сосиски и ветчина, – всё такое чистое и привлекательное, что, кажется, сделано из пластмассы, не в коптильном цехе и колбасной, а в мастерской художника. Палатки и корзины с овощами и фруктами. Здесь, на площади, в День города ставят огромные бочки с пивом, и сам бургомистр и обер-бургомистр наливают желающим пиво. Это я видел по телевизору в рекламном ролике к местным выборам. Уже потом рассказали: ни одна из нескольких сотен пивных кружек, которые привозят к этому случаю на площадь, не пропадает и не бывает разбита.
Ну, об аккуратности немцев мы все наслышаны. Если бы не она, мы многого бы и не узнали. Некоторые бумажки, связанные с годами ученичества и Ломоносова, и Пастернака, сохранились только благодаря педантичной старательности людей, через чьи руки они проходили. И тут я с благодарностью взглянул в сторону ратуши. Хотелось бы также мысленно пронзить стоящие вокруг дома и послать благодарный взгляд и в сторону Государственного архива. Сколько там еще хранится русских бумаг! Ведь архив-то Гессенский, это понятие много говорит русскому историку.
Мягко звякнул колокольчик. Кафе с дверью, выходящей на площадь, довольно большое, чуть темноватое: или стилизованное под старину, или просто старое, и дизайнер постарался несколько его осовременить. Это два зала с темными потолками, тяжелая, из прошлого или позапрошлого века, мебель – столы и лавки – по стенам старые гравюры и предметы старинного быта. Мы-то, русские, в свое время рубили тяжелые славянские шкафы с массивными тумбочками, сдавали в переплавку через «Вторсырье» бабушкины чугунные и работающие на древесном угле утюги и дедушкины сохи и однолемешные плуги, а бережливые немцы всё хранили по чердакам и подвалам и сейчас выставили в своих кафе и лавках антиквариата. Где наши дуги над тройками лошадей, расписные прялки, старые дубовые лавки, резные ендовы, вышитые петухами полотенца, санные полсти из овчины, расшитые поверху разноцветным сукном? Куда всё это, русское, делось? Немцы, как я сказал, сохранили. Может быть, хозяину кафе не пришлось даже лазить по антикварным магазинам, и он просто покопался в деревенском бабушки и деда?
В первом зале – массивная стойка с арсеналом выпивки и набором питейных принадлежностей все мрачно сверкало, как сверкает инструмент в камере пыточных дел мастера. Здесь сидели обычные тихие, одинокие немцы. Каждый уткнулся в свою газету, в своё пиво, в свою тарелку с солеными орешками или свиными почками с капустой. Тут царствовал бармен с доброжелательным лицом крупной лепки. Его, видимо, предупредили и даже, может быть, описали мою внешность: величественным жестом он указал мне на дверь слева. Она вывела меня во второй зал. Зал был свободен, посветлей и декорирован повеселее. Деревянные, пропитанные временем столы были сдвинуты вместе и напоминали взлетную полосу, ожидающую неизвестного прилета. По бокам её, вдоль всей длины, стояли лавки.
Я был первым, самое время подумать в одиночестве над некоторыми темными местами лекции. Всё ли, добытое историей, в том числе историей литературы, стоит выливать на головы просто интересующихся литературными сплетнями профанов? Но пауза оказалась слишком короткой. Подумать, как следует, мне, естественно, не дали.
Первым на лекцию пожаловал всем, в том числе и мне, известный Людвиг Легге, председатель Нового литературного общества Марбурга. Именно ему местная публика и обязана таким поразительно широким охватом знакомств с мировыми литературными знаменитостями, в том числе русскими. По своему обыкновению, он был в шляпе, которую, правда, сразу же снял, как только увидел меня в зале. Господин Легге несколько фатоват. Из нагрудного кармашка его пиджака всегда полувысунут платочек расцветкой под галстук, сколько бы галстуков на протяжении недели хозяин ни менял. Его шляпа такой же индивидуально мифологизированный предмет туалета, как черный шарф на плечах директора петербургского Эрмитажа господина Пиотровского и как белый – на плечах знаменитого русского кинорежиссера и актера Никиты Михалкова. Их шарфы, носимые и зимой и летом, ни от какого ненастья не спасают, так же как шляпа господина Легге совсем не для защиты его продолговатой головы. Она просто вечная ее принадлежность. Может быть, он даже спит в ней.
Мы немножко с господином Легге поговорили о литературе. Но тут появилась жена господина председателя. Эта суховатая энергичная дама занимается тоже очень важным делом. Ежегодно, уже лет двенадцать, она выпускает по несколько настенных перекидных календарей – мужские, женские, молодежные, детские. Календари – с видами города. Здесь она пользуется не только фотографиями, но и картинами местных художников. Она подарила мне календарь на следующий, 2005-й год и высказала предположение: а не сделать ли ей выставку обложек к этим календарям. Где-нибудь, скажем, в Москве, если конечно министерство даст деньги. Будет ли эта замечательная галерея видов Марбурга, что способствует росту туризма. Последняя мысль принадлежала уже мне. Госпожа Легге была этим польщена после чего выбрала себе место за столом, но подальше от своего светского мужа, достала блокнот и ручку и приготовилась записывать обходительного русского профессора.
Потом в зале возникли сразу две еврейские семьи, эмигранты, наши соотечественники. Соотечественники ведь не бывают бывшими? Они пришли чуть раньше, чтобы познакомиться со мною и, может быть, узнать некоторые литературные новости. Вообще-то, они регулярно смотрят российское телевидение и, в частности, программу НТВ. Я им сказал, что тоже узнаю все новости из передач канала НТВ и статей «Литературной газеты». Но при слове «Литгазета» возникла пауза, и о новостях жизни принялся расспрашивать их я. В обеих семьях папы, мамы и почти взрослые дети. Дети устроены, в университете, обучение в Германии бесплатное, учись не хочу. Один папа химик, доктор наук, здесь тоже устроился неплохо, кажется даже по научной части, другой папа вроде бы преуспел в сфере коммерции. Здесь хорошо, но по России ужасно скучают, там вольно, там воздух каких-то иных переживаний. Хорошо, что город устраивает подобные культурные мероприятия. Слово «духовность» произнесено не было. Мне показалось, обе семьи все же рассчитывали в Германии на нечто большее… Расселись, заказали себе какую-то еду. Манком для них, наверное, стала фамилия Пастернак. Я вспомнил только недавно промусоленную историю про Когена и папу Пастернака. История никогда не говорит «конец», «баста», она всегда продолжается.
Разговор пришлось заканчивать, потому что в зал, как пташка, впорхнула Барбара. Понятие «пташка» относится к ней только в разрезе брызжущего из нее оптимизма. Барбара совсем не худенькая девочка, но невероятно мила, обаятельна и редкой доброжелательности. Я знаю ее давно и очень люблю. Мы встречаемся каждый год в Москве, через нее идет медицинская поставка лекарств для Саломеи. Делает она это в высшей степени аккуратно. Мы оба в курсе всех событий в наших семьях. У нее сейчас не очень счастливые дни, она только что перенесла тяжелую операцию на бедре, я ей очень сочувствую. На словах «Как здоровье Саломеи Нестеровны?» мы целуемся совсем по-родственному. Я спрашиваю у Барбары, где Вили. Это ее постоянный и многолетний спутник. Я не лезу в их дела, но более преданного ей человека не знаю. Вили тоже русист и преподает в школе. Русским он овладел прекрасно, в нюансах и самых сложных идиомах. Иногда я задумываюсь над тем, почему эти великолепно образованные и блестяще владеющие профессией люди не сделали большой карьеры. Это происходит тогда, когда люди заняты делом, на доказательства и горлопанство, я-де лучший, времени не остается. «Вили скоро приедет, – отвечает Барбара, – у них в школе сегодня педсовет».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.