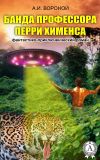Текст книги "Марбург"

Автор книги: Сергей Есин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Глава шестая
Я люблю то, что все называют прогулками. Развлечение ли они? На самом деле, под монотонный ритм шагов замечательно думается, мысли приходят в порядок, наблюдения сортируются, выстраиваются приоритеты, проявляется главное. Попробуйте, потрясите решето с горохом, сразу станет ясно, где начнут копиться наиболее крупные фракции. Прогулка – это вернейший способ и подготовиться к лекции, даже если ты об этом не особенно думаешь. Лекция, завтрашняя или послезавтрашняя, все равно сидит у тебя в подсознании, как самое главное в жизни, и о чем бы ты ни думал, как бы крепко ни размышлял о чем-нибудь постороннем, мысль всё равно, как дрессированный заяц, соскочит на своё и засучит лапками по барабанной шкурке. Для меня прогулка, бессмысленные, казалось бы, шатания наугад – еще и возможность привести собственные мысли в порядок. Но здесь у всех у нас общий прием.
Пастернак, как известно, любил работу в саду, с лопатой, с землей. Пересаживал растения, окучивал картошку, любил, кстати, жечь костры, а зимой, в юности, всегда сам, не доверяя никому, топил печи. Ну, последнее-то, печи, огонь – особый разговор, особая субстанция, здесь пламя. Но ведь, и граф Лев Толстой любил физический труд, рубить ли с плеча, ходить за сохою, и граф Алексей Николаевич Толстой, тоже писатель немалый, чистил, например, самостоятельно обувь в семье: пять, десять, пятнадцать пар. Здесь, видимо, еще и тоска писателя, ведущего сидячий образ жизни, не только по мышечным усилиям, а по движению, возбуждающему мысль.
После внезапного, не как в романе, где всё должно быть подчинено своей гармонии, а как в жизни, которой позволено иметь свою шершавую логику, после телефонного разговора с Серафимой мне надо было еще и успокоиться. Звонок из такого глубокого, как Тускарора, прошлого. Будто судьбе показалось мало тащить меня на привязи не самой легкой работы, требующей сосредоточенности духовных сил, на привязи болезни жены, постоянно держащей меня в своем поле и волнении. Ей понадобилось на мгновение переворошить во мне все нежданной встречей во Франкфурте, а теперь еще и звонком из юности! Плотно меня, оказывается, преследует прошлое. Правда, оно существует, если в нем кто-то нуждается и пока есть настоящее. Но сегодня я постоянно ищу отпущение своих собственных грехов у любимых персонажей.
Закрылась под мелодичный звон дверного колокольчика гостиничная дверь. Движение не как после утренней разминки из двери направо, в сад, а из двери налево, через мост, под которым в канале плавают утки и сказочные лебеди. Дальше через автомобильную стоянку возле нового здания университета по большому кругу к вокзалу. Дорога необязательных размышлений.
Вряд ли особо влюбчив был Ломоносов, тоже, видно, не раз прогуливавшийся вдоль тихих берегов реки Лан – Марбург стоит на Лане. И в железнодорожных справочниках: Франкфурт-на-Майне, Марбург-на-Лане. Плотная мужицкая нога в тяжелом башмаке и с сильной икрой, натягивающей нитяной чулок, здесь, как иванушкино копытце, могла отпечатать на сыром бережке свой след. Но поэт с Беломорья имел слишком уж широкий охват – от грома пушек под Хотином до беззвучных перемен небесных картин северного сияния, – чтобы еще множить и провоцировать собственные лирические привязанности. У каждого поэзия вызревала и возбуждалась чем-то своим. Где они, «песенки любовны» этого деревенского мужлана, вызревшего в европейские, а потом и в мировые гении?
А вот другой великий русский поэт – оговорки здесь нет, как нет филологической ошибки или натяжки, когда дело доходит до гения, города начинают бороться за звание родины, – для него каждая влюбленность это новый поэтический импульс. Влюблялся, чтобы поддаться искусу нового цикла стихов или потому, что просто влюблялся в стихи-следствие? Пойди здесь, разберись. Но сознание этого поэта редко загоралось от величия небесной механики. Его, кажется, не привлекал просто романтический силуэт. Ему обязательно нужен был крупный план, глаза, ведшие в лабиринт души, знание или намек на знание потаенных черт и обнаженную сущность характера.
Сначала был влюблен в двоюродную сестру, Ольгу Фрейденберг, с которой затем находился в переписке чуть ли не полвека, потом в хозяйку приютившего его дома, когда поехал на Урал работать конторщиком, Фанни Збарскую. В дразняще-жестокой переписке с сестрой, полной драматических намеков, вдруг промелькнет бытовая, как нескорое предчувствие, фраза: «Я взял себе 35-рублевый урок с девицей по латыни. Девица – иркутская». Девица не совсем случайная – это Елена Виноград, двоюродная сестра его ближайшего друга юности Александра Штиха. Но в общей панораме это, так сказать, фигуры второго или третьего плана. Этому визиту тоже предшествовала переписка. Пока на первом плане Ида Высоцкая, дочь знаменитого чайного фабриканта и женщина, которой мы обязаны легендарным «Марбургом»: «…Отвергнут». Она приедет к нему туда в I912-м, по пути, так сказать знакомясь с немецкими достопримечательностями, в Марбург. Есть смысл сделать пропуски: донжуанский список Бориса Пастернака никто вести не собирается, да и по типу это другой человек. Но разве существует лирический поэт без любви? У поэта предопределено прошлое будущим. Пропустим несколько лет. В 19I7-м сначала на горизонте, потом, как говорят кинематографисты, «на крупешнике» вновь появилась «иркутская барышня» Елена Виноград. «Я не люблю правых, не падших, не оступившихся, – скажет Юрий Живаго Ларе. – Их добродетель мертва и малоценна». Заметим, что здесь один русский классик идет вслед за другим, – у Достоевского тот же мотив. И дальше Живаго продолжает: «Красота жизни не открывалась им». Так как же «иркутская барышня»? Открылась ли ей эта красота? Открылось нечто другое: боль и трагедия. Она потеряла на фронте жениха Сергея Листопада, приемного сына философа Льва Шестова. (Красавец-прапорщик успел отговорить Пастернака от добровольческого рвения в защиту «малых народов», описав ему кроваво-грязную изнанку войны.) Любовь не сложилась, тень погибшего жениха не отпустила, но сложилась книга «Сестра моя – жизнь», сделавшая Пастернака знаменитым. И, как учат и опыт и теория, чтобы уйти от одной любви, надо уйти в другую. Что здесь надо пропускать?
Уличное движение в центре Марбурга организовано по кольцу против часовой стрелки, на машине это большое кольцо можно замкнуть за десять-пятнадцать минут, но приезжему понятно: лучше идти пешком – чужая жизнь хороша и интересна именно в подробностях.
За мостиком с лебедями и утками большая стоянка автомобилей преподавателей. Все машины с разными наклеечками на переднем стекле: не на каждую площадку поставишь машину, а лишь в зависимости от наклеечки, от ранга. Стоянка вплотную примыкает к административному зданию университета, современному – стекло, бетон, разводные двери, – но довольно безобразному, построенному с привычной немецкой экономичностью лет тридцать назад, экономность переходящая в скаредность, что и отразилось на здании. Внутри я уже побывал, довольно скучно, чуть чище, чем на филфаке МГУ в Москве. Там тоже сэкономили, рядом с высотным зданием на Ленинских горах выстроили многоэтажный, длинный как кишка, барак. Не спасает даже и башня с часами и флюгером наверху, построенная рядом. Это еще и колокольня. Не спасает, не облагораживает. Всё пространство в университетском дворе и около – это еще не тот университет, вернее не то здание университета, где учился у Вольфа Ломоносов, а у Когена – Пастернак. Оба немецких профессора были людьми нервными, оба высоко чтили своих учеников и привечали. Один потребовал за свое членство в Российской Академии и переезд в Петербург какие-то немыслимые деньги и остался в Германии, а другой, когда папа-Пастернак, знаменитый художник и академик живописи, хотел написать с него портрет, ответил, что позирует только художникам иудейского вероисповедания. Странноватые ребята! Здесь возникает вопрос о христианстве и православии Пастернака, но об этом позже, и стоит ли об этом говорить в лекции? Пока пропустим? Но как же найти переход к оставленной теме влюбленности Пастернака? И какая, собственно говоря, поэзия без любви?
После нового университетского комплекса лучше свернуть направо и, продолжая удаляться от центра города по пешеходному мосту, поддерживаемому на весу стальными канатами, пройти на другую сторону Лана. Внизу – неширокая река, слева, в ее заливаемой весной пойме, вдоль нижнего города до другого моста – волейбольные и баскетбольные площадки, футбольные поля, детские городки, беговые дорожки, а направо река немножко побежит вдоль улиц и строений и уткнется, как конь в кормушку, в ослепительно бирюзовые поля и пастбища. Именно, если смотреть вправо, на бывшей окраине города, практически в деревушке, стоял трехэтажный каменный дом, где сейчас висит мемориальная доска Пастернаку, со строкой, взятой из его текстов: «Прощай, философия…» Но как бы мне, повторяя чужие вехи, даты и события, не запутаться в подробностях. Вот еще одна: в этот дом, через одиннадцать лет после того как он жил там у педантичной фрау Орт, Пастернак приедет, чтобы показать «свою» комнату и эти места молодой жене Евгении Лурье. Марбург ей не понравился.
Собственно, уже на этом висячем мосту становится ясно, что Марбург до сих пор город студенческий. Почти по прямой этот мостик соединяет другой берег Лана, на котором расположены современные, бесконечно-вытянутые здания факультетов. Выстраивается маршрут: от старого здания университета – доминиканского аббатства, экспроприированного решительным маркграфом Филиппом для первого в Германии протестантского университета (эта фигура отчасти напоминает мне бывшего комсомольского деятеля Юрия Афанасьева: отбросив, как негодные, идеалы юности и став одним из лидеров «перестройки», он устроил в заповеднике и родимом гнезде советской партийной элиты Высшей партийной школе Гуманитарный госуниверситет, мемориальных досок на котором пока нет) – через новые административные здания и ряд факультетских аудиторий к основной учебной площадке. На ней, вытянувшейся вдоль реки, расположена и менза, университетская льготная столовая. Пешеходный мост это артерия, по которой в одну сторону идут голодные, а в другую – сытые.
Именно на этом пешеходном мосту, упруго раскачивающемся под шаг идущих и на всех спицах едущих по нему, видно, как много в Германии молодых людей, желающих получить университетское образование. Еще заметно: люди эти подчас очень этнически отличаются друг от друга: немцы, японцы, китайцы, турки, а теперь и русские – их тоже много. В восемнадцатом веке из России поморский крестьянин тоже был не один: с ним рядом учились семнадцатилетний вьюнош Дмитрий Виноградов и Густав-Ульрих Рейзер, сын одного из служащих Академии. Во времена Пастернака, как осталось у него в бумагах, среди студентов были испанцы, англичане, японцы.
Идем вдоль реки, по её течению, то есть влево, почти в обратную сторону. Как только заканчиваются современные учебные корпуса, из-за домов выскальзывает шоссе и мчится вдоль реки, они идут параллельно – шоссе и река. И метров триста-четыреста придется идти по очень скучному шоссе, держа по левую руку зеленые заросли прибрежья – Ho-Chi-Minh-Pfad, тропинка Хо-Ши-Мина, как называют это место студенты, а справа – бензоколонка, хозяйственные магазины, частные мастерские. Но до этого, сразу за университетскими зданиями, роскошный и полупустынный сквер с детской площадкой, памятником какому-то деятелю просвещения и газонами в английском стиле. И все это время, стоит лишь повернуть голову чуть влево, будет виден огромный графский замок на скале и ни одной дымящей промышленной трубы. Может быть, в городе есть немного электроники, а так никакой промышленности, чуть ли не сплошное средневековье. И почему-то везде здесь вспоминается мне роман Кафки. Для русских есть что-то кафкианское в самой атмосфере совпадений этого города.
Но вот гаражи, витрины магазинов бытовой техники и хозяйственных принадлежностей кончились. Лютую зависть вызывают у меня эти стиральные и посудомоечные машины новейших фасонов, электрические пилы, лобзики, дрели и шлифовальные машины, кухонные комбайны, садовые тракторы и мотоблоки, похожие на аппаратуру иллюзионистов в цирке – никель и яркая краска. А какой садовый инвентарь – лопаты, грабли, вилы, мотыги – с ручками, так же тщательно отделанными, как епископские посохи и маршальские жезлы! Впрочем, у нас на родине это все тоже есть, но здесь будто видишь первоисточник. А какой интерес эти предметы и механизмы вызвали бы у Ломоносова и Пастернака. Одного захватывала причинно-следственная связь, механика и взаимодействие, его ум парил над явлениями природы, рычагами жизни и докапывался до причин. Другой, который ближе к нашему времени и в детстве не вкусил соленого пота и мышечного напряжения, того, что мы называем простой работой, как ни странно, любил физический труд, садовый инвентарь, любил, раздевшись до трусов, работать в огороде. Воистину, великие люди всегда странные.
Выставка совершенства человеческого гения, отлитого в бытовые формы, завершилась, и сразу перед зевакой, как везде в пунктуальной Германии, гроздь светофоров, указателей, которые в таком небольшом городе имеют скорее символическое значение, и – некоторое свободное пространство. Шоссе здесь делает развилку и уходит дальше вперед в какие-то германские просторы, одно ответвление поворачивает направо, к зданию вокзала, а другое налево и, как бы по малому кольцу, возвращается в город.
Быстрый взгляд налево – туда, в глубь, в старину. Здесь все изменилось значительно резче, чем за то же время на Волхонке в Москве. В доме, часть которого занимает сейчас Музей частных коллекций, раньше жили Пастернаки. А тут, сколько ни напрягай воображение, эту благополучную, прямую, буржуазную улицу нельзя себя представить такой, как она и город предстают на открытках, которые Пастернак присылал из своего ученичества. Открытая земля, грунтовая дорога вместо улицы, бревенчатые мостки, зелень, растущая естественно, а не в скверах и парках, деревянные палисадники возле каменных домов, соборы, вырастающие не из гранитных или ступенчатых площадей, их окружающих, а непосредственно из земли, из грунта, как цикорий, спаржа и морковка.
Что же за обувь пришлось носить поэту, если бы он остался еще и на осенний семестр?
Но все-таки пока пойдем направо, к вокзалу.
Может быть, этот вокзал сделать неким обрамлением моей лекции? Важно ведь не то, что ты читаешь студентам, какие факты приводишь, а как эти факты и весь образ лекции и лектора изменяют сознание слушателя, вызывают в нем внутреннюю работу. Скользят по сознанию или «заводят мыслительный механизм»?
Вряд ли на месте вокзала был когда-нибудь постоялый двор или станция каких-нибудь средневековых дилижансов. Эта часть города, судя по всему, осваивалась позже, с появлением железной дороги. Впервые в городе Ломоносов и его юные русские попутчики появились со стороны Франкфурта, это дорога очень старая и пролегала вовсе не здесь: она не была вынуждена искать себе более спрямленный и по вертикали и по горизонтали путь. А то какое было бы невероятное удовольствие устроить встречу двух гениев русской литературы на марбургском железнодорожном перроне. Их можно также «соединить» – тут-то уж наверняка – в центре, возле ратуши, на уличках: «здесь жил Мартин Лютер, там – братья Гримм».
Вглядимся попристальнее в здание вокзала, отчасти похожее на летний павильон в Петергофе. И нечего воротить нос, ссылаться на свое историческое чутье и последнюю войну, во время которой союзники во многих городах Германии не оставили камня на камне. Марбург не бомбили ни разу, будто чья-то воля распорядилась, чтобы ни одна бомба не упала на эту средневековую сказку. Так что вокзал почти наверняка «тот» и те же самые перспективы города открываются отсюда, что и сто и двести лет назад. Прямо от вокзала идет улица –Bahnhofsvorplatz. Когда перебравшись через мост она повернет у здания почтамта и через пару сотен метров остановится в изумлении перед первым в Германии готическим протестантским храмом – церковью святой Елизаветы, – будет смысл задуматься, почему Марбург не бомбили. Но это моя догадка. А пока стоит получше вглядеться и в здание вокзала, и в ступени ведущей к нему лестницы. Этот вокзал в жизни Пастернака и всей русской литературы имеет огромное значение.
В начале мая I912 года очень скромно одетый – на нем серый отцовский костюм пошива 1891 года (зафиксировано документально) – по этим ступеням сбежал только что приехавший сюда молодой человек, чьим именем через полвека в городе назовут одну из улиц. Эпитет «скромный» приведен не случайно, в нем нет намерения приблизить к нам великого человека. Его вторая жена Зинаида Николаевна Нейгауз, оставившая после себя замечательные мемуары, пишет об удивительной скромности мужа: он, раздавая много денег в качестве материальной помощи, «жался», когда дело касалось его одежды. В его гардеробе последних лет любимыми были две курточки – одну из них, «праздничную», привез из-за границы, после конкурса, сын пианист, а другая была рабочая. Похоронили поэта в черном парадном костюме его отца – опять эти фамильные вещи, «родовая кожа», – привезенном в качестве наследства из Лондона Алексеем Сурковым. («Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» – обращался к тому в годы войны Константин Симонов.) Сурков же очень сдержанно, почти отрицательно говорил о поэте на первом, учредительном, съезда писателей. Здесь возникает тема эмиграции Пастернаков – отца, матери, сестер. Надо ли усложнять лекцию и рассказывать об этом, надо ли объяснять, почему сам поэт не поехал с ними?
Здесь, на вокзале, я вдруг почувствовал себя много спокойнее. Кажется, сам по себе нашелся ход лекции, которая до сих пор тянула и тянула меня своей композиционной рыхлостью. Ход, стержень – экскурсия по городу, где чуть не каждый дом, каждая достопримечательность может вызвать ассоциации для поворотов сюжета в здешней жизни моих героев. Браво, русская литература! Ломоносов начнется чуть выше, когда в обзор войдет старый город.
Почти впритык к вокзалу маленькая стоянка такси, аптека с зеленым крестом и кафе с белыми пластмассовыми креслами. Самое время передохнуть, выпить кофе. Кельнер – молодой парень, белобрыс, ангелоподобен, с серьгой в правом ухе. Ах, как хорошо для романа ввернуть модную гомосексуальную тему! Кельнер, как конфетка фантиком, обтянут белым форменным фартуком.
Я устаю не от хождения, не физически, а от расщепленности сознания. Но я ненадолго отогнал все остальное и сосредоточился на лекции. Обычно мои мысли будто скручены в жгут: Саломея, Роза, работа, которая называется русской литературой. Сейчас к этому прибавилось со своими переживаниями юное существо во Франкфурте, а теперь вот еще и Серафима, которая, оказывается, тоже живет в Германии. Что-то многовато здесь всего соединилось, но в географии жизни всегда есть узлы, куда стекается слишком много. Я читаю лекцию или пишу роман?
– Эспрессо или капучино? – Кельнер глядит проникновенно и внимательно, как молодой Феликс Круль в глаза лорду. Напрасно уставился, мальчик! Я играю в свои игры, сам вызываю себе запланированные видения.
Как одни молодые герои специализируются на парикмахершах или продавщицах, так я в молодости влюблялся только в актрис. Или актрисы любили меня? Раскинем новое полотно воспоминаний, широкое, как бедуинский шатер или военная палатка. Что там видно из-за распахнутого полога? В романе литературных героев у профессора и романиста возник собственный эпизод. Вот и говори после этого на лекциях, что в романах не может быть «вдруг». Роскошные, обожженные солнцем горы, далекая страна, самая южная точка бывшего Советского Союза – населенный пункт Кушка. В советской армии той далекой поры моей молодости была одна особенность: солдат не только служил, но еще и путешествовал. Подумать только, я видел огромный крест-часовню, воздвигнутую к празднованию 300-летия дома Романовых! Филолога, не очень аккуратного в посещении занятий и сдаче зачетов отчислили после первого курса и отправили в армию, но как в некотором роде интеллигентного человека определили в военную команду театра, находящегося в ведении оборонного министерства. Гадайте теперь – был ли это Центральный театр Советской Армии или передвижной театр Туркестанского военного округа, все равно не скажу. Служба среди декораций и ящиков с реквизитом. Но рядом проходили, занятые своей творческой жизнью, кумиры и кумирши, знакомые по кино– и телеэкрану.
У военной команды было много обязанностей: ставить декорации, грузить, поднимать, тащить ящики с бутафорией и реквизитом, а еще выходить в массовках, играть толпу. Но и в толпе тебя могут увидеть, было бы обоюдное желание. Какую восхитительную охоту за стриженым под нулевку солдатом из военной команды устроила, как я понял позже, когда оказался ее жертвой, Серафима! Это издержки образа жизни ведущих артисток: всё в театре да в театре, и семейная жизнь рассыпается, вынося на отмели лишь одиночество, украшенное ролями, триумфами, сумасшедшей работой и корзинами цветов, которые можно, конечно, не спеша расставлять на кухне перед ужином холодной котлетой. Правда, у Серафимы была ко мне еще материнская нежность и забота: разницей в возрасте – мне восемнадцать, ей тридцать пять.
Ах, эта прелесть армейско-театральной жизни в команде: можно ночевать в общежитии, можно лишь приходить под утро. Как правило, все одинокие и интеллигентные мальчики-солдатики, имеющие театральное, искусствоведческое или филологическое образование, были пристроены. Один ночевал у давней подружки, другой у тренера по футболу или директора бани, а третий выныривал, заметая следы, у ведущей актрисы театра – основной, как тогда говорилось, героини. Но все это поначалу складывалось не так просто: мальчику за кулисами дали шоколадку, потом в сумочке, изящной, как паутинка, принесли – дело к осени – шерстяные носочки, потом сунули кусок пирога с мясом, завернутый в алюминиевую фольгу, потом попросили вечером, после спектакля, заехать передвинуть что-то из мебели. Мебель заняла десять минут, но на ужин лебединые ручки основной героини приготовили роскошный шницель из кулинарии. Это так естественно, что мальчишкам нравятся уже пожившие, уверенные в себе женщины, да еще в ореоле славы. Кто к кому, собственно, тянулся? Кто кого больше хотел? И все могло получиться просто, ясно, без сложностей, если бы у мальчика это не было в первый раз. Много времени ушло на застенчивость и рефлексию. Она, конечно, меня любила и по-своему, по-матерински, была ко мне привязана. А я ее начал ревновать, это была страсть. Ревновал даже к основному социальному герою, вовсю увлеченному только девичьим молодняком. Потом, когда через год я вновь поступил в университет и мы расстались, вернее мое место занял новый бездомный мальчик, я понял, что не исключено, кроме неистраченного чувства материнства ею руководила профессиональная необходимость расслабиться перед спектаклем. На это меня надоумила история одной знаменитой ленинградской примы-балерины, декоративно жившей с мужем-балетмейстером, глядевшим только в сторону мужского балетного класса. Накануне спектакля ей нужен был мужчина, все равно какой – молодой, старый, дворник, слесарь. Она выходила на поиск, набросив на себя шубку поплоше, и находила его. Но какая это была дивная, резвая и мечтательно-невинная Аврора, Одетта, Никия! «Из какого сора?..» Нет, это эрудиция, достойная провинциала.
В Москве этот сезон «первой любви», вернее «первой женщины» проходил вполне благополучно. И там возникали обстоятельства, когда мальчику доводилось ревновать. Ревность входила в обязательный круг переживаний: если есть любовь, значит обязательно должна быть и ревность. Хуже было на гастролях: основная героиня, знаменитая киноактриса – это некая эмблема театра, показательная фигура. Её вывозят после спектакля на встречи с областным начальством, ее забирают на радио и телевидение, ее, наконец, селят не как всех, а в особых апартаментах, куда не всегда можно прокрасться даже по черному ходу или водосточной трубе. А если какой-нибудь выездной спектакль в дальнем гарнизоне, здесь за ней увиваются молодые, пахнущие сапожной ваксой и одеколоном «В полет» офицеры и начальники погранзастав в средних чинах. Это еще хорошо, если основная героиня, пробираясь среди кулис «на выход» и повторяя про себя реплики, с безумным взглядом тем не менее ворохнет у тебя волосы на затылке: не забыла, помню, терпи. А терпеть было невмоготу, прижать бы, стиснуть, с криком растерзать. И какая мука думать, что из зрительного зала на нее, так же вожделея, как и ты, глядит толпа.
Среди недавних видений сегодняшней прогулки внезапно возникли горы, марево над перегретыми камнями и гигантская крестообразная часовня. Самая южная точка нашей тогдашней державы – знаменитая Кушка. Гарнизон, танковая армия, вода из артезианской скважины, крошечная гостиница при доме офицеров для актеров, огромная военная палатка для рабочих, осветителей, радистов и электриков. Зрительный зал – в ангаре для вертолетов. Телевидение сюда еще не доходило, а политпросветработу и культурный досуг никто не отменял.
Если бы ему дали тогда в руки пулемет! Спектакль начинался в десять утра. За рампой варилась густая людская масса. Играли знаменитейшую пьесу Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». Массовка, в которой и осветители, и рабочие сцены, и военная команда, обливалась потом, но здесь, между выходами, можно было еще сбросить с себя шинель. Серафима играла женщину-комиссара, и всё время на сцене. Почему же так запомнился мне именно этот эпизод?
Палуба корабля, толпа анархистов, среди которых и я в рваной тельняшке. Диалог Комиссара с Вожаком. Выстрел. Серафима, опуская тяжелый маузер с закопченным навеки стволом, поворачивает к толпе обворожительно-бесстрашную голову и низким, тревожащим подсознание голосом произносит свою знаменитую реплику: «Ну, кто еще хочет комиссарского тела?» Боже, как я ее в эту минуту любил, как я хотел этого комиссарского тела, этой домашней яичницы или купат из кулинарии, которыми меня сначала кормили, этого моего сжигающего себя и всё пытающегося что-то доказать безумства. Мне, худенькому, полуголому анархистику, хотелось закричать: «Я! Я хочу! Это только мое тело!».
Но потом было еще страшнее. Конец акта, уже в зале зажжен свет, и я увидел… В первых трех рядах на табуретках сидели офицеры, а сзади огромная полуголая орущая и ликующая толпа – из-за жары в раскаленном ангаре солдат приводили на спектакль в такой странной униформе: сапоги, трусы и ремень поверх голого живота с надраенной бляхой. Почему же я так плакал после этого спектакля? Серафиму и нескольких актеров увезли на завтрак, устроенный где-то на природе. Сопли и слезы мне утирала мужская костюмер-одевальщица Верка, она была старше меня лет на восемь…
Молодой кельнер принес кофе и тут же, потеряв интерес ко мне, занялся каким-то степенным, судя по выговору американцем, усевшимся за столик рядом. Ну, загудели: американец хочет еще яичницу с беконом и тосты с черничным джемом. Что-то говорят о достопримечательностях. Schloss – это замок, понятно. Elisabet – знаменитая святая и знаменитая церковь ее имени. Тоже понятно. Ага – Пастернак, естественно. До Ломоносова уровень и кельнера, и американца не дорос. Синагога – была, разрушена при нацистах. Она находилась в центре города, почти по моему маршруту. Сейчас это лишь пустая, мощеная камнем, площадка внизу, с другой стороны скалы и замка. В каждую годовщину Хрустальной ночи, когда нацисты били витрины еврейских магазинов и убивали владельцев, здесь собираются люди. Мужчины в кипах на головах. Возможно, именно к общине этой синагоги был приписан профессор Коген.
Но каким образом и почему в этом разговоре, половину из которого я не понимаю из-за ужасного акцента американца, а другая половина уносится ветром, возникает имя первого президента Германии – как считается, передавшего власть Гитлеру, – маршала Гинденбурга?
Чудный день, сегодня не вторник, не четверг, не суббота – это дни диализа Саломеи. Сегодня она дома, значит, пауза в моей вечно напряженной психике. Можно даже отключить телефон, который я никогда не отключаю, сегодня ничего не произойдет. Опасность наступает, когда к одной гидросистеме – к человеческому телу, подключают другую – огромный аппарат, клубок трубок, насосов, абсорбирующих кассет и электроники – искусственную почку. Жизнь на стыке природного и человеческого. Какое количество опытов и теорий, находок и изобретений, настоящих подвигов, подчас самоотверженных, тысяч химиков, физиков, электронщиков, металлургов и стеклодувов понадобилось долгие годы и века, чтобы продлить и сохранить жизнь Саломеи и многим ее обделенным жизненной удачливостью товарищам.
Я все время держу ее в памяти. Раньше, взглянув на часы, я мог точно сказать: сейчас она стоит за кулисами и ждет выхода, а сейчас поёт арию Далилы, Амнерис или ведет дуэт с Эскамильо. Взглянем на часы. Одиннадцать часов тридцать минут – прибавим два на разницу во времени – час тридцать. Значит, варит кашу собаке, чтобы остыла до вечера. Сама она в два съест сырник и, подумав, все же выпьет полчашки зеленого китайского чаю. Какая мука – экономить на питье, не разрешать себе в жаркий день выпить стакан кваса!
Кофе допит, кельнер, блестя глазками, подлетел с привычным блюдечком, на котором лежит кассовый чек, и где я оставлю ему два евро за этот самый кофе плюс чаевые. Не мало ли?
Тут же возник, другой «по-существу» вопрос: во сколько прибывал поезд, на котором из Берлина приезжали сестры Высоцкие, и во сколько уходил во Франкфурт тот, на котором Пастернак уехал на свидание к влюбленной в него двоюродной сестре Ольге. Узнать это, проведя определенные исследования, можно, специалисты знают, что это не праздное любопытство. Ступени, наверное, всё же не те, а вот вокзал никуда не сбежал, он на том же самом месте. Ой, недаром я уже писал, что Пастернак всю свою жизнь не влюблялся в женщин одними глазами. Но по порядку.
Сначала явление самого юного героя. В конце первой декады мая, в отцовском сером костюме – этому, повторяю, есть документальные подтверждения, у классиков в жизни всё подтверждено, почта из Москвы доставляла письма часто на третий день, мобильный телефон с ромингом еще отсутствовал, было не то что тоскливо, душа требовала общения с близкими, писали и переписывались много, – он сошел с берлинского поезда, чтобы, пройдя вокзал, оказаться на этой площади. Что сначала – первые впечатления или «зачем»? Приехал слушать курс философии у главы Марбургской школы неокантианцев Германа Когена.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.