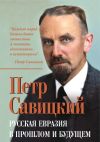Текст книги "Евразийство между империей и модерном"

Автор книги: Сергей Глебов
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 52 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Разумеется, Трубецкой не был одинок в своем представлении о существовании культурных ареалов, защите равенства культур и убежденности, что европейские заимствования вредны. Он наследовал значительной традиции, которая конструировала большие культурные сообщества, ареалы, зоны и цивилизации в течение столетий европейской истории. Идея культурно-исторической изолированности, существования цивилизаций, определяющих историческую и культурную судьбу входящих в них народов, появляется в Европе в контексте осознания своего отличия от мира ислама36. Однако это различие концептуализируется не в культурных, а в конфессиональных терминах, присущих домодерным обществам. В Новое время европейцы, благодаря путешествиям и развитию картографии, начинают придавать культурным различиям все большее значение, конструируя цивилизационные особенности тех или иных регионов37. Идея цивилизации как культурно замкнутого пространства получает мощный импульс, когда Просвещение дает европейцам осознание собственного прогресса, вступая, таким образом, в противоречие с заложенными в самом Просвещении принципами универсальности законов человеческих обществ38. В романтическом дискурсе идея особой культуры выходит на первый план, подрывая универсализм рационального европейского гуманизма. Романтики, проповедовавшие, говоря словами Артура Лавджоя, принцип «диверсификационизма», ценили скорее различия между культурами, нежели универсальные категории рационального разума39. Они спорили о специфическом народном духе, об исторических народах, связывая зарождающийся немецкий национализм с историческим нарративом Европы, проходящим от Античности, через Средневековье, к Реформации и Возрождению. Поэтому пангерманизм был двусмысленным конструктом, объединившим идею Deutschtum с представлением о европейской цивилизации и немецкой нации одновременно. В дискурсе немецких романтиков ключевую роль играли темы родства, которые организовывали пространство согласно генетически установленным признакам. В романтических описаниях органическая метафорика, в которой народ, нация или государство виделись прежде всего сквозь призму биологических аналогий, была центральной, а поскольку неизменяемость видов и невозможность скрещивания была аксиоматичной, эти взгляды зачастую переносились и на культуры. Славянофилы в России, следуя примеру немецких романтиков, говорили о национальной особенности славянского мира. Подобно пангерманизму, славянофильство было двусмысленной конструкцией, предполагавшей некое единство славянского мира (культурное прежде всего), которое в то же время подрывало географическую, культурную и языковую целостность Российской империи40.
Одним из первых российских авторов, сформулировавших идею культурно-исторического типа и отдельной, изолированной цивилизации, состоящей из группы родственных народов, был Николай Яковлевич Данилевский. Профессиональный биолог и критик Дарвина, Данилевский предполагал существование славянского мира, в котором России предназначалась роль лидера и объединяющей силы41. Подобный взгляд разделял и В.И. Ламанский – один из вдохновителей евразийца Савицкого, заимствовавшего у него идею особого географического мира России42. Однако у Ламанского, как и у Данилевского, особость России была неоднозначной, и их основной пафос состоял, прежде всего, в выделении сообщества славянских народов по генетическому признаку, что подрывало дискурсивное единство пространства самой России. Да и различие между Европой и Россией как у одного ученого, так и у другого не носило четко выраженного характера43.
Романтическое утверждение существования особых национальных культур и распространение расовых идей о множественности источников происхождения человечества поставили вопрос о том, каким образом распространяются культурные признаки. Начиная со второй половины XIX века в Германии развивается ареальная этнология, стремившаяся объяснить наличие одинаковых признаков у разделенных расстоянием культур. Благодаря случаю Трубецкой поселился в Вене, где с 1904 года преподавал Вильгельм Шмидт, ставший одним из самых активных защитников теории Kulturkreisen (культурных кругов, или ареалов) и проповедовавший включение Naturvölker (неисторических народов, не обладавших государственностью и письменностью) в историю44. Источником этой теории, в частности, служили работы географа Фридриха Ратцеля, который ввел в научный оборот концепцию этнологических территорий (ethnografischeLänder), на которых во взаимодействии с природным ландшафтом формируются определенные культуры45. Идеи Ратцеля в ареальной этнологии развивали Бернард Анкерман и Фритц Гребнер46. Еще один теоретик ареальной этнологии, Лео Фробениус, присоединился к сторонникам теории морфологии культур (Kulturmorphologie), опубликовав в 1921 году небольшую книжку в духе Шпенглера, с которым он состоял в переписке и на которого, возможно, оказал влияние47. В 1920-х годах этногеография стала одним из источников геополитической мысли в Германии и сыграла определенную роль в подготовке того культурного и интеллектуального климата, в котором стал возможен нацизм48.
Разумеется, нельзя поставить знак равенства между теориями культурных ареалов, морфологией культуры и даже геополитикой, с одной стороны, и нацистским режимом – с другой. Однако любопытен тот круг, который прошла идея замкнутого культурного пространства начиная с середины XIX века – от защиты универсальности человеческой культуры и единства человечества до конструирования консервативных автаркических культур, между которыми существуют непреодолимые барьеры. Заметим, что в истории германской этнологии источником теории ареальных кругов стали романтические работы Гумбольдта. Теоретики ареальной этнологии, хотя и были уверены в превосходстве европейской или германской расы, критически относились к эволюционным теориям Дарвина, способствовавшим распространению расизма в Европе. Находясь в некотором противоречии с концепцией ориентализма Эдварда Саида, германская этнология в течение XIX века находилась под воздействием гуманистического наследия романтизма и далеко не всегда однозначно конструировала образ Другого. Так, в известной антропологической полемике между моногенистами, отстаивавшими единое происхождение человечества, и полигенистами, утверждавшими множественность источников происхождения, и следовавшее из этого неравенство рас влиятельнейший немецкий этнолог Теодор Вайц однозначно поддерживал первых. Наличие культурных различий между народами Вайц объяснял при помощи географического фактора, дав импульс исследованиям диффузии культурных характеристик на обширных территориях и стимулировав развитие ареальной этнологии, которая, в свою очередь, создавала предпосылки для культурной морфологии49. Это колебание германской этнологической традиции между универсалистскими принципами Просвещения, верой в существование неких общих для человечества законов развития и развитием романтических идей культурной морфологии не позволяет однозначно провести границу между Просвещением и романтизмом и иллюстрируют глубину взаимопроникновения двух гранд-нарративов Европы модерного периода.
Однако и в англо-американской антропологической традиции положение вовсе не было однозначным. Постструктуралистская критика колониальной этнографии обрушилась на работы Бронислава Малиновского, английского исследователя Африки, сделав из него образец этнографа-империалиста, способствовавшего трансформации репрессивного колониального режима в режим «непрямого правления» (1ndirect rule). Традиционно, постструктуралистская критика видела в таких проектах образования туземного населения и контроля над ними работу репрессивных механизмов рационалистического Просвещения, в которое вплетены инструменты европейской власти над миром. Тем не менее Малиновский высказывал детально обоснованные взгляды на колониальную практику и поддерживал, по мере возможности, туземные институты, считая, подобно Трубецкому, что европейские заимствования не способствуют развитию природных способностей африканцев. Так, защищая идеи короля Свазиленда о введении туземных практик в образование, Малиновский утверждал, что «это позволит привести их [африканцев] в мировую цивилизацию именно как истинных африканцев»50. В то же время Малиновский критически относился к позиции урбанизированных и вестернизированных африканцев, считая, что их идентичность не позволяет им отражать взгляды народа, что напоминает идеи Трубецкого о европеизированной интеллигенции. Любопытно, что взгляды Малиновского на культурное сообщество даже связывались с его происхождением – он был родом из габсбургской части Польши51.
Цивилизационные конструкции получили дополнительный стимул к развитию, когда за дело взялись политики из европейских метрополий: перед Первой мировой войной в дискуссиях европейских социалистов, озабоченных растущим колониальным противостоянием Франции и Германии, возник проект «Еврафрики» – некоего единого геополитического конструкта, в котором объединение Европы происходит в целях более мирного и рационального использования колониальных ресурсов «Черного континента»52. Напомним, что основатель панъевропейского движения, один из интеллектуальных отцов Европейского союза граф Рихард Кауденхове-Калерги исключал из своего проекта единой Европы Россию и Англию, в силу того что их интересы направлены вне Европы, но включал в него территории африканских колоний Франции, Германии и Бельгии53. Евразийцы были знакомы с концепциями Калерги, а ученик Трубецкого Михайловский даже присутствовал на конгрессе панъевропейского движения Калерги в Вене и делал об этом доклад на евразийском семинаре.
Таким образом, идеи Трубецкого появились в определенном контексте: немецкая этнология подробно разрабатывала теории распространения культурных характеристик на определенной территории, а в англо-американской антропологии звучала, пусть и имплицитно, критика европейского универсализма. Европейские политики и идеологи уже обратили внимание на колониальный вопрос – задолго до Версальской конференции – и пытались создавать такие ментальные карты Европы, которые инкорпорировали бы колониальные народы в единое пространство с метрополиями. Трубецкой, унаследовавший концепцию культурно-исторических типов от немецких и российских романтиков и неославянофилов, трансформировал ее, объявив особой цивилизацией прежде всего Европу – «романо-германский мир»54. Когда Трубецкой писал свою книгу, речь еще не шла об особой российской цивилизации – Евразии, – которая выйдет из евразийских дискуссий и переписки в публичную сферу лишь через год55. Речь шла именно о европейской цивилизации; основным тезисом Трубецкого была особость и агрессивность этой цивилизации.
Традиция культурных типов и ареалов, появившаяся в связи с необходимостью противостоять полигенистским и расистским идеям, была использована Трубецким для воздвижения преград на пути влияния европейской модерности.
Культурные ареалы и критика модернаАнтиколониальная риторика Трубецкого вписалась в нарратив евразийства благодаря «колониальному» комплексу, который начал формироваться у части российской эмиграции. В евразийском нарративе антиколониализм, главным пафосом которого было отрицание Европы, структурно сочетался с другими элементами доктрины евразийцев. Так, неприятие петербургского периода российской истории связывалось с концепцией европейского культурного доминирования России как колониального. Трансформируя идеи славянофилов и народников, в своих интерпретациях русской истории евразийцы, прежде всего, пытались восстановить попранную евроцентризмом справедливость и обнаружить истинные, евразийские черты, сформировавшиеся во взаимодействии с монголами и тюрками. Причем антиколониальная риторика, казалось бы, должна была быть направлена в первую очередь против петербургского режима, который идентифицировал себя с Европой и «ориентализировал» тюркские и иные народы Российской империи.
Несмотря на прославление неславянских народов и их участия в российской истории (что до сих пор продолжает привлекать к евразийству сторонников и заинтересованных исследователей), для евразийцев русская культура, православие, русский язык всегда оставались центром их доктрины и мироощущения. Как писал Трубецкой Сувчинскому, «центр моего исторического построения в особом понимании отношения московского царства к монгольской монархии. Я формулирую это так: свержения татарского ига на самом деле не было, а было обрусение и оправославление татарщины, состоявшее в том, что ханская ставка переехала в Москву, монгольский хан заменился православным русским царем, а степь из кочевья превратилась в пахотное поле»56. Для Трубецкого, таким образом, факт участия татарской государственной или культурной традиции в московском царстве сводился к «оправославлению» ханской власти. Не татарская составляющая в русской истории была важна в этом историческом построении, не попытка вскрыть истинную роль неславянских народов в истории России, а государственная традиция русского православного царства. Характерно, что среди евразийцев практически не было представителей неславянских народов России57. Православие оставалось важнейшим элементом мироощущения евразийцев, причем именно в контексте взаимоотношения с европейской культурой. Именно вследствие этого в 1923 году евразийцы предприняли публикацию сборника «Россия и латинство», направленного против католицизма58. Католицизм ассоциировался у евразийцев с европейской культурой, а жизнь в изгнании сделала их особенно ревностными адептами православия.
Культурному миру Европы с его претензиями на универсальность Трубецкой противопоставлял мир народов Азии и Африки. Однако утверждения евразийцев о существовании особых культурных миров очень двусмысленны. Как отмечали многие исследователи, евразийцев не особенно интересовала граница между Евразией и Азией – за исключением географических рассуждений Савицкого. Мы вряд ли найдем среди евразийских работ подробные исследования культуры или быта азиатских народов – все внимание евразийцев, весь пафос их теорий был направлен на конструирование границы именно с Европой, на обличение Европы. В ней евразийцы видели не столько геополитического соперника России, сколько источник стандартизации и унификации, присущих модерности. Обсуждая роль современного искусства, Трубецкой писал Сувчинскому:
Когда взбунтовавшийся против красоты футурист рисует или описывает европейскую фабрично-городскую культуру, это безобразное, извращенное создание рук человеческих, эту омерзительную вавилонскую башню, – он в своей сфере, ибо смаковать, наслаждаться уродством и есть бунт против красоты… суть и первопричина футуризма именно в смаковании и воспевании машинно-бетонно-бензинно-и т. д. европейской современности, и что именно это привлекает к футуризму его адептов59.
Воспринимая Европу как сосуд, содержащий разрушительную силу современности – нивелирующую различия модерность, – евразийцы дискурсивно возводили вокруг этого сосуда непроницаемый культурный барьер. Примечательно, что это стремление сделать Европу непроницаемой извне (в конце концов, внутри Евразии границы между культурами были для евразийцев преодолимыми) совпадало с их глубокой убежденностью в том, что культурные типы сотворены Богом, что различия являются религиозным феноменом. Свою статью о происхождении культур и языков Трубецкой озаглавил «Вавилонская башня и смешение языков». В письме Сувчинскому он объясняет это так:
У меня план доморощенно-богословского обоснования идеи национально-ограниченных культур. Статья будет называться «Вавилонская башня и разделение языков». Тезисы: интернациональная культура ео ipso безбожна и ведет только к сооружению Вавилонской башни; множественность языков (и культур) установлена Богом для предотвращения новой Вавилонской башни; всякое стремление к нарушению этого Богом установленного закона – безбожно; истинные культурные ценности может творить только культура национально-ограниченная; христианство выше культур и может освящать любую национальную культуру, преобразуя ее, но не уменьшая ее своеобразия; как только в христианстве начинает веять дух интернационала, оно перестает быть истинным60.
В этой статье Трубецкой повторил идеи, впервые озвученные в его работе «Европа и человечество»: единая мировая культура невозможна, так как противоречит Божьему промыслу, создавшему различные культуры. Попытка стереть эти различия – каковой является буржуазная современность – ведет к уничтожению смыслообразующей силы истории. В этом страхе перед современным обществом, в котором исчезают различия и начинает господствовать серая масса, евразийцы следовали за Константином Леонтьевым, и вовсе не случаен тот факт, что в 1923 году проект публикации работ Леонтьева с введением и подробным комментарием занимал одно из важнейших мест в переписке евразийцев61. Для евразийцев в целом и для Трубецкого в частности главным противником была Европа, которая являлась источником все большей стандартизации жизни и культуры. При этом критика европейской культуры как орудия колониального господства имела в качестве своего источника не столько самоидентификацию с колониальным субъектом – как это было, скажем, у Махатмы
Ганди, – сколько неоромантические представления о буржуазной традиции как главной опасности для диверсифицированной, «цветущей» культуры и динамичной истории. Колониальный мир выступал в этой неоромантической картине как «старая новая сила»: старая – поскольку ее вступление на мировую арену имеет регрессивный характер, направленный против «прогрессивной» Европы, новая – поскольку в ней есть энергия и сила, необходимые для противостояния буржуазной технической цивилизации.
Патрик Серио считает, что русские «пражане» – Трубецкой, Савицкий, Якобсон – были неоплатониками. В их воззрениях феноменальный мир был лишь отражением мира ноуменального – мира идеальных форм, в котором царят гармония и порядок. В мире феноменальном человек видит лишь часть более крупного целого. Тот, кто овладеет правильной техникой познания, будет способен обнаруживать удивительные закономерности, отраженные в ноуменальном мире. Так, правильный взгляд на беспорядочные факты, предоставляемые различными науками («атомистические» факты, если следовать терминологии Савицкого, Якобсона и Трубецкого), позволяет четко и ясно определить границу Евразии (и, соответственно, границу Европы и модерна). Эта граница становится очевидной при наложении друг на друга различных составляющих – данных о климате, почвах, распространении определенных лингвистических (в частности, фонологических) черт. Серио предполагает, что такой подход у евразийцев связан с освоением ими писаний православных отцов церкви62. Возможно, что метафизический нарратив евразийства связан и с необычно острым ощущением распада и прерывности, в котором жили евразийцы (сложно найти более «постмодернистскую» ситуацию, чем ситуация эмигрантов, живущих в «рассеянии», в эпоху социальных и политических потрясений). Глубокая вера в высшую предустановленность обнаруживаемых человеком законов и правил – это своего рода конденсат метафизического мышления, ищущего основания человеческого бытия.
Известно, что одна из функций структурированного нарратива – скрепление идентичности, восстановление предположительно утраченной целостности картины мира. Можно допустить, что евразийский нарратив, который соединил в себе практически все аспекты научного знания и идеологического творчества и основывался на глубокой вере в необходимость (даже божественную данность!) существования Евразии, служил одним из средств выражения находившейся под угрозой идентичности эмигрантов. А комбинацию критики европейского колониализма и стремления ограничить нивелирующую силу современности путем создания заслона из культурных ареалов на пути европейской колониальной агрессии можно охарактеризовать по-разному: как социальную и культурную утопию представителей привилегированных классов рухнувшего старого режима, стремившихся сохранить целостность последней континентальной империи Европы (ср. с корпоративизмом Жозефа де Местра и антиреволюционными писаниями Луи Габриэля де Бональда), как попытку «помыслить империю» в век национальных государств или как знакомую по европейскому контексту критику модерности в эру кризиса капитализма и парламентской демократии.
Евразийская идеология соединила в себе две версии критики европейской модерности. Первая, связанная с концепциями культурных ареалов, воздвигала барьеры на пути «европейской цивилизации» и провозглашала существование отдельных, взаимонепроницаемых культур. Вторая версия критики европейской модерности была связана с комплексом проблем, вытекавших из имперского характера Российского государства. Поскольку возникновение модерного русского национализма предполагало применение в России ориенталистских практик, воздвигавших культурные барьеры между национальной метрополией и «азиатскими» колониями, такая версия колониализма подрывала единство империи. Евразийская критика модерности отрицала наличие колониализма в России и, объявив Россию Евразией, синтетической культурой различных народов, пыталась преодолеть связанные с идеей современного национального государства западного типа представления о превосходстве европейской цивилизации. В результате евразийцы оказались очень близки к постструктуралистской критике колониализма, связавшей современное научное знание и культуру с колониальной властью. Контекст эмиграции, предполагавшей утрату статуса и перемену дислокации, заострил антиколониальную и антиевропейскую риторику евразийцев, сделав возможным идентификацию (пусть и поверхностную) представителей российской интеллектуальной элиты с колониальными народами.