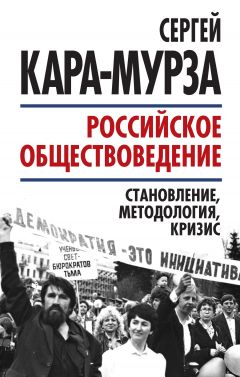
Автор книги: Сергей Кара-Мурза
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Западный капитализм и буржуазное общество могли быть построены потому, что им предшествовало построение новой нравственной матрицы – протестантской этики. Она предложила людям новый способ служения Богу, инструментом которого, в частности, была нажива. Именно в частности, как один из инструментов, а не как идеальная цель. Новое представление о добре и связанный с ним новый тип знания, порожденные Реформацией, легитимировали новое жизнеустройство, оправдали страдания.
Ничего похожего не породило обществоведение эпохи Горбачева – Ельцина. За первые десять лет перестройки и реформы обществоведение реформаторов много сделало, чтобы вообще устранить из мировоззренческой матрицы власти сами понятия греха и нравственности, заменив их критерием экономической эффективности. В социальной политике Н.П. Шмелев предлагал делать ставку на обман. Он призывал к приватизации – но с «какой-то действенной социальной анестезией при проведении столь болезненной хирургической операции», рекомендовал «приглушить какими-то компенсационными мерами понятную зависть все более и более нищающей толпы к удачливым предпринимателям». Этическая компонента исключалась им также из установок работника: «Рубль должен быть поставлен в центр всего. Он и только он должен быть наградой за усердный труд». Концепции неолиберализма принимались за теории или даже за научную истину.
М. Вебер выступал против фетишизации теории, которая, будучи высшим продуктом рационального мышления, превращалась в инструмент иррациональности, если приобретала ранг фетиша. Он подчеркивал, что логическая упорядоченность теории может привнести «утопический» элемент в познание, поскольку историческая действительность в каждой «точке» и в каждый «момент» выступает как нечто уникальное и неповторимое. А следовательно, не подчиняющееся никакому «объективному закону».
Теория необходима как инструмент – как микроскоп или телескоп – для выявления тенденций в развитии общественного процесса. Но вера в то, что теория полностью адекватна самой действительности, означает поражение рациональности.
В нашем случае в постсоветском обществоведении произошла фетишизация теории неолиберализма, и доктрина преобразования советского хозяйства в рыночную экономику превратилась в разрушительную утопию – руки на ней нагрела часть номенклатуры и «джентльменов удачи».
Значительную часть элиты обществоведов поразило необычное состояние – утрата чувства сострадания к простому человеку. Надо подчеркнуть, что во время перестройки возникло явление, немыслимое в современном и тем более демократическом обществе, – пропаганда безработицы ведущими обществоведами страны. Право на рабочее место («от каждого – по способности») было одним из главных устоев советской социальной системы.
Одним из первых кампанию за безработицу начал Н.П. Шмелев. Он писал в 1987 г.: «Не будем закрывать глаза и на экономический вред от нашей паразитической уверенности в гарантированной работе. То, что разболтанностью, пьянством, бракодельством мы во многом обязаны чрезмерно полной (!) занятости, сегодня, кажется, ясно всем. Надо бесстрашно и по-деловому обсудить, что нам может дать сравнительно небольшая резервная армия труда, не оставляемая, конечно, государством полностью на произвол судьбы… Реальная опасность потерять работу, перейти на временное пособие или быть обязанным трудиться там, куда пошлют, – очень неплохое лекарство от лени, пьянства, безответственности» [109].
Т.И. Заславская писала в важной статье: «По оценкам специалистов, доля избыточных (т. е. фактически не нужных) работников составляет около 15 %, освобождение же от них позволяет поднять производительность труда на 20–25 %. Из сопоставления этих цифр видно, что лишняя рабочая сила не только не приносит хозяйству пользы, но и наносит ему прямой вред… По оценкам экспертов, общая численность работников, которым предстоит увольнение с занимаемых ныне мест, составит 15–16 млн человек, т. е. громадную армию… Негативные последствия существования резервной армии труда могут быть компенсированы соответствующими социальными гарантиями, как это делается в развитых капиталистических странах…
Система, при которой люди, увольняемые со своих предприятий, испытывали бы некоторые трудности с нахождением новой работы, должны были… менять профессии, переходить на более низкие должности или худшие рабочие места, была бы в этом плане более эффективной. Она ставила бы работников в более жесткие экономические и социальные условия, требовала от них более качественного труда. Лично мне ближе последняя точка зрения, но общественное сознание не подготовлено к ее восприятию. По данным опроса, 58 % людей считают, что безработица в СССР недопустима… мнение о том, что безработица необходима для более эффективного хозяйствования, поддерживают всего 13 %» [110].
Так безработицу сделали реальностью, и приложили много усилий, чтобы легитимировать эту социальную болезнь. В журнале Академии наук СССР «Социологические исследования» печатались статьи с заголовками такого рода: «Оптимальный уровень безработицы в СССР». Оптимальный! Наилучший! Что же считает «оптимальным» для нашего народа социолог из Академии наук? Вот его идеал: «Оптимальными следует признать 13 %… При 13 % можно наименее болезненно войти в следующий период, который, в свою очередь, должен открыть дорогу к подъему и процветанию» [111]. Процветание, по его мнению, должно было наступить в 1993 г.
Само по себе появление подобных рассуждений на страницах академического журнала – свидетельство деградации нашего обществоведения. В общественных науках социолог – аналог врача в науке медицинской. Безработица – социальное бедствие, ибо приносит страдания людям. Можно ли представить себе врача, который в стране, где полностью ликвидирован, скажем, туберкулез, предлагал бы рассеять палочки Коха и довести заболеваемость туберкулезом до оптимального уровня в 20 млн человек? В США, например, рост безработицы на один процент ведет к увеличению числа убийств на 5,7 %, самоубийств – на 4,1 %, заключенных – на 4 %, пациентов психиатрических больниц – на 3,5 % (эти данные автор сам бесстрастно приводит в своей статье).
Н.П. Шмелев доводит апологию безработицы до абсурда. Он пишет в 1995 г., что в России якобы имеется огромный избыток занятых в промышленности работников: «Сегодня в нашей промышленности 1/3 рабочей силы является излишней по нашим же техническим нормам, а в ряде отраслей, городов и районов все занятые – излишни абсолютно» [112]. Здесь утрата рациональной меры довела нарушение логики до гротеска. Что значит «в ряде отраслей, городов и районов все занятые – излишни абсолютно»? Как это понимать? Что значит «в этой отрасли все занятые – излишни абсолютно»?
Но какова была аргументация Т.И. Заславской, начавшей эту кампанию! «Освобождение» от 15 % ненужных работников, «по расчетам специалистов», поднимает (предположительно!) производительность труда на 20 %. Нетрудно видеть, что при этом объем произведенной продукции возрастает на 2 %! И ради этого социолог предлагает превратить 15–16 млн человек в безработных! Академик, насытив свой текст бессмысленными числами, даже не удосужилась посчитать результат.
В ходе реформы Т.И. Заславская признала «снижение социальных запросов населения вследствие постепенного свыкания с бедностью и утраты надежд на восстановление прежнего уровня жизни». Казалось бы, невозможно было уйти от этических проблем такого изменения. Однако, выступая по поводу реформы, обществоведы не касались ее «человеческого измерения».
Изредка кто-то из них в 90-е гг. критиковал правительство, хотя и не ставя при этом принципиальных методологических вопросов. Так, академик Г.А. Арбатов в 1992 г. отмежевался от младореформаторов Е.Т. Гайдара: «Меня поражает безжалостность этой группы экономистов из правительства, даже жестокость, которой они бравируют, а иногда и кокетничают, выдавая ее за решительность, а может быть, пытаясь понравиться МВФ» [113].
Впрочем, профессор Е. Майминас объяснил, что эти упреки вызваны вовсе не состраданием к своему народу и не угрызениями совести, а исключительно прагматическими соображениями – как бы не раздразнить зверя. Он пишет: «Почему эти серьезные люди – отнюдь не экстремисты – бросают в лицо правительству тяжелейшие обвинения в жестокости, экспроприации трудящихся, некомпетентности или сознательном развале экономики..? Первая причина – в небезосновательных опасениях, что предстоящая либерализация практически всех цен, особенно на топливо и хлеб, даст новый импульс общему резкому их росту, дальнейшему падению жизненного уровня и вызовет мощный социальный взрыв, который может открыть путь тоталитаризму» [114].
Дескать, вот если бы стояли у нас оккупационные войска, которые защитили бы «демократов» от красно-коричневых, тогда можно было бы бесстрашно обрекать людей на голодную смерть.
Академик О.Т. Богомолов после десяти лет реформ поднял этот вопрос на уровне методологии: «Как это не печально констатировать, но реформы в России сопровождались опасным расстройством не только экономики, но и всей системы общественных отношений. Что при этом было первичным, а что вторичным? Думаю, что ответ на этот вопрос требует теоретического взгляда на проблему взаимодействия экономики и общественной среды… Как бы совершенны не были законы и государственные институты, устанавливающие рыночные правила и следящие за их соблюдением, нужны еще и нравственные устои и принципы, которых придерживаются участники рынка… Порождаемая рынком жажда наживы, жестокая конкурентная борьба способны привести к дикости, бесчеловечности, если не ввести рыночные отношения в строгие рамки права и моральных требований» [115, с. 22].
Отношение к большинству общества как низшим (“совкам”) неминуемо вело и к отходу от норм научной рациональности.
Особенно это тяжело наблюдать в научной среде. Надевая на себя тогу ученого, человек обязуется на время освободиться от давления иных интересов и целей, кроме поиска достоверной информации (истины). Эта норма была отброшена: человек, ведущий пропаганду безработицы, подчеркивал свою ученость. Вот мелкий, но красноречивый пример. Преподаватель философского факультета МГУ Д.А. Левчик (ныне политтехнолог, доктор исторических наук) дает в журнале «СОЦИС» рекомендации власти, как испоганить митинги левой оппозиции. Он это называет «контрмеры с целью ослабления эффекта митинга». Вот что предлагает историк:
«… – Доказать обществу, что место проведения митинга не “святое” или принизить его “священный” статус, например, перезахоронить тело Ленина, тем самым понизить статус Красной площади в глазах ленинцев;
– доказать, что дата проведения митинга – не мемориальная, например, развернуть в средствах массовой информации пропаганду теорий о том, что большевистская революция произошла либо раньше 7 ноября, либо позже;
– наконец, можно просто нарушить иерархию митинга или демонстрации, определив маршрут шествия таким образом, чтобы его возглавили не “главные соратники героя”, а “профаны”. Например, создать ситуацию, когда митинг памяти жертв обороны Дома Советов возглавит Союз акционеров МММ.
Другими словами, профанация процедуры и дегероизация места и времени митинга вместо митинговой эйфории создает смехотворную ситуацию, в условиях которой возможна вовсе не мобилизация участников митинга, а их дезорганизация. Катализатором профанации митинга может стать какая-нибудь “шутовская” партия типа “любителей пива”. Например, в 1991 г. так называемое Общество дураков (г. Самара) профанировало первомайский митинг ветеранов КПСС, возложив к памятнику Ленина венок с надписью: “В.И. Ленину от дураков”. Произошло столкновение “дураков” с ветеранами компартии. Митинг был сорван, а точнее превращен в хэппенинг» [116].
К кому он обращался через журнал «СОЦИС»? Не к власти, а к сообществу социологов – и это никого не удивило. Ведь это недостойно и противно – неужели этого не видели на философском факультете МГУ и в редакции журнала «Социологические исследования»?
Разумеется, в сообществе были редкие протесты против отношения своих коллег к большинству населения – нельзя не видеть, что это заводит в тупик все сообщество и непрерывно углубляет раскол. Приведем выдержку из статьи Е.Н. Даниловой (Институт социологии РАН):
«“Выигравшие и проигравшие” – идеологическая конструкция, которая влияет на идентичность и поведение людей, задает представления об успехе. Немалую роль в [ее] воспроизводстве сыграли экспертное сообщество, обществоведы, прежде всего экономисты и социологи. В проводимых реформах нельзя не заметить доминирующей идеологической подоплеки при видимом политическом плюрализме идеологий…
В публичном пространстве возникли интерпретации “выигравших”; им, выигравшим, начали приписываться “прогрессивные” черты. Напротив, считается, что “прогрессивные” черты не могут преобладать среди тех, кто оказался непригодным, необразованным, “несовременным”, не в состоянии адаптироваться. “Лузеры” сконструированы как Другие. Проигравшие виноваты сами…
В российской литературе представления о “хорошем собственнике” соседствуют с описанием “недостаточно эффективного простого советского человека”. Можно задать вопрос, почему проигравшие – бедные, а также учителя, военные, крестьяне, рабочие, – помечены и сконструированы как Другие. Создание “нижних категорий” людей – интеллектуальный процесс, который разделяет такую логику и способ мышления, узаконивает политическую практику и политику. С одной стороны, интеллектуалы делают это, чтобы отмежеваться от них, тем самым “примкнуть” к стану победителей, с другой – чтобы указать на необходимость их перевоспитания…
Буховский пишет, что в маневрах интеллектуалов, обращенных к экономическому либерализму, и сторонников теории модернизации есть несколько типичных характеристик, которые ведут к такому дискурсу, при котором в категорию лузеров могут попасть народы и территории. В России в той же логике представляется человеческий материал, доставшийся в наследство от советской эпохи…
Сети выигравших и сети “носителей знаний” оказываются взаимосвязанными. Каждая властная группа связана со своей сетью легитимирующих ее положение “носителей знаний”… Просматриваются последствия дискурса, который превращает целые слои населения в неспособных “лузеров”, стигматизируя и маргинализируя их…
Дискурс выигравших и проигравших ведет к размежеванию и закреплению противоборствующих ценностей в массовом сознании» [117].
Но за 25 лет этот ценностный раскол укоренился – влиятельная часть обществоведческой элиты перешла к изощренному и прямому оскорблению большинства населения. Основанием стало выделение класса интеллектуалов, которых противопоставили «совкам» (люмпенам и пр.). Вот программная статья В. Иноземцева «On modern inequality. Социобиологическая природа противоречий ХХI века» (2007). Он пишет: «Государству следует обеспечить все условия для ускорения “революции интеллектуалов” и в случае возникновения конфликтных ситуаций, порождаемых социальными движениями “низов”, быть готовым не столько к уступкам, сколько к жесткому следованию избранным курсом» [118, с. 71].
Вот что пишет в 2010 г. Лев Любимов, заместитель научного руководителя Высшей школы экономики – «мозгового центра», главного разработчика программ реформирования важнейших экономических и социальных систем РФ: «У нас все сильно не в порядке с сельской местностью… Эти местности – а их число несметно в Центральной России – дают в российский ВВП ноль, но потребляют из него немало. А главное – они отравляют жизнь десяткам миллионов добропорядочных россиян. Вдобавок эти местности – один из сильнейших источников социального загрязнения нашего общества.
Создавать в таких местностях рабочие места накладно и бесполезно – эти самобезработные, как уже говорилось, работать не будут “принципиально”. А принудительный труд осужден на уровне и международного, и национального права. Что же делать? Или мы вновь в культурной ловушке, из которой выхода нет?
Одно делать нужно немедленно – изымать детей из семей этих “безработных” и растить их в интернатах (которые, конечно, нужно построить), чтобы сформировать у них навыки цивилизованной жизни, дать общее образование и втолкнуть в какой-то уровень профессионального образования. То есть их надо из этой среды извлекать. А в саму среду всеми силами заманивать, внедрять нормальные семьи (отставников, иммигрантов и т. д.), создавая очаги культурной социальной структуры» [119].
Этим интеллектуалам никто не может возразить – нет теперь такого института. Они свободны загонять процесс восстановления России в тупик, просто создавая ценностные расколы общества. Такая наукоемкая технология.
Гипостазирование
Один из старейших подходов к предмету изучения – методологический эссенциализм (от лат. essentia – сущность). Этот подход имел своей целью открытие истинной «природы вещей». Древние философы Греции считали, что заключенную в вещи сущность (первопричину) выражает Слово, имя вещи. Научная революция стала разделять слова и вещи, заменять сущность абстрактным понятием (например, «материальной точкой» вместо реальной вещи, тела). Для ученого вещь уже не обладала скрытой сущностью, для каждого взгляда она стала носителем какой-то одной «сущности» из множества. Какова сущность кирпича? Для геометрии одна, для археолога – другая, для материаловеда – третья, для экономиста или механика – своя.
Но эссенциализм сохранился по сей день, потому что он побуждает к нахождению познавательных метафор и чувственных представлений. Это полезный прием, но превращение таких метафор и чувственных моделей в догматическую веру вызывает тяжелые последствия. Сегодня, как и прежде, представление об обществе проникнуто присущим натурфилософии эссенциализмом: об обществе думают как о вещи – массивной, подвижной, чувственно воспринимаемой и существующей всегда. Критики даже пишут (1996): «Можно констатировать, что подавляющее большинство социологов отождествляет социальную группу с “субстанцией” – множеством людей, границы которого тем или иным способом конструирует научное сообщество» [42].
Вот чрезвычайно актуальный для нас случай – этнология. Те обществоведы, которые остаются приверженцами эссенциализма, доходят до буквального овеществления этничности, считая ее материальной субстанцией, включенной в структуры генетического аппарата человека. Этничность понимается как вещь, как скрытая где-то в глубинах человеческого организма материальная эссенция (скрытая сущность). Условно говорят, что она находится в крови, а в Средние века говорили плоть. И есть основания предположить, что большинство обществоведов в отношении этничности так и остались эссенциалистами, многие даже привержены к биологическому примордиализму[33]33
В 2005 г. В.Д. Соловей – историк и политолог, доктор наук, сотрудник РАН и эксперт «Горбачев-фонда» – опубликовал книгу «Русская история: новое прочтение». В ней так излагается природа этничности русских: «Русскость – не культура, не религия, не язык, не самосознание. Русскость – это кровь, кровь как носитель социальных инстинктов восприятия и действия. Кровь (или биологическая русскость) составляет стержень, к которому тяготеют внешние проявления русскости» [120].
[Закрыть].
Эссенциализм породил склонность к широко распространенному виду деформации сознания – гипостазированию[34]34
В словаре читаем: «Гипостазирование (греч. hypostasis – сущность, субстанция) – присущее идеализму приписывание абстрактным понятиям самостоятельного существования. В другом смысле – возведение в ранг самостоятельно существующего объекта (субстанции) того, что в действительности является лишь свойством, отношением чего-либо».
[Закрыть]. Оно ведет к заблуждениям. Это вызвано тем, что абстрактное понятие, которое мы используем для мысленной «обработки» какой-то одной из множества сторон явления, мы принимаем за скрытую сущность этого явления, которая нам объясняет все его стороны. Фантом, привидение вещи мы принимаем за реальность. Экономист Л. фон Мизес предупреждал: «Склонность к гипостазированию, т. е. к приписыванию реального содержания выстроенным в уме концепциям, – худший враг логического мышления».
Гипостазирование понятий и обозначений резко снижает возможности сознания и воображения, это важный тормоз для творчества в исследовании, особенно в обществоведении, где явления и процессы многослойны и их образы содержат много зон неопределенности. Как только понятие «замораживает» заданный обозначением образ, воображение перестает перебирать возможные образы явления. А значит, блокируются рефлексия и логика.
Как только в конце перестройки наши обществоведы кинулись к западным учебникам 1970-х гг., образы советского общества и государства перевели в «зазеркалье»: брались термины и понятия с Запада и приклеивались к советской реальности. Сразу обрушилась система структурно-функционального анализа, методология выработки решений и образование впали в ступор. Этот кризис пережила социальная наука и Запада при ускорении усложнения общества, но там быстро поставили диагноз.
Дж. Сартори пишет в программной статье (1970): «Представленная в этой статье точка зрения заключается в том, что политическая наука как таковая в значительной мере страдает методологическим невежеством. Чем дальше мы продвигаемся технически, тем обширнее оказывается неизведанная территория, остающаяся за нашей спиной. И больше всего меня удручает тот факт, что политологи (за некоторыми исключениями) чрезвычайно плохо обучены логике – притом элементарной…
Мне кажется, что крупные различия слишком часто приносятся в жертву второстепенным, мелким сходствам. Трудно представить себе человека, который бы стал всерьез утверждать, будто люди и рыбы одинаковы, поскольку и те, и другие “способны плавать”. Но многое из того, что говорится в глобальной сравнительной политологии, несет в себе не намного больше смысла» [121].
Очевидно, что под одним и тем же названием и в похожих зданиях в разных странах находятся не одни и те же структуры. У нас с переходом на «чужой язык» от быстрой деградации знания той реальности, в которой мы живем, многие обществоведы стали отрицать само существование реальности, которая не согласуется с «тем, что должно быть». У многих это стало своеобразным методологическим принципом.
С. Московичи говорил: «Приписывать словам реальность – это катастрофа для общественных наук. Как только слово распространилось и всеми принято, считается, что оно отражает реальность. Так, все говорят “власть”, как будто это компактная вещь, хоть режь ее на кусочки. …Бывает, посредством флуктуаций из хаоса возникает порядок, но это не выходит нечто, что пряталось, а что-то, что рождается… При переходе в хаос старые системы исчезают, возникают иные, и этот порядок не существовал “в подполье”, он не выходит и не освобождается, он создается ходом явлений» [122].
Во время перестройки рассуждения обществоведов были проникнуты гипостазированием. Так, возник схоластический спор о том, являлся советский строй социализмом или нет. Спорили, что из себя представляет советский строй: мобилизационный социализм? казарменный социализм? феодальный социализм? Академик Т.И. Заславская в важном докладе озадачила: «Возникает вопрос, какой тип общества был действительно создан в СССР, как он соотносится с марксистской теорией?» Страну уже затягивало дымом, а глава социологической науки погрузилась в дефиниции, смысл которых даже закоренелые начетчики марксизма помнили очень смутно. Социализм – неопределенное понятие, его смысл задается содержательными признаками.
Эта метафора «казарменный социализм» была в обществоведении возведена в статус сущности советского строя. Скажут: «казарменный социализм», – и как будто все понятно. Превращая эту метафору в привычное клише, все больше увязали в гипостазировании. Например, в СССР имело место моральное стимулирование – очень скромный элемент средств мотивации. Профессор А.С. Ципко придает ему статус сущности советской системы: «Разве не абсурд пытаться свести все проблемы организации производства к воспитанию сознательности, к инъецированию экстаза, энтузиазма, строить всю экономику на нравственных порывах души?.. Долгие годы производство в нашей стране держалось на самых противоестественных формах организации труда и поддержания дисциплины – на практике “разгона”, ругани, окрика, на страхе» [123, с. 80].
Можно ли придумать для организации производства в СССР более неадекватное обвинение, чем назвать его попыткой «строить всю экономику на нравственных порывах души»? Кстати, Ципко не замечает, что его второе суждение (о том, что «производство в нашей стране держалось на практике “разгона”, ругани, окрика, на страхе») начисто отрицает первое.
Подверглось гипостазированию и понятие коммунизм. В июне 1993 г. по западной прессе прошла статья советника Ельцина, диpектоpа Центpа этнополитических исследований Эмиля Паина «Ждет ли Россию судьба СССР?» В ней он так объясняет западному читателю желание ликвидировать СССР: «Когда большинство в Москве и Ленингpаде пpоголосовало пpотив сохpанения Советского Союза на pефеpендуме 1991 года, оно выступало не пpотив единства стpаны, а пpотив политического pежима, котоpый был в тот момент. Считалось невозможным ликвидиpовать коммунизм, не pазpушив импеpию» [124].
Что же это за коммунизм надо было ликвидиpовать, pади чего стоило разрушить страну? Коммунизм Гоpбачева и Яковлева! Это абсурд, «политический pежим, котоpый был в тот момент», не мог претендовать даже на звание социал-демокpатического, он тяготел к неолибеpалам типа Тэтчеp, к пpавому кpылу буpжуазных паpтий.
В слово-заклинание превратилось понятие «рынок». Дж. Гэлбрейт, побывав в Москве в 1990 г., сказал: «Говорящие – а многие говорят об этом бойко и даже не задумываясь – о возвращении к свободному рынку времен Смита не правы настолько, что их точка зрения может быть сочтена психическим отклонением клинического характера. Это то явление, которого у нас на Западе нет, которое мы не стали бы терпеть и которое не могло бы выжить».
На Западе, начиная с Гоббса, были озабочены тем, чтобы государство-Левиафан ограничило свободу рынка и корыстолюбие торговцев, угрожающее разрушить общество; а в России поднимали наверх теневиков и воров, чтобы и отключали государственные механизмы. Один философ экономии (Ален Кайе) пишет: «Если бы не было Государства-Провидения, относительный социальный мир был бы сметен рыночной логикой абсолютно и незамедлительно». А российские академики были ослеплены утопическим образом рынка-спасителя.
Была предпринята большая кампания по мифотворчеству относительно частной собственности. Представление о ней было поднято на небывалую в мире, религиозную высоту. Академик-экономист А.Н. Яковлев писал в 1996 г.: «Нужно было бы давно узаконить неприкосновенность и священность частной собственности».
Известно, что частная собственность – это не зубная щетка, не дача и не автомобиль, это средства производства. Единственный смысл частной собственности – извлечение дохода из людей («Из людей добывают деньги, как из скота сало», – гласит американская пословица, приведенная М. Вебером). Где же и когда средство извлечения дохода приобретало статус святыни? Этот вопрос поднимался во всех мировых религиях, и все они, включая иудаизм, наложили запрет на поклонение этому идолу (золотому тельцу). В период возникновения рыночной экономики лишь среди кальвинистов были радикальные секты, которые ставили вопрос о том, что частная собственность священна. Но их преследовали даже в Англии. Когда же этот вопрос снова встал в США, то отцы-основатели США не пошли на создание идола, а утвердили: частная собственность – предмет общественного договора. Она не священна, а рациональна. О ней, как и о других типах человеческих отношений, надо договариваться и ограничивать человеческим законом.
Между тем философы и даже правоведы стали доказывать, что лишь частная собственность является правовым феноменом. Надо, мол, коллективную, общенародную и государственную собственность немедленно как-то раздать, чтобы смыть с себя клеймо разбойника. Эксплуатируя миф о собственности, философы доходили до абсурда. Видный философ-правовед В.С. Нерсесянц писал: «Создаваться и утверждаться социалистическая собственность может лишь внеэкономическими и внеправовыми средствами – экспроприацией, национализацией, конфискацией, общеобязательным планом, принудительным режимом труда и т. д.» [125].
Вдумаемся: философ отрицает всякую возможность создать социалистическую собственность экономическими и правовыми способами. В.С. Нерсесянц, видимо, имеет в виду национализацию 1918–1920 гг., но почему же национализация – неправовой акт? А приватизация – правовой? Какие можно придумать правовые основания, чтобы отдать комсомольскому работнику Кахе Бендукидзе машиностроительный суперкомбинат «Уралмаш» за смехотворную цену – одну тысячную не стоимости завода, а стоимости его годовой продукции?
Г.Х. Попов запустил в обиход, как нечто сущее, термин «административно-командная система». Смысла никакого, но словечко стали употреблять, как будто оно что-то объясняет. Как будто это нечто уникальное, созданное в СССР. На деле любая общественная система имеет свой административно-командный «срез», и иначе просто быть не может. И армия, и церковь, и хор имени Свешникова – все имеют свою административно-командную ипостась, наряду с другими.
Ключевое слово реформы – «дефицит». Оно означает нехватку. Обществоведы уверяли, что в СССР «мы задыхались от дефицита», а теперь наступило изобилие. Но объяснили бы, как может образоваться изобилие при спаде производства. Много производили молока – был дефицит; снизили производство вдвое – наступило изобилие. А вот что означает понятие дефицит в его жестком значении: в 1985 г. в РСФСР в среднем на душу населения было потреблено 23,2 кг рыбы и рыбопродуктов, а в 1997 г. в РФ – 9,3 кг. Возник дефицит рыбы на столах граждан как продукта питания – при ее изобилии на прилавках как знак. Люди, которые приветствуют такое положение, впадают в гипостазирование.
И даже в чисто «рыночном» смысле реформа привела именно к опасному дефициту, какого не знала советская торговля. Чтобы увидеть это, надо просто посмотреть статистические справочники. Товарные запасы в розничной торговле (в днях товарооборота) составляли в СССР в 1985 г. 92 дня, а в РФ в 1995 г. – 33 дня. Положение регулировалось посредством низкой зарплаты, а то и невыплатами зарплаты и пенсий.
Профессор д.э.н. С.А. Дятлов писал в 1997 г.: «Долги по невыплаченной зарплате и пенсиям в два с лишним раза превышают товарные запасы. Оборотные фонды предприятий на 80–90 % обеспечиваются кредитами коммерческих банков. Можно говорить о том, что экономика России в ее нынешнем виде – это не только долговая экономика, но и экономика хронического дефицита, скрытого высоким уровнем цен и искусственным сжатием платежеспособного спроса» [126].
Академик Т.И. Заславская в конце 1995 г. делала программный доклад и говорила о дефиците, преодоленном посредством повышения цен: «Это – крупное социальное достижение… Но за насыщение потребительского рынка людям пришлось заплатить обесцениванием сбережений и резким падением реальных доходов. Сейчас средний доход российской семьи в три раза ниже уровня, позволяющего, согласно общественному мнению, жить нормально» [127].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































