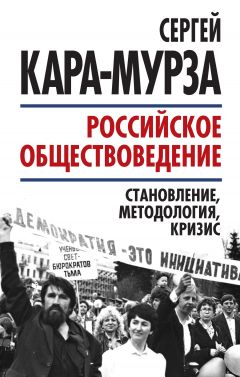
Автор книги: Сергей Кара-Мурза
Жанр: Политика и политология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
«Отказы» обществоведения в Российской империи
Обществоведение, исходящее из приоритета нравственных ценностей, не давало беспристрастного достоверного знания об общественных процессах. В начале ХХ в. в системе знания о российском обществе наблюдался отказ за отказом – методологическая основа сообщества была рыхлой, не имела сильного интегрирующего научного ядра. Государство и общество развивались при остром дефиците знания о самих себе. Задача, которая была ясна образованной части общества и государству, заключалась в том, чтобы в период империализма западного капитализма провести модернизацию народного хозяйства, не будучи втянутыми в периферию Запада в качестве его дополняющей экономики. Эту угрозу создавало интенсивное вторжение западного капитализма (особенно финансового) в хозяйство России с конца ХIХ в.
Модернизация – тяжелый, болезненный процесс. Россия, которая была намного больше открыта Западу, чем, например, Китай или Индия, пережила несколько волн и кризисов модернизации. Царское правительство искало способы избежать следующего кризиса. Было предложено и даже принято много важных решений. Например, малоизвестное решение царского правительства ввести в России народно-хозяйственное планирование. В 1907 г. Министерство путей сообщения составило первый пятилетний план, а деловые круги «горячо приветствовали этот почин» (русский капитализм пытался избежать перспективы быть «переваренным» западным капиталом). Более широкие комплексные планы стала вырабатывать «Междуведомственная комиссия для составления плана работ по улучшению и развитию водяных сообщений Империи», которая работала в 1909–1912 гг. Так был подготовлен второй пятилетний план – капитальных работ на 1912–1916 гг. Реализации его помешали слабость госаппарата и начавшаяся война.
Однако в общем задачу преодолеть кризис модернизации в рамках сословного общества решить не смогли, приходилось «догонять капитализм и одновременно убегать от него». Российская империя попала, по выражению М. Вебера, в «историческую ловушку» – систему взаимодействующих порочных кругов. Что бы не делало царское правительство, недовольство нарастало. Дав урезанную, выхолощенную конституцию (Манифест 17 октября 1905 г.), самодержавие стало ее заложником и потеряло свою силу, не приобретя ничего взамен. «Оно не в состоянии предпринять попытку разрешения какой угодно большой социальной проблемы, не нанося себе при этом смертельного удара», – писал Вебер.
Из этого, кстати, видно, какова была глубина той исторической ловушки, в которую попала Россия, становясь страной периферийного капитализма. Самодержавие при всем желании не могло ослабить ограничения для либеральной модернизации, поскольку при этом был слишком велик риск, что из-под контроля выйдут гораздо более мощные силы «архаического коммунизма». Так дело довели до революции – действуя ситуативно, не имея стратегической доктрины. Это положение возникло во многом из-за недостатка знания. У власти даже отсутствовали адекватные индикаторы, с помощью которых можно было бы следить за ходом общественных процессов. В результате власть делала ошибки, которых, в принципе, можно было бы избежать. Так, уже лишенная оснований вера царя в крестьянский монархизм в существенной мере предопределяла неадекватность всей его политической доктрины.
После начала войны с Японией, которую большинство народа быстро стало воспринимать как трагедию, в правящей верхушке возникла утопия «небольшой победоносной войны», которая, как считалось, укрепит монархию. Насколько верхушка уже была оторвана от реальности, говорит простодушная похвальба царя П.А. Столыпину: «Если б интеллигенты знали, с каким энтузиазмом меня принимает народ, они так бы и присели».
Важно, что несостоятельным оказалось и то обществоведение, на представлениях которого строили свои доктрины либеральная оппозиция – ведущая либерально-буржуазная партия (Партия народной свободы, «конституционные демократы» – кадеты). Она собрала цвет интеллигенции, имела большую финансовую поддержку, в ее рядах было много видных философов и экономистов, ученых и публицистов. Кадеты создали обширную прессу – до 70 центральных и местных газет и журналов, много партийных клубов и кружков. По интенсивности пропаганды и качеству ораторов им не было равных. И при этом их представления о России и ходе исторического процесса были ошибочными.
Главное противоречие программы кадетов заключалось в том, что они стремились ослабить или устранить тот барьер, который ставило на пути развития либерального капиталистического общества самодержавие с его сословным бюрократическим государством. В ХIХ в. в России сложилось большое культурное и политическое течение, названное «русским либерализмом» («западники»), установки которых историк Т.Н. Грановский выразил так: «Запад кровавым потом выработал свою историю, плод ее нам достается почти даром, какое же право не любить его?»
Лидер партии кадетов П.Н. Милюков в 1906 г. дал С.Ю. Витте совет: не пытаться принять «русскую конституцию», а перевести бельгийскую или болгарскую и сделать «основным законом Российской империи». Он же высоко ценил империалистическую политику Англии: «Завидно становится, когда читаешь о культурных методах английской колониальной политики, умеющей добиваться скрепления частей цивилизованными, современными средствами». Эту же позицию в отношении национально-государственного устройства России занимал П.Б. Струве: «Идеалом, к которому должна стремиться в России русская национальность, по моему глубокому убеждению, может быть лишь такая органическая гегемония, какую утвердил за собой англосаксонский элемент в Соединенных Штатах Северной Америки и в Британской империи» (см. [20]).
Либеральный проект расколол российское общество на непримиримые части. В начале ХХ в. «опыт превращения России в Англию» не удался – помешали монархия и консерваторы, а затем советская революция. Шанс реванша предоставила «новым либералам» антисоветская революция 1990-х гг.
Кадеты не хотели видеть последствий свержения или ослабления монархии, надеясь, что в России ход событий будет напоминать буржуазные революции Запада, только мягче («господа, ведь мы православные!»). А Вебер, сравнивая потенциал традиционной культуры в разных обществах, предвидел, что через прорванную кадетами плотину монархии хлынет мощный антибуржуазный революционный поток, так что идеалы кадетов станут абсолютно недостижимы. Либеральная аграрная реформа, проведения которой требовали кадеты, «по всей вероятности, мощно усилит в экономической практике, как и в экономическом сознании масс, архаический, по своей сущности, коммунизм крестьян», – вот вывод Вебера. Таким образом, реформа российских либералов «должна замедлить развитие западноевропейской индивидуалистической культуры».
При этом политические требования кадетов как будто совпадали с крестьянскими. Вебер писал, что это внешнее совпадение – иллюзия, кадеты прокладывали дорогу как раз тем устремлениям, которые устраняли их самих с политической арены. Так что кадетам, по словам Вебера, ничего не оставалось, кроме как надеяться, что их враг – царское правительство – не допустит реформы, за которую они боролись.
Но дело было не только в доктрине социальной (земельной) реформы. Другая важная сторона либерального конституционализма – его несовместимость со сложившимся в России типом сосуществования народов. Приняв за идеал государственного и общественного устройства Запад, либералы вели дело к разрушению России как многонациональной евразийской державы. Таким образом, в случае их успеха (как это и случилось в феврале 1917 г.) их программа обрекала Россию на катастрофу, за которой должен был последовать неминуемый откат, реставрация, уничтожающая тогдашних носителей западнического либерализма. Тот факт, что кадеты этого не предвидели, говорит о серьезном дефекте структуры их социального знания.
Ошибочными были и представления о России социал-демократов, которые следовали установкам ортодоксального марксизма. Конфликт между этими установками и цивилизационными особенностями России сыграл очень важную роль в нашей судьбе в ХХ в. и играет эту роль уже более 15 лет ХХI в.
Легальный марксист П. Струве утверждал, что капитализм есть «единственно возможная» форма развития для России, и весь ее старый хозяйственный строй, ядром которого было общинное землепользование крестьянами, есть лишь продукт отсталости. Распространенным было и убеждение, что разложение этого строя капитализмом западного типа уже стремительно идет в России. Плеханов считал даже, что оно уже состоялось. М.И. Туган-Барановский (легальный марксист, а затем кадет) в своей известной книге «Основы политической экономии» признавал, что при крепостном праве «русский социальный строй существенно отличался от западноевропейского», но с ликвидацией крепостного права «самое существенное отличие нашего хозяйственного строя от строя Запада исчезает… И в настоящее время в России господствует тот же хозяйственный строй, что и на Западе».
К реальности российской деревни была приложена модель, которую Маркс разработал на материале «раскрестьянивания» в Англии – в совершенно иных условиях. Модель марксистов была неадекватна в принципе, не в мелочах, а в самой своей сути. Аграрное перенаселение в России позволило поднять арендную плату земли в 4–5 раз выше капиталистической ренты. Поэтому укреплялось не капиталистическое, а трудовое крестьянское хозяйство – процесс шел совершенно иначе, чем на Западе.
Ведущий экономист-аграрник А.В. Чаянов писал: «В России в период, начиная с освобождения крестьян (1861 г.) и до революции 1917 г., в аграрном секторе существовало рядом с крупным капиталистическим крестьянское семейное хозяйство, что и привело к разрушению первого, ибо малоземельные крестьяне платили за землю больше, чем давала рента капиталистического сельского хозяйства, что неизбежно вело к распродаже крупной земельной собственности крестьянам» [2, с. 143].
Освоив уроки революции 1905–1907 гг., большевики преодолели евроцентризм марксизма. Это дало основу новой теории революции – не с целью расчистки пространства для развития капитализма, а как средство предотвратить втягивание России в периферийный капитализм с раскрестьяниванием и архаизацией хозяйства.
В этой теории дана новая трактовка русской революции. Ленин осторожно выдвигает кардинально новую для марксизма идею о революциях, движущей силой которых является не устранение препятствий для господства «прогрессивных» производственных отношений капитализма, а именно предотвращение этого господства – стремление не пойти по капиталистическому пути развития. Это понимание сути русской революции затем было развито в идейных основах революций других крестьянских стран. Такое «преодоление» марксизма привело, однако, к глубокому расколу в среде социал-демократов.
Вебер считал, внимательно изучая нашу революцию 1905 г., что происходящие в России процессы имели фундаментальное значение для мирового обществоведения. Это было первое крупномасштабное столкновение традиционного общества с наступающим на него современным капитализмом. Такое столкновение давало очень ценное знание как о современном капитализме, так и о его главном противнике – традиционном обществе. Вебер даже изучил русский язык, чтобы следить за ходом событий.
Методологическая слабость российского обществоведения во многом предопределила невозможность общества и власти осваивать в режиме реального времени смысл тех цивилизационных проектов, которые в тот период «конкурировали» на общественной сцене России. Усваивался только верхушечный политический смысл. Если бы общество успевало понять глубинный смысл и «взвесить» потенциал всех проектов, то, возможно, не произошло бы тотальной катастрофы, которая последовала за революцией. Есть основания считать, что противоречия в России не были до такой степени антагонистическими, чтобы с неизбежностью разрешиться в гражданской войне.
Но в обществоведении понимание хода исторических процессов резко отстало. Сейчас пишут, что Ленин и Столыпин верно поняли состояние России, но пошли разными путями, следовали разным проектам. Однако, судя по литературе, оба их проекта были поняты в малой степени, очень большая часть созданного в них знания не была использована. А ведь Столыпин (по типу образования и мышления – ученый) вел свою неудавшуюся реформу почти как научный эксперимент. Он проверил важную альтернативу, регулярно «выкладывал» эмпирические результаты, за реформой можно было следить по надежным данным.
Советское и постсоветское обществоведение еще в меньшей степени освоило урок Столыпина, чем его современники. К Столыпинской реформе подошли с позиции политической конъюнктуры. Она была обречена на неудачу не столько по причине крайней реакционности, но и из-за непреодолимых объективных ограничений, и это – важный вывод, пусть даже гипотетический, сегодня актуален для анализа реформ последних 25 лет. Но ведь и в нынешней попытке «фермеризации» данный вывод полностью игнорировали. Наше обществоведение в этом важном разделе оказалось необучающейся системой. Оно было неспособно к рефлексии, хотя все необходимые данные были налицо[8]8
Итальянский политолог М. Феретти, составившая обзор работ, посвященных канонизации Столыпина, пишет: «Показательно быстрое и легкое забвение призыва о возврате к демократическим идеалам Февральской революции. Само по себе это неудивительно. У тех, кто считает Учредительное собрание воплощением демократической воли России, сразу возникает очень неудобная проблема: поскольку большинство голосов было отдано эсерам, “демократическая воля” России высказалась против реализации “западного пути” в экономическом и политическом переустройстве России… Февраль был тут же забыт. Возник миф великого реформатора Столыпина» [21].
[Закрыть].
Реформа Столыпина была альтернативой советской аграрной политике: Столыпин разрушал сельскую общину так же, как А.Н. Яковлев требовал разрушить колхоз. Столыпинская аграрная реформа изображалась прообразом горбачевской. В одной из центральных газет 12 мая 1991 г. даже была опубликована статья «Столыпин и Горбачев: две реформы “сверху”».
Среди прочих выводов из урока Столыпина был один сравнительно простой – о том, что смена хозяйственного уклада требует изменения технологической базы. Стоимость этого изменения бывает очень высока. Россия в начале ХХ в. могла обеспечить средствами для ведения интенсивного хозяйства лишь кучку капиталистических хозяйств помещиков (на производство 20 % товарного хлеба), но не более. Остальное – горбом крестьян. В 1910 г. в России в работе на полях было 8 млн деревянных сох, более 3 млн деревянных плугов и 5,5 млн железных плугов. Конкретно, у правительства Столыпина не было средств, чтобы «оплатить» переход от одного уклада (общинное крестьянское хозяйство) к другому (капиталистическое фермерство), – не было средств, чтобы обеспечить фермера железным плугом, молотилкой и лошадью. В расчетах стоимости такого перехода правительство ошиблось.
Можно говорить о проектах Ленина и Столыпина – замыслы обоих проектов глубоки. Но методологического инструментария для их разработки не было. Какие тексты произвела обществоведческая элита России того времени на основании анализа революции 1905 г.? Сборник «Вехи» – эмоциональный гуманитарный трактат о ценностях интеллигенции. Книга интересная, но никакого инженерного знания о том, что надо делать, чтобы скорректировать общественные процессы, из нее нельзя получить. Авторы – верхушка либеральной интеллигенции, самая образованная часть общества, но никакого знания, нужного для государства или какой-то части общества (власти, управления, сословий, оппозиции), они не дали.
Более того, после Февраля 1917 г. либералы пришли к власти – и никакого проекта, никакой технологии постановки целей и выработки решений. Полный провал! Они даже не смогли сформулировать программы действий по легитимизации своего режима, приняли концепцию непредрешенчества. Как можно действовать так во время революции?! Не было никакой национальной повестки дня, даже вопроса о форме власти – монархия ликвидирована, но и республика не провозглашена. Если пройтись по всем пунктам перечня функций революционной буржуазно-либеральной власти – ситуация та же самая.
Те же ошибки продолжили делать вожди Белого движения и их советники, включая кадетов и эсеров. Красноречива неудача запоздалого социального проекта – земельной реформы в Крыму и Северной Таврии по инициативе Врангеля, ставшего в апреле 1920 г. главнокомандующим и правителем Юга России. В его правительстве были А.В. Кривошеин (правая рука Столыпина в его реформе) и другой сподвижник Столыпина, Г.В. Глинка. Этот проект вошел в историю как «Левая политика правыми руками».
Врангель потребовал «вырвать из рук наших врагов главное орудие пропаганды против Белой армии и Белого движения: всякое подозрение в том, будто бы цель нашей борьбы с красными – восстановление помещичьих прав на землю и месть за их нарушение». В Крыму была налажена мощная по тем временам пропаганда, но проект опирался на утопические представления об установках крестьян, кулаков и помещиков – и провалился. Попытка реанимации Столыпинской реформы, даже в гораздо более «левой» форме, была отвергнута всеми вовлеченными в проект общностями и лишь ускорила крах режима Врангеля [22].
Белые не смогли (и даже принципиально отказались) предложить населению России программу сборки страны и народа. Это требовалось населению, и тот, кто предложил бы внятный и приемлемый проект такой сборки, сразу получил бы поддержку. Но вследствие ошибок в сфере этнических отношений белые «напоролись на национализм и истекли кровью».
Если бы Белое движение опиралось на верное знание об идущих на «постимперском пространстве» общественных процессах, оно могло бы избежать возникновения целого ряда порочных кругов.
Для нас важен тот факт, что обществоведение Российской империи оставило очень мало материалов о методологии и организации разработки и принятия решений в управлении. Многие критически важные решения в практике управления империи остаются необъясненными. Например, нет объяснения, почему монархия противилась попыткам учредить нормальное правительство, которое могло бы действовать как согласованное целое – царь вызывал к себе министров по одному. Много написано о роли Распутина, но он не мог задать модель институтов управления огромного государства. Их так создали и воспроизводили. Но тогдашние обществоведы этого не изучали, и наши сведения о структуре и философской базе этих институтов обрывочны – вот что важно.
Точно так же нет объяснения принятой Временным правительством упомянутой выше необычной доктрины непредрешенчества. Кто автор этой доктрины, какие доводы интеллектуалов партии либералов убедили правительство сделать такой выбор? Анализ подобных решений был бы очень полезным учебным материалом для нынешней российской политологии. Но реальность механизмов и методологии управления первого буржуазно-либерального государства в России нам практически неизвестна.
Советская власть: типы социального знания
На какое знание опирались советская власть и госаппарат? Почему они выдержали Гражданскую войну и вызванные ею бедствия и решили немало важных задач по восстановлению хозяйства, по сборке страны и народа, выполнили ряд больших программ развития?
Это стало возможным потому, что в госаппарат вошел большой контингент практиков – людей, которые знали на опыте состояние дел сверху донизу. Проект советской власти приняла и включилась в его осуществление значительная часть старой элиты – генералитет и офицерство, руководители полиции и жандармерии, значительная часть чиновничества и даже министров царского и Временного правительств, Академия наук, промышленники. Их дополнили практики «снизу» – грамотные рабочие и крестьяне, командиры Красной армии и студенты. Возникла дееспособная, знающая и увлеченная национальным проектом элита.
Опираясь на реальное знание, которым обладала Россия в лице этих работников, стало возможным укрепить новое государство и целый исторический период решать очевидные необходимые задачи, не допустив разрыва непрерывности с системой знания прежнего государства. Эти кадры руководили большими программами и оказались на высоте даже такого вызова, как Великая Отечественная война. Но социальное знание, которым они пользовались, было прежде всего знанием традиционным. Оно было сконцентрировано в опыте и здравом смысле.
Применение и развитие этого знания протекали в тяжелой дискуссии и в конфликте с официальным обществоведением, в основу которого тогда был положен исторический материализм. Эти дискуссии нарастали, они вели к расколам, а в крайней форме – и к репрессиям. Дискуссии были важными, но из-за эмоционального накала в них доминировали ценностные компоненты. Да и социальная цена их была очень велика.
Много удалось сделать при дефиците научного обществоведческого знания. Скажем, без развитой этнологии Советское государство смогло в 1918–1920 гг. усмирить этнический национализм окраин и на новой основе воссоздать «империю» в форме СССР. Сейчас в зарубежной антропологии это считается великим достижением.
Опыт и глубокое осмысление практики, жесткие дискуссии позволили избежать многих провалов. Но были и катастрофические ошибки, вызванные нехваткой рационального знания. Одна из них связана с первым этапом коллективизации; это рана, которая кровоточит постоянно. Реализация принятой в конце 1920-х гг. доктрины этой программы привела к голоду и тяжелому расколу сельского общества. Взятая за основу в исходной доктрине модель кооператива, выработанная в кибуцах в Палестине, признанная в европейском левом движении очень эффективной, была неприемлема для традиционного крестьянского мироощущения. Другое дело, что эта ошибка очень быстро (за три года) была проанализирована и исправлена.
Но после войны, во второй половине ХХ в., становилось все более очевидно, что наличие обществоведения научного типа – это необходимое условие выживания. Без него уже невозможно было успешно управлять урбанизированным индустриальным обществом. Традиционное и неявное знание уже не отвечало сложности задач. Общественные процессы выходили из-под контроля. Многие проявления недовольства приходилось подавлять, загоняя болезненные явления вглубь. Ю.В. Андропов в свое время признал, что «мы не знаем общество, в котором живем»[9]9
Буквально Ю.В. Андропов сказал в 1983 г. следующее: «Если говорить откровенно, мы еще до сих пор не изучили в должной мере общество, в котором живем и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, особенно экономические. Поэтому порой вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок».
[Закрыть].
В этом признании было предчувствие катастрофы. Это – как если бы капитан при начинающемся шторме в зоне рифов вдруг обнаружил, что на корабле пропали лоции и испорчен компас. Ведь это сказал человек, который много лет был председателем КГБ. Это признание для нас сегодня очень важно. Ведь Ю.В. Андропов не обвинил в нашем незнании общества каких-то академиков или целые институты Академии наук. Это незнание он представил как всеобщую национальную проблему, а значит, проблему нашей культуры, даже нашей картины мира.
Власть обслуживала огромная армия обществоведов: только научных работников в области исторических, экономических и философских наук в 1985 г. было 163 тыс. человек. Еще больше таких специалистов работало в госаппарате, народном хозяйстве и социальной сфере. Уже к 1988 г. было видно, что перестройка толкает общество к катастрофе. Но элита обществоведов этого не видела (или умалчивала, что несовместимо с научными нормами).
Если при этом «мы не знали общества, в котором живем», это значило, что их анализ методологически был неадекватен своему предмету – советскому обществу 1960–1985 гг. В результате и высшее руководство страны, и работники госаппарата на всех уровнях, и само общество не имели необходимого научного знания. Познавательные инструменты советского обществоведения не годились. А значит, и общество с государством, ведомые таким обществоведением, были подслеповатыми, если не слепыми. Это и привело к катастрофическому провалу.
В чем сегодня видится его причина? Почему ни в Российской империи, ни в СССР не возникла система научного знания об обществе? Разумеется, и раньше, и в советское время у нас было много блестящих мыслителей, которые высказывали блестящие идеи и писали интересные книги, но в науке отдельные таланты и даже их малые группы не могут заменить системы – социального сообщества, следующего нормам научности и связанного профессиональной этикой и коммуникациями особого типа.
В 1990-е гг. ряд аналитиков склонялись к мысли, что слабость советского обществоведения была обусловлена тем методологическим фильтром, которым служил взятый из марксизма исторический материализм с его специфической структурой познавательных средств. О методологическом несоответствии истмата реальности ХХ в. надо говорить особо – это большая и важная тема. Она актуальна, потому что, хотя сейчас российское постсоветское обществоведение сменило свой идеологический вектор и ориентируется на либеральные (или даже «антимарксистские») ценности, в методологическом плане никакого сдвига не произошло. Те же преподаватели, что и раньше, исходят из тех же постулатов истмата, а замена идеологической компоненты не повлияла на логику их рассуждений. Оказалось, что несущественно, за что они «болеют» – за труд против капитала или за капитал против труда. Парадигма задается фундаментальной картиной мира, а в либерализме и в истмате эти картины примерно одинаковы: обе сложились в проекте Просвещения.
Одна и та же причина обусловила слабость российского обществоведения и в начале ХХ в., и в конце. Она прямо вызвана принципиальными различиями в генезисе российского и западного обществоведения. Длительное господство истмата в официальной идеологии лишь затянуло смены парадигмы обществоведения с натурфилософской парадигмы на научную.
Что мы в результате получили при развитии нашего обществоведения на этой траектории? Мы пришли к такому положению, что Запад, при всех его провалах и кризисах, обеспечил постоянное снабжение государства и общества беспристрастным, инженерным обществоведческим знанием[10]10
Надо сказать, что и западное обществоведение не раз давало сбои в ХХ в. Как и в науке в целом, в нем происходили кризисы, связанные со сдвигами в картине мира, в представлениях о человеке, в самой общественной реальности. Зрение обществоведов в анализе ряда явлений было деформировано механистическим детерминизмом, унаследованной от ньютоновской модели мироздания верой в то, что наш мир прост и устроен наподобие математически точной машины. Это – особая тема. Но в России мировоззренческий кризис 80—90-х гг. ХХ в. привел к поражению даже и этой механистической рациональности.
[Закрыть]. А уж как им пользоваться – это решают «потребители» (политики, администраторы, общественные деятели, предприниматели и обыватели), исходя из своих ценностных представлений.
Пример – западная (почти исключительно американская) советология. Когда знакомишься с ее материалами, испытываешь уважение к качеству знания, которое советологи получали о нас: скрупулезно, ответственно, достоверно. Если заказчик требует: найдите в СССР такую социальную общность, которую можно использовать как таран против Советского государства, – разворачивается серия больших и глубоких проектов научного типа. Этнологи начинают комплексные исследования потенциально пригодных для этой роли этнических обществ, уходя вглубь истории как минимум на два века. Другие исследуют субкультуры российского и советского преступного мира, третьи – научную и гуманитарную интеллигенцию. Работают замечательные специалисты и по Достоевскому, и по Михаилу Булгакову; в Гарвардском университете целыми группами изучают «Собачье сердце», на все лады трактуя образы и Шарикова, и профессора Преображенского.
Если политические заказчики заключают контракт на анализ общности российских шахтеров как фактора дестабилизации системы, советологи изучат социокультурные особенности этой общности в разных условиях начиная с конца ХIХ в. и напишут монографию. А в закрытой аналитической записке скажут: вот идеальный контингент для создания в момент ослабления государства таких-то и таких-то кризисов. Выводы делаются с высокой точностью. И ведь большая часть таких монографий и даже часть этих докладов находились в СССР в спецхране, но наши советские обществоведы не видели в них никакой прикладной ценности и не верили их выводам. Они не владели методологией, чтобы понимать их смысл – иначе надо было бы предположить, что они игнорировали выводы советологов из идеологических антигосударственных соображений. Это невероятно.
Так же работают западные междисциплинарные центры прикладного обществоведения для решения политических проблем в любой части мира. Заказчик ставит задачу: как свергнуть президента Маркоса на Филиппинах? Проектные группы начинают изучать филиппинское общество, его историю, культуру, современные веяния и выбирают предположительно лучшие альтернативы. Устраивают революцию типа «оранжевой» – и вот в Маниле собираются у ворот воинских и полицейских частей толпы красивых девушек в нарядных платьях, с цветами и улыбками, они бросают цветы солдатам, поют им песни, лезут на грузовики. И прежде надежные профессиональные карательные отряды режима отказываются применять силу против таких демонстрантов. Всеобщее ликование – демократия победила.
Но при этом было установлено, что такой способ будет эффективен именно на Филиппинах, а в Южной Африке или в Тунисе сценарий должен быть совсем другим. Это блестящие инженерные разработки на основе научного обществоведения. Что могло этому противопоставить Советское государство? Нашим специалистам даже расшифровать подобные разработки было трудно, потому что у нас так не работали.
Вспомним недалекую историю. В 1960-е гг. СССР переживал очень сложный период. Страна выходила из состояния «мобилизационного социализма». Это довольно трудная задача – одна из самых сложных операций. Ее провели очень плохо, заложили в обществе массу «мин». Общество переживало кризис урбанизации – большинство населения за очень короткий срок стало городскими жителями. Люди переезжали в города, резко меняли образ жизни, приспосабливались к другому производству и быту, другому пространству. Массы людей испытывали тяжелый стресс, одновременно происходила смена поклонений. Общество быстро менялось и усложнялось, эти процессы надо было быстро изучать, находить новые социальные формы, чтобы снизить издержки трансформации. Но обществоведение методологически не было готово к решению этих задач, и страна скользила к обширному кризису, который превратился в системный.
Советское обществоведение не имело даже языка, чтобы описать подобные политические технологии. Для этого требовался ясный и беспристрастный «инженерный» язык. Видный социолог Г.С. Батыгин писал: «Советская философская проза в полной мере наследовала пророчески-темный стиль, приближавший ее к поэзии, иногда надрывный, но чаще восторженный. Философом, интеллектуалом по преимуществу считался тот, кто имел дар охватить разумом мироздание и отождествиться с истиной. Как и во времена стоиков, философ должен был быть знатоком всего на свете, в том числе и поэтом. …В той степени, в какой в публичный дискурс включалась социально-научная рационализированная проза, она также перенимала неистовство поэзии» [4, с. 43].
«Пророчески-темный стиль» присущ натурфилософии, можно сказать, это стиль социальной алхимии, а не науки. Такое обществоведение было не в состоянии интеллектуально овладеть созревающим кризисом, проблематизировать реальность и нарабатывать жесткое «инженерное» знание. Попытки противостоять кризису, перераставшему в катастрофу, не были обеспечены социальными технологиями, основанными на знании научного типа.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































