Читать книгу "«Классика и мы» – дискуссия на века"
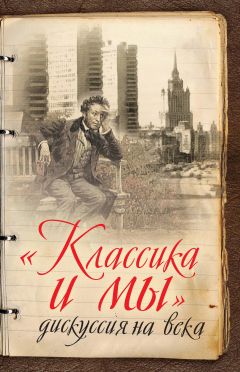
Автор книги: Сергей Куняев
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Наша задача, чтобы и сегодняшние писатели не тратили время на пустопорожние ссоры, на взаимные оскорбления. Наша задача состоит в том, чтобы они поняли, что поэзия… что поэты – это не скаковые лошади, что нет номеров в поэзии, что все равно мы, хотя и кусаем друг друга как норовистые кони и лягаем друг друга по пути, но все равно объективно мы впряжены в одну общую упряжку – упряжку русской литературы, русской культуры.
Вот, мне кажется, что это было упущено у выступавших.
Я хотел бы… я надеюсь, что дальнейшие выступления проставят нужные акценты и в то же время рад, что первые два выступления послужили хорошей затравкой.
Я бы хотел процитировать Гоголя. Гоголь писал:
«Скорбью ангела загорится наша поэзия, и ударивши по всем струнам, какие ни есть в русском человеке, внесет в самые огрубелые души святыню того, чего никакие силы и орудия не могут утвердить в человеке; вызовет нам нашу Россию, – нашу русскую Россию, не ту, которую показывают нам грубо какие-нибудь квасные патриоты и не ту, которую вызывают к нам из-за моря очужеземившиеся русские, но ту, которую извлечет она из нас же и покажет таким образом, что все до единого, каких бы ни были они различных мыслей, образов воспитанья, скажут в один голос: “Это наша Россия…”».
Но неравнодушие к собственному народу никогда не замыкалось в нашей классике на почвенничестве, никогда не сводилось к умиленной этнографии. Никогда не доходило до того, чтобы возвышать свой народ за счет унижения других! Лучшие из славянофилов в России никогда не позволяли себе опускаться до шовинизма! Русская классика гневными устами Короленко высказала свое отвращение к насаждавшемуся царской бюрократией антисемитизму! И это осталось навсегда наследием сегодняшних настоящих русских интеллигентов! (Аплодисменты.)
Долго тянулся спор между славянофилами и западниками, но практика литературы решила этот спор по-своему. Русская классика впитала все лучшее, что было на Западе, не подражая, не обезьянничая, и, переплавив это в горниле русской совести, сама пришла на Запад и завоевала его Толстым, Достоевским, Чеховым, определив на много лет вперед все развитие мировой литературы.
Еще один урок русской классики. Лишь неравнодушие к собственному народу дает право неравнодушия к человечеству. В противовес официальному патриотизму, патриотизму или слепому, или намеренно прищурившемуся, или патриотизму только с одним, да и то слегка приоткрытым глазом, русская классика голосом Чаадаева выдвинула тезис патриотизма с открытыми глазами.
На Западе среди левой интеллигенции в ходу выражение: патриотизм – это последнее прибежище негодяев. Я согласен с этим термином только при одной существенной поправке: фальшивый патриотизм, ретроградный патриотизм – это последнее прибежище негодяев. Против такого фальшивого, карьеристского, охранительского патриотизма и выступала русская классика, выдвигая патриотизм правды, свободолюбия, революционности. Это еще один урок русской классики. И он не пропал даром.
Когда мы пишем о трагедиях истории нашей страны, о наших недостатках, некоторые советологи нас умиленно поздравляют. Черт с ними – мы пишем не для них. А для нашего народа, перед которым мы не должны скрывать ничего, ни одной нашей трагедии. Но когда мы пишем тем же самым пером, той же самой искренней рукой о том, как мы любим нашу Родину, выражение лиц у этих господ меняется. Наш патриотизм им кажется угодничеством перед, как они говорят, – истеблишментом. Но мы-то знаем, что между угодничеством и настоящим патриотизмом – огромная моральная пропасть. И мы будем бороться с угодничеством и лицемерием, но не сойдем с позиций никем не предписанного нам, кроме нашей совести, патриотизма с открытыми глазами. Это – еще один урок нашей русской классики! (Аплодисменты.)
Е. Сидоров. Слово имеет Александр Борщаговский. Приготовиться Андрею Битову.
Александр Борщаговский. Если продолжить пунктиры, намеченные во вступительном слове Палиевского, довести их до логического конца, то в качестве идеального мира предстанет мир мертвый. Очень устроенный мир, мир, в котором непременно будет открываться сезон оперного театра «Иваном Сусаниным» и никакой другой оперой. Что-нибудь будет найдено достойное этого и для завершения сезона. И самое странное – мир, в котором кому-то ведомо, как прочитывать сложнейшие, талантливейшие, гениальные произведения русской классики.
Ну, мы – не дети, люди, собравшиеся в этом зале. И мы прекрасно знаем, обращаясь к классике любого народа мира, мы прекрасно знаем, как сложно бывает, когда речь идет о великом произведении, и как долго человечество пробивается к его истинному смыслу и как непременно каждая эпоха понимает его по-своему.
Отнюдь, отнюдь не нелепостью или недоразумением объясняется то, что Герцен по-своему понимал «Гамлета», Тургенев – по-своему. И всякий ум, я уж не говорю о всяком таланте, который по природе своей бунтарский, – потому что к классике, как бы она ни была высока, на коленях подползать нельзя. Режиссер, который на брюхе, на коленях пойдет к классике, заранее бия, так сказать, себя в грудь, винясь и объявляя о своей малости, он не имеет права приближаться к классике. К классике должен приближаться человек, воистину верующий и в свой талант, и в свое право нового прочтения классики, и, собственно говоря, к какой бы области мы ни обратились, мы сталкиваемся с этим сложнейшим явлением. И история, скажем, сценической интерпретации «Гамлета» полна столкновений – самых благородных, самых высоких и самых прекрасных столкновений разных мыслей, разного понимания. И это есть величайший коллективный, на столетия выстроившийся памятник величию «Гамлета». Он не может быть прочитан так, как прочитывались пьесы Сурова. Ну никак.
Значит, человек, который предполагает, что в русской классике все ясно, что существуют некие инстанции или некие критики, в книгах которых все написано и, следовательно, надо выполнять этот канон, они, простите меня, в высоком смысле не уважают русскую классику. Ибо уважение к русской классике в необыкновенной сложности, в неисчерпаемости ее идей, мыслей и образов предполагает непременно эту возможность. А ведь это не просто возможность. Нельзя ведь себе представить, что мир обезумел. Это есть потребность человека, это есть потребность художника и потребность времени.
Я по поводу МХАТа хочу вам напомнить, товарищ Палиевский. МХАТ существует, его называют по-прежнему – МХАТ. Но это не тот МХАТ – блистательный, новаторский, прекрасный, спектаклями которого мы любовались, и мы жили этими спектаклями. Где не все бы вам понравилось. В «Горячем сердце» любезный вашему сердцу Станиславский сотворил много такого, что, вероятно, могло бы быть зачислено в авангард. Но это действительно был новаторский и прекрасный театр. Но театр, как и все в жизни, развивается. И если он перестает развиваться, а это случилось со МХАТом, когда ушли великие граждане и художники, потому что это неразделимо, неразъемно… Если он начинает агонизировать, если он начинает топтаться на месте, то дурную службу служат ему охранители, а они появились тогда, в 50-е годы, когда театр переживал трагедию. Появились с тем, чтобы сказать с высокой трибуны – не трогайте МХАТ, не критикуйте этот театр. Каждый, поднявший руку на этот театр, поднял руку на мою родную мать – вот формула, которая прикрыла, обволокла театр, обложила его перинами и – успокоила. И сегодня мы расхлебываем это. И сегодня мы говорим: «Где же МХАТ?!»
Я думаю, что сама исходная позиция неверна. Мне интересно всегда читать Палиевского. Мне интересно всегда смотреть на него. У нас есть одна общая страсть – рыбная ловля. И я люблю его читать. Но сегодня меня поразила, поразила эта, с одной стороны, некая робость, нежелание сказать до конца, нежелание определительно сказать. Простите, так, как вы говорите об авангарде, простите меня, это настолько расплывчато, что я не знаю, как поступить с «Миром искусства», как поступить с Прокофьевым, с Шостаковичем. По-видимому, все это надо зачислить в авангард. И тогда я не буду и никто с вами не окажется рядышком, потому что нельзя сбрасывать гениальных художников только потому, что здесь нет простого повторения, копий или каких-то привычных ориентиров, в которых достаточно даже слепому, держась за… перебирая штакетник, брести и говорить: «Да, все хорошо, все похоже, все было, и так оно и должно быть». Это противно самой бунтарской природе искусства, этой величайшей тайне и силе проявления человеческого духа. Вот эта робкая трусливая оглядка – как бы не попасть в неоавангард.
Вот, скажем, что у вас получилось с периодизацией литературы. Странно, вдруг возникла как некая самостоятельность и отдельность литература 30–40-х годов. Причем эта концепция создает Палиевскому необычайные трудности. Ведь как-то надо примирить литературу и ее высшие достижения, так же в виде категорического императива предлагается принять тезис, что «Тихий Дон» – лучший роман двадцатого века. Это не доказывается, это постулируется. И вот приходится Палиевскому примирять этот ренессанс литературный с несколькими ударными формами человеческого существования, с трагическими судьбами писателей.
Но я скажу, что это, помимо всего прочего, попросту несостоятельно. А двадцатые годы? Какие у нас есть основания отделять двадцатые годы от тридцатых? Разве они менее значительны? Разве все значительное, что написал Толстой, не написано до тридцатых годов? Разве Всеволод Иванов двадцатых годов, особенно если учесть такие его романы, которые, подобно «Мастеру и Маргарите», до сих пор не напечатаны, как «Кремль» и «У», разве Всеволод Иванов в «Пархоменко» поднялся выше того, что было написано в двадцатые годы? Да я пройду по литературе живой, по классике нашей, и окажется, что создано это было в двадцатые годы. Но Палиевскому это неудобно, потому что в двадцатые годы в теории существовал, и властно о себе заявлял, и агрессивно себя проявлял Пролеткульт. А в тридцатых годах его так же административно задушили. Вот когда не стало Пролеткульта, задушенного прямым актом, так сказать, вот тогда – Ренессанс тридцатых и сороковых годов. Это не научно, это не отвечает реалиям литературным. Это не отвечает ни в коей мере наполнению самого литературного процесса. И надо очень увлечься собственной концепцией, принять ее прежде фактов, принять ее прежде литературы, принять ее, может быть, даже по какому-то постороннему соображению и затем с неистовством подгонять живые факты литературы и живую жизнь литературы к этим фактам.
Я не собирался выступать, но меня на это, так сказать, подвигнул а полемика. Но я был в некоторой растерянности поначалу, слушая Палиевского. Ну, Багрицкий – это, так сказать, частный выпад. Для меня неприятный, я бы сказал более того – гадкий, для меня лично, субъективно. Но это частное, так сказать, проявление слепоты какой-то исторической. Это такое яростное обращение собственных эмоций, собственного искреннего восприятия Багрицкого в некую объективность, в такую объективную категорию… Но я подумал о другом: почему же так получается? Я давно не занимаюсь критикой. Я счастлив, что чаще всего у меня дома сейчас раздаются звонки телефонные моих друзей, спрашивающих: «Саша, ты читал такую-то книгу? Ты читал такую-то книгу?» И называют книги. Из трех две книги называют критиков. И, действительно, мы в последнее время присутствуем при великолепном процессе все более глубокого понимания классики. Все более интересного ее понимания. Вместо рациона ермиловского и «Гоголя – борца за мир» мы получили просто много книг – ярких, интересных, они касаются самых разнообразных и сложнейших вопросов русской духовной жизни, нашей классики, всей нашей жизни прошлой, которая неотделима ни на одно мгновение, неотделима от нашего нынешнего существования. Это книги о Достоевском, о Чаадаеве. Я не хочу просто на это тратить регламент, я заканчиваю. Но я пришел на это собрание прежде всего с ощущением великолепно меняющегося времени. Времени богатого, времени, которое дарит нам много ценного и интересного. И, конечно же, дарит право режиссерам, вне зависимости от крови их, ставить талантливые спектакли, думать, экспериментировать, смотреть вглубь, ошибаться… И вот почему-то об этом прекрасном времени, о времени, когда, я бы сказал, повернуло на «ясно», когда все хорошо, при всех недоработках и сложностях, почему-то такой мрачный, пессимистический, как бы вызывающий уже этот некий «SOS», такой философски-литературоведческий «SOS», брошенный в зал. Нет для него никаких оснований. (Аплодисменты.)
Е. Сидоров. Андрей Битов. Подготовиться Серго Ломинадзе.
Андрей Битов. Для начала я ограничусь. Я, действительно, хотел говорить о классике и о нас. И, значит, то, что я думал, подверглось такой большой катализации, выражаясь идеологическим языком… Во время, там, трех-четырех выступлений моя самостоятельная, инертная мысль оказалась вправленной в русло, вынутой из него и снова туда же запихнутой.
В общем, короче говоря, мне не хочется полемизировать, мне хочется вспомнить, что я думаю по поводу «классики и мы» или «классики и нас». Как-то само собой получилось – автоматически, никто не стал обсуждать термина, что же такое классика. И сразу сказали, и с этим я абсолютно согласился, что классика – это от Пушкина до Чехова. Потом уже возникли, споры о советской классике и так далее, но никто не попробовал расширить ее глубже Пушкина. И это совершенно понятно – почему. Потому что классика, по-видимому, была всеми предшествовавшими или собиравшимися выступать воспринята как живое явление. И, следовательно, классика по одному тому принципу, что ее стало мало, поскольку много времени прошло, уже никого не занимала и занимала только та классика, которая продолжает жить.
Второе, о чем я стал думать, это тоже очень понятно, вот именно этот период. Тем более что он был совершенно точной историей, опущенной в семнадцатом году в фиксаж, и, продолжая быть живым и таким образом зафиксированным, установил между нами и классикой такие, даже весьма бурные, длительные, односторонние отношения. И вот историю этих односторонних отношений мы, собственно говоря, до сих пор и рассматриваем, а почему-то не классику.
И значит, когда я думал о том, кто такие «мы», то «мы» – это тоже очень широкое понятие. И в конце концов я был вынужден ограничиться тем, что, с одной стороны, это – я, и тем, что мы – это сидящие вот сейчас, то есть «сейчасные» мы.
Вот… Значит, что же меня заинтересовало? Меня заинтересовало, что вот эта самая постановка «классика и мы»…[3]3
Пропуск части текста связан с перестановкой аудиокассеты.
[Закрыть] <…>
…Что таковым он и является. Потому что живем мы в существенно реальном для рассмотрения, для практической жизни «сегодня» и «завтра». Может быть, это мое личное мнение, и я считаю, именно психологическую сторону взаимоотношений наших классиков, ее необходимо рассмотреть. Потому что она уж такая прекрасная и бедная в то же время, потому что она зафиксирована, она была и с ней можно все, и всегда можно сказать, что мы ее любим. Но вот я даже, по-моему, к сожалению, сам себя цитирую, но я еще не встречал человека, который бы утверждал, что он не любит природу и искусство. Однако мы живем в мире, который не любит ни того, ни другого.
И вот, в общем, что какая-то серьезная, я бы сказал, нелюбовь к классике сказывается, по-моему, вот в этом помазывании, в этой удивительной сладостной любви. И ошибки, происходящие в восприятии классиков, потом имеют очень длинный резонанс и такую, как называется в медицине, иррадиирущую боль. Мы будем спорить о том, правильно ли мы составили ту пятерку, не дополнить ли ее шестым, и ошибаться по поводу обойм, а между тем не понимаем, что болит у нас самих, а не у того, шестого, который включен или не включен в пятерку.
Вот, значит, о каких-то таких ошибках восприятия классиков, которые сказываются потом на живом литературном процессе, я и хочу сказать… Примеров у меня не будет… Это будет, так сказать, попытка непосредственной мысли.
Первое. Как ни странно, восхищаясь их мастерством, мы прячемся под этим восхищением от сущностного их восприятия. («Они» – это классики.) Восприятия их темы, их дела, их судьбы. И мы принимаем их вне культуры, которую они несут и в которой мы выступаем наследниками, то есть воспринимаем их не культурно, с чрезмерным восторгом и недостаточным проникновением. Нам это только кажется, что они писали сугубо художественно. Они, по-видимому, руководствовались чем-то иным, они были современными писателями и писали о человеке. Человек этот имел и имеет достаточно общую природу, чтобы до сих пор, прячась в великие истины, находить, их неумирающими в современности и парализовать собственные усилия в том же направлении. Ибо у всего того, что было, было направление.
Второе. Восхищаясь ими, мы отделываемся от них, блокируя в себе возможность действительно что-то перенять и чему-то научиться. Нельзя обучиться приему, пластике, художественным средствам, принимать формально любые достижения. Это просто нелепо. «Я учусь у Толстого или я учусь у Пушкина». Сказано: «Ученик никогда не будет выше учителя своего». И это никогда неоспоримо, это абсолютный закон. Нельзя обрекать себя на ученичество, игнорируя собственное призвание и упуская то единственное и очень малое время, отпущенное каждому. От них («они» – это опять классики), от них надо воспринять движение, то есть культуру. Как они были гениальны, теперь это уже всем ясно. Спорить тут не о чем. Кто в них, как человек, осилил это чудовищное и удивительное существование, осуществление это – вот непременный вопрос к самому себе.
Третье. От нашего глубокомысленного восприятия протягивается ряд отраженных связей, который мог бы показаться даже обратным. Как бы они были живы и мстили нам за непонимание. А поскольку мы их не зря зовем вечно живыми и не все в них умерло, то вполне возможно, что именно их жизнь нам мстит.
Кстати, было такое предположение Хлебникова, что, например, две мировые войны он предсказал действительно, по датам рождения единственного русского неосуществленного гения – Лермонтова. Так что тут есть и вполне материалистический аспект. То, что современники воспринимают своих живых писателей почти максимально искаженно – это довольно известный факт. То, что от ушедшей эпохи остается жить только культура, – это тоже факт. По этой культуре мы судим о реально существовавшем когда-то мире, о котором никакого реального представления не имеем.
В отношении русской литературы девятнадцатого века, загипнотизированные терминологией, между прочим, достаточно поздно образованной – Писаревым, социалистический реализм и так далее, – мы, безусловно, убеждены, что эта литература этот век верно отобразила, чуть ли не один к одному. Мы уже не страдаем тем неузнаванием себя, каким страдали истлевшие современники классиков. И это, надо сознаться, нам льстит, что мы их наконец понимаем. Мы признаем их отражение абсолютным, не заметив при этом, что этим признанием автоматически зачеркиваем природу восхищающего нас искусства. Это все равно, что, глядя на пейзаж восемнадцатого века, утверждать, что тогда и природа-то была другая. Это верно лишь в природоохранно-экологическом отношении. Но камень и дерево были такие же. Глядя на другую природу восемнадцатого века, надо все-таки представлять себе, что другая она была прежде всего от другого видения.
То, что мы себе наверняка утвердительно неверно рисуем девятнадцатый, век, населенный Чичиковыми, Рудиными и Болконскими, – куда еще ни шло. Но то, что убежденные художественною силою классиков, заодно отказав им в праве создания своего художественного мира, мы автоматически переносим требование отражения современного мира современными писателями один к одному по отношению к собственному опыту и удивляемся, что требование подобного рода может быть выполнено лишь художественно слабо, и продолжаем требовать образов заявленных нами современников, выполненных столь же убедительно, что и Акакий Акакиевич или Анна Каренина, – вот что по меньшей мере странно. Но, к сожалению, и опасно для развития современной литературы.
Вот когда классика, не виновная в этом ни сном ни духом, давит, не пускает, не дает ни себя, ни самих себя понять. Это и есть некультурно – отменять право художника на свой мир… И приводит это к тому, что художник отменяет его в себе, то есть перестает им быть, а скорее всего, просто не становится.
Некультурность требования к современной литературе – это требование нового Пушкина и нового Льва Толстого. Разве не встречалось до сотни раз, до тысячи, что величие наших дел ждет своего Льва Толстого – пафос ни к чему не обязывающей веры в будущее литературы. Все время только в будущее. Между тем никакой другой задачи, как быть современной, у литературы нет. А как она с этим справляется, можно судить лишь в прошлом времени. Как она уже справилась. Как можно требовать нового Пушкина, когда он у нас уже был? Вот высочайшая степень неблагодарности и даже наглости, если не невежества. У нас… (Аплодисменты.) У нас в России, конечно, всего много, но ни одна нация не выродит вам Шекспира или Сервантеса по два раза. (Смех.) Представьте себе голландца, который потребует себе новую эпоху великих географических открытий. Позвольте, мы живем не со вчерашнего дня, мы живем в мире с уже открытыми материками, мы живем в стране, в которой уже были Пушкин и Толстой. Это ко многому обязывает. Это никого не обязывает быть гением, но это обязывает быть культурным, потому что большего основания для культуры, чем они, требовать нельзя.
Отсюда прямым ходом возникает убогая надежда на возрождение со стороны – придут Пушкин и Гоголь и нам напишут. Я однажды слышал от писателя, которого теперь уже здесь нет, он мертв, но поэтому именно можно это и процитировать. Он, значит, будучи нетрезв и весьма искренен (Шум.), посмотрев на мой косой взгляд, брошенный на его, так сказать, барско-мандельштамовскую шубу, висевшую в период его такого временного процветания, уловив этот взгляд, – у меня еще не было шубы, теперь есть (Смех.), – он крикнул: «Мы, скобари, нам все «Войну и мир» написать хочется, а не получается, не получается». Причем он оболгал и Псковскую губернию тоже, потому что он не оттуда. Но вот то, что «не получается», это был очень искренний вздох. И действительно, не должно получиться.
Рассмотрение классической литературы, и только литературы – вот что мне кажется тоже некоторым таким некультурным аспектом. Дело в том, что культура, по-видимому, не замещается классической литературой. Мы в некоторой степени так, кое-что видели в живописи, мы все, так сказать, знаем, что вот вроде бы русская живопись не вставала в ряд с литературой – до Рублева уже не дотянуться, второго Рублева мы не просим… А вот музыка – а вот в музыке мы видим, как уже начинается спор.
В общем, культура – это очень много. И отдавшись наиболее легко доступному – вот это бедная еще классика русская тем, что она наиболее легко доступная, это романистика, которая нам всунута в школе, и там заложен первый некультурный пласт, на котором мы поскальзываемся потом очень долго, приобретая даже бездну сведений. Но она лежит на этом нижнем пласте, и выковырять ее из подсознания часто стоит невероятного труда внутреннего освобождения. Собственно, единственного труда, к которому призывает нас, по-моему, наша классика.
И вот это некоторое обеднение понятия культуры, из которого вдруг исключилась история, философия и гуманитарная мысль, вот тоже, по-моему, тоже такая бедность. Писатели, конечно, были за все в ответе в России. Но, кстати сказать, в России было еще кое-что. Вот…
Вот я думаю, что, кстати сказать, наверное, конкретно построив свои претензии, можно было бы предъявить и некоторые претензии конкретного толка. Например, о количестве культурных изданий, отнесенных к нашей, действительно удивительной, и ни у одного народа она так близко не стоит, но, кстати сказать, обозримой довольно, классике. Это не под силу следующему поколению. Может быть, встать вровень с ними и не под силу. Но не не под силу отнестись к ним культурно. На сколько лет затягиваются любые академические комментированные издания! Мы знаем культурных изданий серийных буквально два, там, скажем, «Библиотеку поэта» или серию «Литературных памятников». И какая вдруг радость увидеть, допустим, книжку – стихи Пушкина, выпущенную в Михайловском, вернее, написанную в Михайловском. Казалось бы, очень простенькая книжка, но радость-то наша культурная – мы все эти стихи знаем, это – культурно. Вот…
Или, допустим, при всех недостатках в данном случае, книга – стихи, написанные в Болдине. Произведения пушкинские болдинские. Это тоже культурное движение, понимаете? И вот такое заведомо некультурное отношение, при котором, значит, специальные книги нужны специалистам, такое отношение сразу вычеркивает понятие культурного отношения к своему наследию. Потому что не специалистам нужны академические комментированные издания и не специалистам нужны по-настоящему изданные классики. Даже тут, наверное, непочатый до сих пор край работы, хотя, наверное, степеней очень много было получено на этой ниве. Так что, я думаю, что потребление любого рода никак не может стать фактом новой культуры. Вот… И как бы мы ни утончались в потреблении, этим мы культуру не создадим. Пушкин – вот, кстати, я сошлюсь на Палиевского, которого тут в основном клевали, – у него в статье, вот когда был юбилей Пушкина, была статья, посвященная Пушкину, в журнале «Москва», – не помню, в каком номере. Там была, на мой взгляд, это мне лично очень подошло, совершенно прекрасная мысль о том… Ну, о каком-то генезисе пушкинском – простите, если я перевру буквально все. (Смех.)
Вот, значит… Вот в чем дело: Пушкин действительно необыкновенный подарок России, нашей нации и всему чему угодно, потому что в одном прыжке, в одном скачке, в одном человеке он сделал, наверное, не меньше Петра, а может быть, больше – он предоставил культурный путь развития, по которому она не сразу последовала, потому что это было… не под силу. Но многие были, тем не менее, культурные явления. У Палиевского там говорится о том, насколько мало у Пушкина было оснований для такой постановки себя и для такой миссии в русской культуре. Это, мне кажется, очень серьезная мысль. В общем, практически, ему встать необходимо было на такие вещи, как история, как нация, как фольклор и так далее, но он практически их себе создал. Он просто больше гораздо их под себя подставил, чтобы сделать свое движение, нежели ими обладал. Так что эта статья очень в пользу подвига Пушкина. На этом все… Да…
Значит, потребление, мне кажется, не лучший способ создать новую культуру, а русская классика учит нас, если она нас чему-то учит, если можно принять такой термин, не художественным средствам, не мастерству, а, по-видимому, нас, пишущих, она учит предельному подчинению задач, которым она следовала, чтобы не уподобиться все растущему валу потребления, при котором мы, недорасходовав предыдущих классиков, найдем вторых классиков, потом третий эшелон раскопаем и все время будем охать, как богата русская литература. Но надо же что-то и делать. Культурным надо быть, культуру надо делать. Вот… Значит…
Еще я буквально одну мысль скажу, и на этом все. Было сказано… Да, на этом все… Было сказано довольно давно, что в анализе бед русской интеллигенции, что в России интересы распределения и уравнения в сознаниях и чувствах всегда доминировали над интересами производства и творчества. Я думаю, что эта болезнь видна и до сих пор, когда на дискуссии «Классика и мы» прежде всего все сводится к вопросу распределения ролей. (Аплодисменты.)
Е. Сидоров. Сергей Ломинадзе. Приготовиться Семену Машинскому.
Серго Ломинадзе. Я тоже готовился к выступлению заранее, и начало этого обсуждения меня сбило с моего плана, я к нему все-таки вернусь, но предварительно, поскольку здесь возникло такое силовое поле, надо по отношению к нему как-то определиться. Я скажу только одну вещь относительно вступительного доклада Петра Васильевича. Мне кажется, он идеализирует 30-е годы. В известном смысле, я об этом могу судить лучше всех, выступавших до меня на этой трибуне, потому что сам до некоторой степени это… и даже в прямом смысле, испытал это на себе. И даже вплоть до таких конкретных деталей, как, скажем, положение в том же Большом театре. Оно мне в те годы очень хорошо было знакомо, потому что я воспитывался у тетки, артистки Большого театра. И в эти тридцатые годы была не только постановка «Ивана Сусанина», но было и изгнание Голованова из того же Большого театра, и замена его Самосудом. Это называлось «Битва под Керженцевым Самосуда над Головановым».
Но дело даже не в этом, а дело в том, что в тридцатые годы не только те, кто поднял меч, от меча и погибли. И классическая русская литература это, надо сказать, тоже отразила. Она отразила это, скажем, в стихах Заболоцкого:
Вот они и шли в своих бушлатах,
Два несчастных русских старика,
Вспоминая о родимых хатах
И томясь о них издалека.
Они-то уж меча, очевидно, не поднимали. И к авангарду их причислить трудно. Вот…
С такими коррективами я могу добавить, что, с другой стороны, мира в искусстве не будет, конечно, и призывы к миру, они, в общем, не имеют под собой почвы. Потому что искусство – вещь серьезная, оно касается судеб наций, судеб отечества, вещей очень серьезных. Поэтому теоретические… нет, не теоретические, а вообще споры, конечно, об искусстве будут страстны и жизненны. И они могут и стоить жизни, в том смысле, что будут уносить здоровье, сердце, все, что хотите. Без этого развития искусства быть не может. Но я бы хотел пожелать, чтобы как бы страстны они в неизбежности ни были, они не превращались в нечто такое, что напоминало бы нам тридцатые годы. Вот с таким предуведомлением я хочу дальше еще сказать… Выразить свое несогласие, по-моему, с Борщаговским и отчасти с Евтушенко, не то что несогласие, а сказать прямо: да, дело в том, что линия Маяковского, как мне представляется, конечно, не может быть совместима в русской литературе с линией, допустим, Есенина. Это две разные линии, и линии, борющиеся между собой. В этом надо отдавать себе отчет. Скажем, поэт, который писал: «Чтобы в мире без Россий, без Латвий, жить единым человечьим общежитьем», – это олицетворение не той линии, о которой сказано: «Если крикнет рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я скажу: «Не надо рая, дайте родину мою». Это принципиально иные позиции. И их совместить в эвклидовском мире почти невозможно.









































