Читать книгу "«Классика и мы» – дискуссия на века"
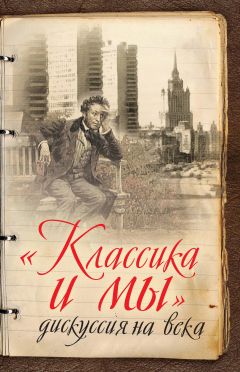
Автор книги: Сергей Куняев
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Или: «Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя, умереть» – о матери, о старухе – и другое: «Стар – убивать, на пепельницы черепа…» Или: «Клячу истории загоним»…
Это линии в пределах искусства враждующие. Другое дело, что они сходятся где-то, может быть, в недоступном нашему анализу пространстве, ибо в общем-то Маяковский – тоже поэт – вот тут они сходятся. Но это не исключает споров и страстей, которые могут даже стоить жизни по этому поводу.
А теперь я хочу сказать уже о том, о чем я, собственно говоря, собирался говорить. И памятуя о том, чтобы эти наши споры не вызывали определенных ассоциаций, тем более что мы с вами сегодня говорим и рассуждаем в до некоторой степени исторический день – сегодня же 21 декабря, день рождения как раз того человека, с которым в тридцатые годы довольно много связано… (Шум.)
Так вот, памятуя об этом, я все-таки скажу, что то, что делается с русской классикой у нас сейчас, вызывает во мне чувство необычайного негодования. Почему я с места посмел возразить Анатолию Васильевичу относительно того, что мы хотим классику без посредников. Потому что с некоторых пор, и действительно, как говорил Палиевский, может быть, в последнее десятилетие, во множестве выступлений прослеживается такая мысль, что классику надо приблизить, ее надо сделать современной и иными путями, как при помощи интерпретации такой-то и такой-то, этого сделать невозможно. Могу просто процитировать. Вот, например, совсем недавно Майя Туровская писала: «Эфрос – режиссер-звезда. Понятие «звезда» есть маркированность личностью. Это один из самых действенных способов привлечения зрителя к спектаклю, театру» – и так далее. «Спектакли Эфроса по-своему актуализируют классику, вызывают ее из хрестоматийного небытия и вплотную придвигают к зрителям».
Вот этот тезис о том, что без интерпретации Эфроса, Любимова и кого бы то ни было классика будет находиться в хрестоматийном небытии, вызывает у меня глубокое негодование. (Выкрики.) Одну секунду… (Аплодисменты.) Речь идет не о том, что литературные пьесы не надо ставить. Их, конечно, надо ставить, ибо параллельно литературному произведению, драматургическому, должно и будет существовать произведение театральное. Но мы забываем о таком факте, как лавина экранизаций и телепостановок. И речь сейчас идет не об интерпретации, о трактовках можно спорить, речь идет о самом предметном бытии этой классики, о ее тексте. Он нарушается почти в каждой постановке и почти при каждой экранизации. Я считаю, что сама по себе лавина экранизаций есть уже зло, даже если мы будем говорить о так называемых «хороших» экранизациях. Потому что хороших экранизаций в принципе быть, по-моему, не может. Мы при этом несем такие потери от замены слова изображением, от перевода того, что нужно видеть духовным взором, в план предметно-видимого, что эти потери невосполнимы. Но это еще цветочки по сравнению с тем, что – при естественных потерях в результате такого перевода – делается путем самого искажения, купирования и дополнения текста. И вот речь идет именно о тексте.
Что я имел в виду, когда сказал «без посредников»? Я могу пояснить. Я считаю, что «Герой нашего времени» Лермонтова дойдет до каждого с гораздо большей проникновенностью, нежели дошел тот же спектакль, поставленный Анатолием Васильевичем Эфросом, «Страницы журнала Печорина». Вот это как раз тот спектакль, который все видели, который я видел. Там есть существенное, хотя отнюдь не самое такое серьезное из всех попадающихся нам нарушений текста. А вот такая, например, вещь. Ну, дальше я не буду вдаваться в подробности. Но если вы помните, там, в конце этого спектакля. Печорин – Даль Орлов… Владимир Даль, прошу прощения… Ну, Олег Даль, неважно… начинает читать стихотворение Лермонтова «И скучно, и грустно, и некому руку подать…» Вы понимаете… Лермонтов специально сделал строение романа таким, что там офицер-повествователь отделен от Печорина, Печорин, в свою очередь, отделен от Грушницкого. Это проблемная для Лермонтова ситуация, отделение его от этого демонического, так сказать, печоринского начала. И когда Печорин начинает, не сняв своей фуражки, декламировать стихотворение, в котором лирическим «я» выступает сам Лермонтов, он перечеркивает весь этот замысел поэта. Вот вам одно из мелких, просто попадающихся на глаза, нарушений текста. Но довольно, в данном случае, существенное.
А что делается вообще? Ну…если бы кто-то это проанализировал! Я, кстати говоря, не против трактовок. Но трактовок нынче, вообще-то говоря, и нет. Потому что… например, так сказать… Вот, скажем, что пишется о Любимове. Что пишет о нем Юрий Трифонов в журнале «Театр». Это в юбилейной статье. «Посадить его в клетку кем-то придуманного сюжета, удержать в руках, надеть на него корсет, пускай даже классический, невозможно. Когда он ставит Шекспира, он убирает в «Гамлете» сцену с Фортинбрасом. Когда хочет поставить Островского, берет сразу все его пьесы и перемешивает их, как белок с желтком, прежде чем зажарить. Вопрос: а можно ли так? Другим нельзя, ему – можно. Талант обладает мощью доказательства, несмотря ни на что».
Так вот, я хочу, чтобы этого самого Островского нам дали не как белок с желтком, не в виде гоголя-моголя, а в виде хотя бы той самой пьесы, текст которой написал Островский, но чтобы ее интерпретировали в пределах, тех объективных пределах, которые позволяет эта пьеса, как угодно, но именно в этих пределах. Но этого же нет! Вообще надо сказать, что сама метафорика трифоновская – «классический корсет», «белок с желтком» – это напоминает сюрреалистический пейзаж: швейная машина тут же рядом с трупом в виде какой-то яичницы. А чем это, оказывается, объясняется? Это объясняется тем, что Любимова мучит комплекс демиурга, – он должен создавать, творить, быть исполнителем ему не по нутру, подчиняться он не умеет. Но если он творец-режиссер, то он обязан подчиняться! А если он просто творец – пусть пишет сам. (Шум, аплодисменты.)
Причем… возмущает… знаете что? Возмущает вот что. Возмущает даже не сам этот факт. В конце концов в драматургии, в театральной жизни, в жизни кино мало ли что может происходить. Самое…
Е. Сидоров. Все… Я просто сказал о регламенте. Десять минут.
С. Ломинадзе…Наиболее… вызывает наибольшее… (Выкрики.) Что? Больше всего вызывает возмущение то, что это именно и считается как раз натуральным постижением классики. Недавно была опубликована в «Искусстве кино» статья Свободина «Вольный Чехов» о кинофильме «Неоконченная пьеса для механического пианино». Сценарий Адабашьяна – Михалкова. Там мысль такая, что большая половина реплик в этой пьесе принадлежит не Чехову совершенно, то есть это чисто реплики сценариста. Меньшая половина – чеховская только по характеру. Не текстуально, а только по характеру. Но при всем том говорится так: «В этом вольном соединении чеховских и нечеховских реплик актеры наживают ту интонацию, что составляет не только секрет обаяния ленты, но и приближает нас к Чехову».
Вот второго я понять не могу. «Секрет обаяния», – допустим, это дело вкуса. Я предпочитаю… Да, причем тут говорится так:
«Автор фильма свободно и раскованно продолжает улучшение жанра, действуя в духе нынешнего понимания драматургии Чехова, характерного для чеховских спектаклей 70-х годов». Или там… «они не педантично, без педантизма осуществляют…».
Причем самая основная идея состоит в том, что, отправляясь от одной пьесы Чехова, сделали ту же контаминацию, создали тем самым модель чеховского мира. Это все равно, что из юнкерской поэмы Лермонтова, добавив туда «Вадима», смоделировать весь творческий мир Лермонтова, включая «Демона», «Героя нашего времени» и «Песню про купца Калашникова». (Шум.) Это можно делать, выдавая это за нечто свое, пожалуйста. Если угодно. Кому что нравится… Так я говорю… (Шум.) Минуточку… Я же только что прочитал… Еще две минуты… о том, что в этом вольном соединении чеховских и нечеховских реплик актеры наживают ту интонацию, что составляет не только секрет обаяния, но и приближает нас к Чехову. Вот почему приближает, я не могу понять. Если вам нравится не стопроцентный Чехов, а 70 процентов Адабашьяна – Михалкова и 30 процентов Чехова, это дело ваше. Но почему вы говорите, что с добавлением 70-ти процентов Адабашьяна вы приблизитесь к подлинному Чехову, вот это, наконец, понять совершенно невозможно. (Аплодисменты.)
Это один пункт моего выступления.
Дайте мне еще минут пять, я вас очень прошу! (Смех, шум, аплодисменты.)
Е. Сидоров. Я не понимаю смысла ваших аплодисментов. Дать еще? (С места: «Дать!») Три минуты всего, потому что еще много народа ждет своей очереди. Несколько человек…
С. Ломинадзе. Это я говорил о… Понимаете, у нас есть такое авторитетное издание, очень серьезный такой «Контекст» литературоведческий… Так вот, я пытался сказать о том контексте, в котором реально и жизненно существует сейчас наша классика. Но есть еще литературный контекст, чисто литературный контекст. И в этом смысле, надо сказать, нашей классике нельзя сказать, чтобы повезло. Мы ее, выражаясь несколько вульгарно, никак не можем собрать, что называется, в полном составе. А она-то, действительно, должна существовать в контексте всей целостности. Так, скажем, одно время мы имели Блока без Есенина, другое какое-то время мы имели Достоевского без Толстого, сейчас мы имеем Достоевского, но мы застряли на «Дневнике писателя». Дальше продвижения нет. Ну, вот совсем недавно, буквально на днях, вышла антология «Русские поэты начала XX века». В общем, прекрасная антология, с интересным предисловием. Там в предисловии говорится об акмеистах – Мандельштам, Городецкий, Гумилев и другие, и говорится о Гумилеве, что он самый последовательный акмеист. Когда открываешь и начинаешь читать, то там есть и Городецкий, и Мандельштам, и Ахматова, все в порядке, но Гумилева самого нет. (Смех.) Вот это выпадение из контекста, которое можно проиллюстрировать на многих примерах, – Тютчев. Тютчев существует только в виде своей поэзии, статьи его не опубликованы в целостном таком виде. Вернее, давным-давно не публиковались. Фет существует без своих воспоминаний, и так далее.
Вот об этом контексте, по-моему, мы должны печься.
Ну, все. (Аплодисменты.)
Е. Сидоров. Слово имеет Семен Семенович Машинский. Приготовиться Михаилу Петровичу Лобанову.
Семен Машинский. Наша дискуссия, мне кажется, развивается несколькими параллельными и далеко не всегда перекрещивающимися дорогами. И это обстоятельство побудило меня отказаться от заранее приготовленной речи, и ограничиться несколькими репликами.
С этой кафедры несколько раз уже звучало имя одного почтенного классика. И мне хочется его назвать. В связи с одной знаменитой и поразительной по точности фразой, которую он как бы написал специально для нашего сегодняшнего собрания. Эта фраза звучала так: «В литературном мире нет мертвых. Мертвецы вмешиваются в нашу жизнь точно так же, как живые». И эта произнесенная сто пятьдесят лет тому назад фраза Гоголя, она сегодня звучит как сущая правда. Я смотрю на этот переполненный зал и думаю – как же велика заинтересованность людей в том предмете, который мы сегодня обсуждаем. Мы даже, может быть, не всегда замечаем, как глубоко вторглась классика в наш общественный быт, в наше сознание, в нашу литературу, в нашу критику, во все поры нашей жизни. И какую грандиозную роль она играет в нашем общественном быту.
Лет десять тому назад на страницах журнала «Вопросы литературы» была напечатана анкета. Один из вопросов звучал приблизительно так: «Как вы относитесь к классическому наследию, к классическим традициям?» И один из участников этой дискуссии, тогда еще молодой, но сегодня уже весьма известный поэт, ответил так, что, с его точки зрения, связь с литпредшественниками никакой положительной роли не играет, ибо кровосмешение никогда не давало хорошего потомства. Я думаю, что в этой озорноватой фразе, больше молодой бравады, нежели стремления вести серьезный разговор.
Классика сегодня разговаривает с нами о том, что нас больше всего занимает. Классика обладает тем удивительным свойством, смысл которого состоит в том, что она всякий раз поворачивается к нам той стороной, которая нас сегодня особенно занимает. Здесь Эфрос бросил фразу: почему нет спектаклей Островского, почему так редко ставят Островского? Я не знаю почему. Но я думаю, что не надо печься об Островском, потому что Островский сам прорвет себе дорогу к зрителю, если не сегодня, то завтра. Потому что не надо думать, что вся классика состоит из произведений, одинаково интересных нам сегодня. Есть произведения, которые особенно занимают общественное сознание сегодня, а есть такие произведения, которые будут особенно интересными и острыми для общества завтра или послезавтра.
Классика жива. Она вторгается в нашу жизнь. И суть дела заключается в том, что не только классика нас обогащает, но и мы обогащаем классику нашим современным общественным опытом. Я думаю, что мы можем сегодня, не обинуясь, сказать, что мы понимаем того же Пушкина или Достоевского глубже, острее и интереснее, чем их современники. Не потому, что мы умнее, а потому что у нас есть преимущество исторического зрения, исторического опыта. Это – с одной стороны. Но вот – с другой… Вот главное, что я хотел сказать. У классики есть два смертельных врага. Один из них – это, я бы сказал, святое благочестие. «Не сметь трогать!» И это благочестие очень портит наши отношения с классическим наследием.
Я вспоминаю одно интервью, которое дал и напечатал не так давно покойный Грибов – хороший актер, которого я, как и все, наверное, здесь сидящие, очень почитал. Он сказал о постановке «Ревизора» в Художественном театре, что мы в Художественном театре стремились поставить этого «Ревизора» точно так, как его видел Гоголь своими глазами в 36-м году на сцене Александринского театра. Я думаю, что едва так было на самом деле, едва ли режиссура Художественного театра ставила перед собой сознательно такую задачу. Но то обстоятельство, что такая фраза могла слететь с кончика языка замечательного художника и что это было напечатано и почти не замечено, – это тоже симптом крайне неприятный.
Есть другая крайность – крайность, которая имеет свое отчетливое и конкретное название: субъективизм. Этот субъективизм рядится в разные одежды и порой даже очень благочестивые, прогрессивные. Мне однажды пришлось быть в Исландии. И в первый же вечер в Рейкьявике я попал в театр, и ставили в этом театре того же близкого моему сердцу «Ревизора». И то, что я увидел на сцене этого театра, повергло меня в глубокое смущение.
Для того чтобы сесть в столице Исландии, надо, чтобы самолет сел не в Рейкьявике, а в Кефлавике, рядом с Рейкьявиком. Потому что там американская база, лучше оборудованная для приема ночных самолетов, чем столица, Рейкьявик. И вот самолет сел, и все население самолета прошло через строй американской солдатни в Кефлавике рядом со столицей Исландии. И вот вечером, после спектакля, я был на одном, как бы это сказать, приеме частном, на котором присутствовала режиссер этого спектакля, «Ревизора». И я задал ей вопрос: «А что она хотела сказать этим спектаклем?» И она ответила мне следующее: «Вы знаете, у нас есть национальная трагедия в нашей стране! Американцы сидят в центре нашей родины. И мне хотелось, чтобы этот спектакль отразил нашу национальную трагедию и наш национальный позор. Американцы расположились в чужом доме, выдавая себя не за тех, кем они являются. Они выдают себя за защитников наших, а мы их не просили. И вот, когда я думала о Хлестакове, мне мерещился вот этот образ ненавистного американского солдата, который без нашего спроса и разрешения топчет мою землю». И я подумал, что… Ну, что же… Вот благородное стремление у этого человека, у режиссера. Но сколь же наивны и субъективны ее представления о том, как надо и как можно сегодня ставить классику!
Я думаю, что среди множества проблем, сегодня стоящих перед классическим наследием, есть одна, может быть, одна из самых острых. Это проблема интерпретации. Тут кто-то иронически позволил себе говорить, произносить это слово «интерпретация». А между тем от этого слова никуда не деться. Хотим мы или не хотим, в наше время, как и в прошлое время, сегодня так же, как вчера и завтра, так же, как сегодня люди будут интерпретировать классику. И эта интерпретация должна быть такой, чтобы она не оскорбляла нашего чувства, святого чувства классики.
И, к сожалению надо сказать, что наша литературная наука и литературоведение здесь занимают далеко не самые первые позиции. Когда-то был у нас такой человек, как Переверзев, который вместе с концептуальностью обладал удивительной способностью очень тонко интерпретировать художественное произведение. Но методологические позиции этого человека для нас неприемлемы. Но у нас был и Веселовский в русской науке, у нас был Эйхенбаум, у нас был Бахтин, у нас был Лежнев, Берковский, автор великолепной, может быть, лучшей книги сегодня о Пушкине. Это были книги… авторы, и книги их давали великолепный образец интерпретации художественных произведений. И вот… Я сейчас кончаю…
Е. Сидоров. Пора…
С. Машинский. В связи с тем, что литературоведение занимает не самые передовые позиции, свято место никогда не бывает пусто, некоторые театры наши вырвались вперед. И при всем том уважении, с каким мы должны относиться к самым различным сценическим толкованиям наших классиков, есть там и интересные работы, есть работы спорные, но от интерпретации никуда уйти нельзя. Важно только, чтобы эта интерпретация не противоречила духу, сердцевине, ядру того, которое заключено в том или ином произведении классики. (Аплодисменты.)
Е. Сидоров. Прежде чем предоставить слово Михаилу Петровичу Лобанову, я бы хотел сказать, что приходило очень много записок. В целях экономии времени мы их не все зачитываем. Но приходят записки разного содержания. Одна из них была отвратительной, и я должен извиниться от имени всех нас, сидящих в этом зале, перед Анатолием Васильевичем Эфросом. (С места: «Правильно!» «Безобразие!» Аплодисменты.)
Я бы даже хотел быть уверенным, что эта записка не была написана писателем. (Шум.) В этих стенах появление такой записки чудовищно и просто невозможно. Вот записка менее отвратительная, но тоже неприятная: «Почему выступают не те, кто объявлен в афишах?! Что за махинации?!» (Смех.) Вы понимаете, что записки эти чем-то родственны, у них единый какой-то пафос, дух. (С места: «Подписи?!») Нет, подписей, естественно, нет. И поэтому я бы хотел раз и навсегда установить представление о том, что вот здесь есть большой зал…[4]4
Пропуск части текста связан с перестановкой аудиокассеты.
[Закрыть] <…>
Михаил Лобанов. «Достоевский, но “в меру”» – названа статья Томаса Манна… Русская классическая литература – еще более «в меру». Воистину так. Кажется, уже менее магически звучат теперь бывшие еще недавно общим местом в учебниках, ученых книгах слова о том, что значение русской литературы девятнадцатого века… что она клеймила, обличала, разоблачала, с ненавистью отрицала и так далее, и так далее. Но давно ушло в прошлое то, что связывалось с изобличением, исправлением, а русская литература девятнадцатого века продолжает жить. Значение ее углубляется. Это потому, что главное в ней – не обличение, а та глубина духовно-нравственных исканий, жажда истины и вечных ценностей, которые полны этой глубиной, – она покорила мир, – и которые сейчас приобретают такую животрепещущую актуальность при кажущемся в мире торжестве прагматического, позитивистского образа мышления и самой жизни.
Известно, что русская литература, поглощенная прежде всего тем, что сказать, а не – как сказать, и дала образцы непревзойденного искусства. После русской литературы девятнадцатого века с ее внутренним содержанием (выражение, которое употребляют Гоголь, Достоевский, Толстой и другие русские классики) изжила себя всякая литературность, всякая словесность. Верность действительности становится художественным принципом, диктующим предельное самоочищение от литературной условности, от того, что не есть жизнь, что не есть правда, от той словесности, которую Блок отождествлял с ложью. Цитирую Блока: «Что напишу – все словесность, то есть ложь».
Кстати, в судьбе Блока есть поэзия с сильной дозой разрушительного лирического яда (слова самого поэта), заменой непосредственных образов их интеллектуализацией. Наглядно видно, какое оздоровляющее, в конце концов, спасительное влияние на такого рода творчество оказывала русская культура с ее духовно-созидательной атмосферой.
Русская литература была чутка к злобе дня, к больным вопросам современности. И, однако, литературу ожидала бы печальная участь, если бы она замыкалась текущими вопросами. Злоба дня проходит. То, что Достоевского волновало в девятнадцатом веке, стало уже историей. Но если классическая русская литература близка людям двадцатого века, то значит есть в ней ценности непреходящие. В романе Толстого «Анна Каренина» Константин Левин занят мыслью о земельном вопросе, о методах хозяйствования в деревне. Крупный государственный чиновник Каренин разрабатывает административный проект, представляющийся ему делом чрезвычайной важности.
Подобным практическим материалом многие писатели и ограничивают свое любопытство – метод хозяйствования, административные проекты, строительные объекты, автоматизация производства и так далее. Это называется у них литературой. Но ведь кроме этого хозяйствования у Толстого есть и нечто другое – напряженные до отчаяния искания Левиным смысла жизни, потрясающий переворот в Каренине у постели больной, умирающей Анны.
«Слезы стояли у него на глазах. И светлый, спокойный взгляд их поразил Вронского. – Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света…я никогда слова упрека не скажу вам, – продолжал он. – Моя обязанность ясно начертана для меня. И я должен быть с ней, и буду. Если она пожелает вас видеть, я вам дам знать. Но теперь, я полагаю, вам лучше удалиться. – Он встал, и рыдания прервали его речь. Вронский тоже поднялся и в нагнутом, не выпрямленном состоянии исподлобья глядел на него…» (Шум.) «…Он не понимал чувства Алексея Александровича, но он чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное его мировоззрению».
Литература гибнет, когда нет никаких загадок, ничего сокрытого, есть только то, что лежит на поверхности, что целиком исчерпывается видимым и наглядным. Литература гибнет, если она погружена в этот внешне застывший материал, в пестроту сиюминутного, не соединяется с высшими потребностями человеческого духа. Это не литература, а гроб эмпирический. Гроб повапленный с мерзостью разложения в нем. Русская литература целостна по своей сути, по своему воззрению на человека как на характер социальный, с философской точки зрения – как на своеобразный микрокосмос, на бесконечно сложный внутренний мир. Как орган народного самосознания русская литература девятнадцатого века полна прозрениями в отношении исторического бытия народа, русского национального характера. При этом то, что на Западе называли и называют загадкой русского человека, находит свои корни в русской классической литературе. И прежде всего, конечно, в начале всех начал русской литературы девятнадцатого века – у Пушкина, с его, с одной стороны, всечеловеческой отзывчивостью, о чем так глубоко говорил Достоевский, а с другой стороны, с его знаменитым «есть упоение в бою». И в этом Пушкин полководец, как наш национальный гений, видевший в русском народе, в русском человеке эту полноту, это единство, казалось бы, несоединимого. Все – человеческая отзывчивость и – упоение в бою… Сколько у меня еще времени? (Шум.)
Е. Сидоров. Две минуты.
М. Лобанов. Сколько?
Е. Сидоров. Две-три… Пожалуйста.
М. Лобанов. М-да… (Шум.)
Е. Сидоров. Пять минут. (Шум.) Это правильно, товарищи, нельзя так…
М. Лобанов. Русская литература девятнадцатого века как явление живое, действительное, как не только выражение прошлого народа, но и его настоящего, составляющее неотъемлемую часть его национальных и моральных сил, русская литература испытала на себе поучительные наскоки. Довольно забавную историю передает автор одного исследования о Кафке, цитирую автора этого исследования:
«В одном из писем своей приятельнице Ясенской Кафка, описывая свое ночное состояние (бессонницу), прибегает к развернутому сравнению. Кафка подробно пересказывает ей известный эпизод из жизни молодого Достоевского, представившего «Бедных людей» на суд Некрасова, который, как известно, восторженно одобрил это произведение. Эпизод этот Кафка передает фактически не точно, с фактическими ошибками. Но интересней всего, что Кафка истолковывает этот эпизод в созвучном ему ключе. После ухода Некрасова и Григоровича (у Кафки он назван Григорьевым) Достоевский, сообщает Кафка, долго не может успокоиться. Он охвачен радостным волнением, но в то же время сознает, что недостоин столь щедрых похвал. Достоевский, в изложении Кафки, как бы чувствует свою униженность, неполноценность. Это чувство заставляет его воскликнуть: «О, эти прекрасные люди! Как они добры и благородны и как низок я сам. Если бы только они могли видеть меня насквозь. Они не поверят, если я скажу им это». Тем самым Кафка в этом рассказе словно превращает Достоевского в своего собственного героя. В конце, как бы спохватившись, Кафка, впрочем, добавляет, что, к сожалению, великое имя Достоевского сводит «на нет» весь смысл этой, истории».
Это, действительно, в духе Кафки, который в своей иронии к герою книги, которую Достоевский назвал самой великой, величайшей, самой грустной книгой из всех, созданных гением человечества, то есть самого Дон Кихота Кафка делает глупым, прирученным Санчо, бесом. Все шиворот-навыворот. Вот уж, действительно, по-бесовски. Все смешать и перепутать. Снизить до уровня своих героев, до убожества их мышления и морально-низменной окружающей среды, все то, что говорит о стремлении людей к идеалу, – в этом смысл Кафкиной оргии, «нигилятины» Кафки, говоря словами Достоевского.
С точки зрения брезгливой немощи этой «нигилятины» он и пытается судить русского гения, тут же спохватившись, что великое имя Достоевского не подходит для «конструкции», как называл Кафка свой метод писательства.
Но сколько кафок, не отскакивая от великого имени Достоевского, меряют его на свою мерку, выискивая в нем что угодно – двойничество, подполье, отступничество и так далее, только не главное – его однодумие о России.
Наскоки «нигилятины», повторяю это выражение Достоевского, не новы для русской литературы. Еще в двадцатых годах признаком интеллектуального передовизма считалось отрицание традиций русской литературы, вроде: «Молодые писатели должны решительно разорвать с традициями так называемой великой русской литературы» (Юрий Олеша). Тогда же, в двадцатых годах, раздавались голоса о контрреволюционности романов Толстого «Война и мир», «Анна Каренина». Предлагалось не отмечать юбилей – 100-летие со дня рождения Толстого. Отрицая традиции, «нигилятина» верна зато своим традициям отрицания. Совсем недавно, летом этого года, 1977 года, на страницах «Литературной газеты» появилась статья, объявившая Пушкина некрофилом. В умах десятков миллионов читателей, взрослых и детей, посеяна «нигилятина». Теперь миллионы детей, учащихся школ, приступая к чтению стихов Пушкина, могут спросить: «Это тот Пушкин, который любил и жил с мертвыми женщинами?» Такого кощунства над святая святых русская культура еще не знала. (Шум.)
Автор этой сенсации, некий Владимир Соловьев, отбыл на Запад, а дело сделано. Впрочем, мысль не новая, явно из наследства небезызвестного Нордау, видевшего в гениях не что иное, как извращение, вырождение. Русская литература может интересовать каждого русского мыслящего человека не в прошлом, так называемом литературоведческом плане, а со своей серьезной стороны, насколько ею, русской литературой, угадан потенциал русского народа и как он оправдан и проявлен исторически. Великая Литература – это Великий Народ. Такова русская литература девятнадцатого века, и проблемы современной литературы и ее будущности – это далеко не литературная проблема, ибо литература сама по себе ничего не стоит, если она не является органом народного самосознания…
Е. Сидоров. Спасибо, Михаил Петрович, простите меня, пожалуйста…
М. Лобанов. Да, я заканчиваю… В этом всегда было призвание русской литературы и это определило ее мировое значение. (Аплодисменты.)
Е. Сидоров. Я предлагаю перерыв на 15 минут. После этого еще выступят несколько ораторов. (Шум.) Сейчас перерыв на 15 минут.
Инна Ростовцева. Журнал «Советская литература», адресованный зарубежному читателю и идущий в семьдесят две страны мира, одну из специальных своих книжек посвятил русской классике, а именно – тем новым разысканиям, тем публикациям, тем архивным документам, тем новым прочтениям, которые имели место в нашей литературе за последние десять – пятнадцать лет.
Успех этого номера превзошел все ожидания. Надо сказать, что редакция получила письма от крупнейших современных писателей, таких, как Труайя, таких, как Сноу, Биссет и других. Но самое замечательное, как сейчас мне кажется, были, так сказать, не эти письма-отклики. Самое примечательное было – письма от простых читателей, в которых выражалась дань уважения к русской классике.
Мне запомнилось письмо от одной читательницы из Англии, в котором она делилась своими впечатлениями от прочтения этого номера. Это письмо заканчивалось очень примечательно: «Как должны быть счастливы люди, которые делали этот номер». Поскольку я сама и мой сотрудник имели непосредственное отношение к этому номеру, который, как вы сами понимаете, был сопряжен с очень большими трудностями, с очень большой ответственностью, то признаюсь, что в то время эти слова как раз настроили несколько на иронический лад. Теперь, когда номер позади, можно номер не делать, можно, так сказать, спокойно читать классику, можно, как говорится, даже говорить сегодня о ней с этой трибуны, проникаешься и какими-то другими чувствами. Ну, в частности, понимаешь, что ты действительно счастлив. Ты счастлив потому, что ты владеешь бессмертным богатством, ты причастен к этому безмерному богатству.
Ну, так сказать, каждое время по-своему переживает это счастье обладания классикой. Это счастье переживания классики. Вот это время, эту эпоху переживаем и мы. По моему глубокому убеждению, сегодня происходит очень глубокий процесс узнавания нас, самих себя. Причем, когда я говорю «нас», это вовсе не означает критиков, литературоведов, писателей. Это означает просто читателей. Классика очень глубоко сегодня входит в наш сокровенный мир, в биографию каждого человека. Ну, поскольку тема нашего сегодняшнего разговора называется «Классика и мы», и, судя по всему, она предполагает какие-то очень личные размышления на эту тему, то я просто позволю себе рассказать такую вещь. Один человек прислал мне письмо, он очень поздно, примерно в тридцать три года, прочитал «Бесов» Достоевского. И в этом письме было одно поразительное признание: «Я узнал себя в Степане Верховенском. Как будто Достоевский стоял за моим плечом и с меня списывал этого героя». Мне кажется, что это признание совершенно поразительное. Оно, пожалуй, стоит всех статей научных на темы «Достоевский и мы», «Значение Достоевского». То есть человек, прочитав Достоевского, нашел в себе мужество и смог сказать: «Я сам».









































