Читать книгу "«Классика и мы» – дискуссия на века"
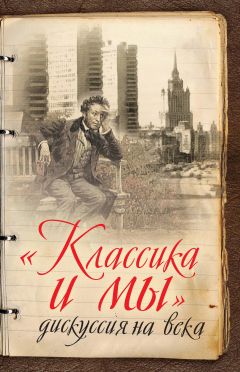
Автор книги: Сергей Куняев
Жанр: Критика, Искусство
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Мне кажется, что, так сказать, при всей общедоступности классики – классика действительно для всех. И в то же время она для каждого из нас. Классика входит в наш сокровенный опыт. И с каждым, кто ее читает, она образует какую-то свою тайну. И в этом, мне кажется, ее непреходящее, ее живое значение. Это то, что, так сказать, мы ощущаем сегодня, ощущаем в нашей жизни.
Когда я читаю вот эти вот строки:
Когда сбежишь под землю в мир теней,
Спеша усопших восхитить собой,
Елена и другие дамы с ней
Придут, чтоб окружить тебя гурьбой.
И о любви, угасшей миг назад,
Узнать из уст, пленявших самый ад.
Я знаю – ты начнешь им про пиры,
Турниры, славословия, цветы,
И паладинов, павших до поры
Для полного триумфа красоты.
Но хоть потом, без пышных фраз и лжи,
Как ты меня убила, расскажи, —
я думаю, что каждый, который прочтет эти строки сегодня, может сказать эти слова: «Я сам». Он чувствует эти слова английского поэта семнадцатого века Томаса Кэмпиона, он чувствует, как классика входит в его сокровенный опыт, в его биографию.
Но говоря о счастье обладания классикой, о счастье переживать классику, мы должны помнить и о другом. Мы должны помнить о том, что у нас есть обязанности перед классикой. Эти обязанности действительно связаны с изучением, толкованием и тем словом, которое здесь уже не раз произносилось, – с интерпретацией классики. Прав выступавший здесь Машинский. Интерпретация действительно должна быть такой, чтобы она не оскорбляла святая святых наших чувств. Мне кажется, что наиболее драматичные отношения сегодня у нас, в частности, складываются с нашей ближайшей, если так можно выразиться, классикой. А точнее, с теми писателями, такими писателями, чье классическое достоинство утверждается сегодня, утверждается на наших глазах. Я имею в виду таких писателей и поэтов, в частности, как Николай Заболоцкий, как Андрей Платонов, как Михаил Пришвин.
Недавно в разговоре с одним поэтом, которому я заметила, что очень неточно в воспоминаниях воссоздан образ самого поэта, вот, он мне заметил, что, так сказать, не важно, что нет точности, важно, что создан красивый миф.
Так вот, мне кажется, что очень часто мы присутствуем при создании таких красивых мифов. Причем эти красивые мифы на поверку часто оказываются ядовитыми, так как они, в общем-то, казалось бы, очень непринужденным образом сеют какие-то очень… глубоко ошибочные и вместе с тем теоретические утверждения и построения. Это относится не только к научным статьям, это относится в равной степени и к свидетельствам очевидцев, к мемуарам и, так сказать, к документам. Ну вот, в частности, совсем недавно, в 77-м году, вышел сборник – «Воспоминания о Заболоцком». Этот сборник вышел недавно, повторяю, в 77-м году… В нем напечатаны… Я не берусь оценивать этот сборник в целом, но в этом сборнике есть воспоминания Николая Чуковского и, в частности, есть такая глава, которая называется «Смерти нет». В этой главе Николай Чуковский, который близко знал Заболоцкого и с ним беседовал, утверждает, в частности, такую вещь. Он пишет: «Я понял, что вся созданная им теория бессмертия посредством метаморфоз всю жизнь была для него, заслоном, защитой… Мысль о неизбежности смерти своей и своих близких была для него слишком ужасна. Поэтому он с таким упорством и непреклонностью, с такой личной заинтересованностью держался за свою теорию превращений, сулившую бессмертие ему самому и всему, что он любил, и сердился, когда в этой теории находили бреши».
Это суждение по своей сути глубоко ошибочно и неверно. Потому что создается такое ощущение, что художник пишет и открывает художественные концепции, так сказать, для своего душевного комфорта, то есть для некоего, что ли, самосохранения. Если бы это было на самом деле так, то тогда бы жизнь классиков, о которой мы знаем, вообще представляла бы сплошной душевный комфорт. Это очень утилитарное представление о целях и задачах художественного творчества. Это своего рода, так сказать, доморощенная, что ли, теория.
С другой стороны, скажу, что вот выступавший здесь до меня Евтушенко, мне кажется, совершает ошибку, примерно такого же рода, только с другого конца. Человеческое поведение механически переносится на художественный результат, механически переносится на саму художественную истину. То есть, между прочим, так сказать, мы должны всегда помнить о том, что и наше нравственное поведение, и наши слезы или благородство творца имеют, так сказать, право на существование в том случае, если это оборачивается какой-то художественной истиной. (Тот же Белинский говорил, что нравственным может быть только талант. Вот в этом-то вся и соль.) И когда он тут обвинял Палиевского в его равнодушии человеческом, то мне кажется, что происходила все та же на наших глазах подмена этих разных понятий. В конце концов мы говорим о художественном результате, мы говорим, так сказать, об истине. И это очень разные вещи и здесь какие-то подмены недопустимы.
В частности, любопытно, что в этом же сборнике «Воспоминания о Заболоцком» напечатаны воспоминания сына поэта, Никиты Николаевича Заболоцкого, который не был писателем, а был ученым. И он, в частности, глубоко не согласен с этой мыслью Николая Чуковского. Он считает, что Заболоцкий создал свою концепцию метаморфоз, свою философскую концепцию не для того, чтобы, так сказать, заслониться ею от своего личного страха перед смертью. Он утверждает, что «…не следует думать, что философская концепция Заболоцкого являлась для него лишь защитой от неизбежности смерти. Эта концепция, возникшая в результате изучения произведений Гете, Циолковского, Энгельса, служила для отца той призмой, через которую он рассматривал весь естественный мир, открывая в нем множество новых связей, явлений, питающих его поэтическое вдохновение».
Есть в этом воспоминании Николая Чуковского еще одна примечательная глава, которая носит название «Самодеятельный мудрец». Это выражение самого Николая Алексеевича Заболоцкого, правда, так сказать, он применял его к таким… он применял его к Сковороде, к Циолковскому. И хотя это название главы – «Самодеятельный мудрец» – дано без кавычек, но тон разговора о литературных пристрастиях и симпатиях Заболоцкого таков, что, так сказать, невольно возникает… невольно возникают кавычки. В частности, Николаю Чуковскому очень не нравится, что, во-первых, Заболоцкий не любил Маяковского, что он не любил Блока, что ему не нравился Фет. В частности, ну, так сказать, это могло не нравиться Николаю Чуковскому, это его дело. Все-таки постепенно он подводит читателя к следующему выводу. Он говорит о Заболоцком: «Прочел когда-то в молодости случайно попавшееся стихотворение Фета, оно по случайным причинам не показалось ему, показалось скроенным из банальных элементов, и он навсегда отверг Фета, больше его не читал».
Так создается легенда о Заболоцком-самоучке, цитирую, «очень поздно узнавшем то, что с детства известно людям, выросшим в культурной среде».
Примечательно… Заканчиваю через пять минут.
Е. Сидоров. Нет, не через пять минут. Пожалуйста, две минуты.
И. Ростовцева. Я уложусь, уложусь…
Е. Сидоров. Нет, не пять минут, а две…
И. Ростовцева. Примечательно, что сама редакция вынуждена была дать пояснение, что, оказывается, Заболоцкий читал Фета, и сохранился в его библиотеке первый том Полного собрания стихотворений Фета с его пометками.
Итак, значит, получается: Николай Заболоцкий – это самодеятельный мудрец.
Открываю другую книгу – предисловие к Андрею Платонову, написанное Владимиром Гусевым. Здесь утверждается уже нечто иное: «Платонов прежде всего художник-пластик. Его питает как художника недоверие к людям чисто философского, аналитического плана». Платонову, так сказать, отказано в философии.
Вот мне кажется, что на таком теоретическом фоне, содержащем такие грубые ошибки, где Заболоцкий получается самодеятельным мудрецом, а Платонов – не философом, мне кажется, и происходит постепенное, на наших глазах, пристегивание посредственной литературы к классике. Пристегивание посредственной литературы, которое происходит в газетах, журналах на каждом шагу. Когда утверждается, что Сергуненков – это прямой продолжатель Пришвина, что эпиграфом к его творчеству можно поставить слова Тютчева, а в сборнике стихов современного молодого поэта читаешь такое:
Давно, усталый краб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег…
Прекрасные строчки Пушкина, за которые он заплатил своей жизнью, за которые он заплатил своей судьбой, становятся парафразом какой-то пошлой современной сказочки. Мне кажется, и здесь я согласна с теми, кто об этом говорил, что классику действительно нужно защищать. Классику нужно защищать от такого ее использования и в поэзии, и в критике. Нужно защищать так же, как мы защищаем леса, реки, воды. Защищать для того, чтобы помнить о том огромном мировом признании, которое имеет русская классика.
В заключение я просто хочу напомнить слова Кобо Абэ о классике: «Это та родина, которую невозможно забыть». Так вот, мне кажется, что родину надо не только любить, но ее нужно беречь. А это значит, нужно защищать нашу классику. (Аплодисменты.)
Е. Сидоров. Спасибо. Игорь Золотусский. Подготовиться Ирине Роднянской.
Игорь Золотусский. Товарищи, по-моему, уже все страсти улеглись, зал опустел, настало время для спокойного, академического разговора.
Должен сказать, что мне не совсем приятно было слышать здесь некоторые выступления, в частности, выступление Евтушенко, который говорил очень страстно о патриотизме и о русской классике, которую он очень любит и которую мы… он почему-то все время употреблял местоимение «мы», хотя в таких случаях нужно брать ответственность на себя и говорить «я», потому что я, например, не хочу вместе с Евтушенко быть в этом узком местоимении, вернее, широком местоимении.
Я говорю это с полной ответственностью, потому что то, о чем мы сегодня говорили, и то, о чем мы вспоминаем сегодня в душе, потому что, говорим мы, может быть, что-то другое, а душа наша живет все-таки с теми людьми, которые незримо привели нас сюда… Если говорить об этих людях и о том, что они нам оставили, то прежде всего, что они нам оставили – это некое идеальное отношение к миру, которое идет как бы поверх действительности, хотя и не теряет с нею связей. Кого бы мы ни взяли из классиков – Данте, Гоголя, Пушкина или Достоевского, – это люди, которые варились в кипятке действительности и, может, присутствовали при сшибании таких вот мелких и вместе с тем ожесточенных страстей, которые здесь сегодня сталкивались. Но вместе с тем они всегда умели парить над действительностью и ощущать идеальное существо человеческой жизни. Вот это идеальное отношение к миру, к искусству, к человеку как-то было утоплено в сегодняшних распрях, последовавших за очень, по-моему, серьезным докладом. И я не могу поверить… Я верю в искренность Евгения Евтушенко, но он не имеет в моих глазах никакого морального кредита в том смысле… после того, как он написал: «Моя фамилия – Россия, а Евтушенко – псевдоним». Понимаете, это не просто личное невежество поэта, но это прежде всего неуважение к тому роду деятельности, в котором ты существуешь. Нельзя себе представить ни одного русского поэта (Аплодисменты.), который так бы сказал о себе! И когда он цитировал здесь Гоголя – о том, что «скорбью ангела загорится наша поэзия», – то это было, простите меня, кощунственно. Потому что классика, давая нам вот это идеальное представление о человеке, о мире, дает нам какой-то высокий нравственный уровень, который не позволяет опускаться до такого понимания себя и человека. Понимаете, нельзя суету быта вносить в то, что оставили нам люди, которые заплатили жизнью за выстраданные ими идеи.
И это я считаю главным, что оставляет нам классика, потому что мы не можем жить прошлым, мы не можем уйти в него, перевоплотиться в него, как в кокон уйти в него и жить, остаться там. Мы вынуждены жить настоящим. Мы существуем в настоящем. И если у нас есть какая-то амбиция по отношению к настоящему, которое будто бы неполноценно, недействительно, худосочно, просто относительно по отношению к классике или к тому, что создали до нас люди, работавшие в сфере культуры – то это неточно. Это неточно, и в этом смысле я и Евтушенко не хочу вычеркивать из того, что творила в эти годы российская литература. То, что было сделано, – то было сделано. И Евтушенко делал, и писал, и говорил, и другие писали и делали – из этого сливается поток жизни, живой литературы.
Конечно, время отбирает, просеивает, время взвешивает тяжелые частицы, но мы не должны вульгарно относиться ни к прошлому, ни к самим себе. Мне кажется, что, вступая в контакт с классикой, с ее высоким идеальным миром, мы прежде всего возвышаемся сами. Возвышаемся в отношении друг к другу. И возвышаемся в отношении собственного времени, ценность которого мы начинаем ощущать как непреходящую и отчасти абсолютную. И это очень важно.
Что же, собственно, происходит сейчас и почему этот зал привлек столько народу? Не потому, что пришли послушать скандальные выступления и, так сказать, посмаковать неудачу некоторых докладчиков или ораторов. Я думаю, что в этом есть какое-то ценностное, сущностное стремление не только к осознанию себя через классику, но и к некоему созданию новых идей. Это есть некая попытка культурным путем выработать какие-то новые, общие идеи о жизни. И это, пожалуй, главное.
Когда я недавно встречался со студентами Московского университета, я увидел, что эти молодые ребята умнее и гораздо более образованы, чем наше поколение, что вызывает во мне, например, даже некоторую робость и уважение к ним, потому что, к сожалению, наше поколение – я говорю о себе сейчас – ощущает себя во многом полукультурным… Это его несчастье. Но то, что оно сейчас начинает возрождаться внутренне и тянуться к истинной культуре, – это драматический процесс. Это процесс счастливый, с одной стороны, с другой стороны – процесс, который не будет иметь завершения в нас самих. Я ощущаю в этом смысле миссию нашего поколения как миссию поколения, берущего и подносящего к будущему строительству кирпичи культуры, потому что то, что не было додано в детстве или в юности, то возвратить нельзя. Хотя талант может многое добрать за счет себя самого… Так вот, эти ребята мне сказали: «Нас сейчас больше всего интересует, когда мы говорим о литературе, об искусстве, какие-то общие проблемы, какая-то типология, какие-то общие идеи. Это относится не только к специфике литературоведения, которая где-то там разрабатывает какие-то свои специфические концепции. Это относится к идеям жизни, которых недостает уже возросшему сознанию каждого из нас». Это весьма серьезный и просто культурно-исторический процесс, третировать который нельзя. Вот это, мне кажется, самое главное сейчас, и это наше счастье, что мы можем с горящими глазами смотреть на прошлое.
Я не согласен с Палиевским в том, что тридцатые годы донесли до нас… то есть, что они широким фронтом несли культуру в народное сознание. Тут в некотором смысле присутствовала селекция культуры и обрубание культуры, потому что она в обрубленных формах входила в учебники по литературе, по которым мы учились, не только в школе, но и в университете. Кого только не забивали в колодки! И Достоевского, и Гоголя. И размыкание границ сейчас, освобождение пространства культуры есть величайшее, мне кажется, и счастливейшее событие не только литературной, театроведческой, а вообще духовной жизни нашей нации.
Когда приезжаешь на Запад (я был недавно в Италии), все говорят там: «Да, Гоголь, там мистика, так, хорошо, какие-то загробные идеи, замечательно». У литературоведов на Западе есть какие-то интересные приватные соображения по поводу нашей классики и нет понимания мощного духовного движения, которое исходит из нее и обновляет нас. И часто это люди, которые очень хорошо технически в литературном смысле образованны (и в этом смысле я поддерживаю Палиевского, который говорил о безнравственности голой технологии в искусстве), они удивляются, что какая-то непонятная имманентная сила наступает на них, которую они до сих пор называют загадочным русским духом.
Но это как раз та сила, которая идет к нам из XIX века. И она проходит через нас. И нам тяжело. Наши легкие разрываются. Наше сознание этого не выдерживает! Нам трудно это принять. Потому что это гигантский груз, гигантская ответственность, гигантские, наконец, внутренние переживания, сгорание нашего существа. И дай Бог нам выжить и суметь передать тем, кто придет вслед за нами, то, что мы поняли на этом этапе переделки нашей души. (Аплодисменты.)
Е. Сидоров. Ирина Роднянская. Подготовиться Юрию Селезневу.
Ирина Роднянская. Я тоже очень рада, что страсти улеглись, иначе бы мне пришлось воспользоваться строчкой Алексея Константиновича Толстого – «двух станов не боец, а только гость случайный», кстати, чего бы я не постыдилась, потому что его умение находить место среди противоборствующих течений своего времени мне кажется очень привлекательным. Ну вот, поскольку уже все это несколько отошло, то я смело перехожу на академический, а скорее, психологический тон разговора, потому что мне тоже показалось название нашей сегодняшней встречи приглашением к психологическому практикуму, как и Андрею Битову. И я тоже задумалась над тем, что такое «Классика и мы». Тем более что эта формула как будто бы газетная, обкатанная, а на самом деле в таких вот внешне бездумных формулах через нас мыслит вот этот самый трудноуловимый дух времени.
Значит, «Классика и мы». Здесь, в этом названии, подразумевается в первую очередь, что «классика» – это никак не «мы». Потому что союз «и» – это одновременно и преграда, и коридор между нами и классикой. Он не зря здесь стоит. По-моему, сегодняшняя дискуссия доказала, что классика – это не мы, потому что мы были очень заняты собою и почти никто не обратил взоры к первому члену вот этого наименования.
Если пришлось бы сейчас для порядка определить, что такое «классика» и кто такие «мы», я думаю, что такие точные, расшифровывающие слова только повредили бы летучему взаимопониманию. И не буду об этом говорить. Хочу только сказать, что под классикой я буду разуметь нечто очень широкое.
Не только то, что является особо чтимой святыней, вперед заданным национальным идеалом и образцом, который потом выполняют веками, что относится только к золотому взлету каждой культуры, прежде всего нашей, но и вообще все то, что мы, люди неклассического века, современники, соотечественники, почитаем прошлым, за которым уже захлопнулась дверь по тем или иным причинам.
Ну вот посмотрите, когда толпа книгопоклонников, которая всегда существует – казалось бы, что ей Гекуба? – раскупает в «Литературных памятниках» письма Честерфильда или письма Томаса Манна, или «Сказания о рыцарях “Круглого Стола”», по-видимому, она не задумывается над профессиональным определением, что такое классика, а все это почитает классикой. И она по-своему права, потому что современный человек называет классикой все, в чем он не обнаруживает собственного отображения, не находит себя, как он находит себя на кино-и телеэкране, себя со своими газетами, сигаретами, метро, малогабаритными квартирами, стрессами и продленкой, неслыханным напряжением за плечами, которое, как ему кажется, классики не могли, так сказать, отобразить и понять. И таким образом получается, что классика, а я говорю о полюсе восприятия, а не о полюсе творчества (сейчас меня это интересует), классика– это все накопленное культурой, с чем нельзя отождествиться, что не поддается освоению опытом. Таково сейчас, по-моему, массовое ощущение, которое отодвигает на задний план все профессиональные и умные определения этого слова. И обратная сторона того же – вот это дальнее, одетое в незнакомую одежду, выраженное не сегодняшним словом, нынче кажется привлекательным и желанным, как никогда.
Это и радостно, и грустно. Ну, почему радостно – всем понятно. Потому что на сегодняшний день возрождено, а может быть, даже впервые с такой самоочевидностью рождено, самое представление о неустранимости, неизживаемости, безмерном сиянии классического искусства.
Я напомню вам то время, когда… Напомню чисто академическим образом, сознательно чисто академическим образом напомню о том времени, когда этого представления как бы не было, когда оно исчезло. И я говорю не о сбрасывании классиков по списку с корабля современности, а об отрицании классики принципиальном. Здесь Тынянову уже досталось, но тем не менее, раз я воспользовалась заранее этим примером, то я к нему сейчас и обращусь. У опоязовцев и у Тынянова, по-моему, одного из… самого талантливого и логичного среди них, вообще слова «классический» не существует, оно не употребляется, а вместо него какое слово? «Канонизированный». Что это значит? Что, дескать, на каждой ступени литературного процесса канонизируется господствующая какая-то его ветвь, те, кто, так сказать, пробились к власти, а младшее поколение, опираясь на какую-то боковую ветвь – забытую, оттесненную, периферийную традицию, подымает против этих канонизированных господ положения мятеж и свергает их, становясь сама предметом канонизации и впоследствии подвергаясь атакам новых инсургентов, новых мятежников.
Все литературное развитие, согласно этой теории, литературная борьба, как любили тогда говорить, превращается в поток относительности, беспрерывных увенчаний и развенчаний, предполагающих обязательную периодическую варваризацию искусства. И классике, как незыблемой пристани в водах этого культурного релятивизма, вообще эта теория места не оставляет. Я о ней вспоминаю, об этой теории, не потому, что она худшая, были и более вульгарные и менее добросовестно разработанные, а именно потому, что она, может быть, как лучшая среди других, несет отпечаток своего времени.
Вот известно – Тынянов нападал на старую формулу Аполлона Григорьева «Пушкин – это наше все». Он писал: «Как бы высока ни была ценность Пушкина, ее все же незачем считать исключительной. Незачем смотреть на всю предшествующую литературу как на подготовляющую Пушкина, а на всю последующую как на продолжающую его или борющуюся с ним. Этот наивный телеологизм ведет к полному смещению исторического зрения. Вся литература под знаком Пушкина становится бессмысленной, а сам он остается непонятным, “чудом”» (последнее слово у Тынянова в кавычках).
По Тынянову, вообще нет в культуре ничего, что может обладать исключительной, вершинной ценностью, ибо в чем бы для него была гарантия обеспечения этой ценности? Не в чуде же, заключенном в кавычки! И даже логика здесь ему изменяет, потому что, казалось бы, бессмысленным надо было назвать не «наивный телеологизм», как он пишет, а, напротив, развитие национальной литературы, лишенное телеологии, то есть лишенное целей и ценностей, заранее предугаданных в идеальных образцах классического гения.
Эта статья Тынянова, «Мнимый Пушкин», которую я процитировала, написана в двадцать втором году. Вот, проходит ровно полвека, и полвека спустя замечательный современный филолог Сергей Сергеевич Аверинцев в статье, предназначенной для «Литературной энциклопедии», для массового издания, пишет о том, что такие тексты, как творения Данте для итальянцев, Гете – для немцев, Пушкина – для русских, сохраняют ранг Писания с большой буквы – универсального жизненного символа. И мы не удивляемся уже этим словам, попавшим на страницы популярного издания…
Но я обещала сказать и о грустном. Ну вот, действительно вроде бы научились верить в существование немеркнущих ценностей. Но они остаются для нас – это, по-моему, каждый обязан уловить, вместо того, чтобы создавать такую эйфорию, атмосферу благополучия, – остаются для нас по ту сторону нашего текущего опыта. Мы не знаем, как вступить с ними в контакт. Более того, я уже говорила, что эта культурная потусторонность и является для нас неосознанным критерием классичности сокровища за семью печатями. При классике, водворенной в красный угол, мы заняты своими житейскими заботами, страстями, единственной для нас физической реальностью, а классику, не сшитую по нашей мерке, очевидно, оставляем в покое. И особенно грустно, когда это почитается естественным.
Вот один пример.
В приобретшей популярность, по-моему, большую – она даже на черном рынке пользуется спросом – книжке Игоря Семеновича Кона «Социология личности» читаю:
«Объем актуальной культуры всегда изменялся, новые знания, понятия и образы всегда вытесняли какую-то часть старых, делая их достоянием музеев и эрудитов. Сейчас этот процесс идет быстрее, чем раньше, но ничего трагического в этом нет. При всем почтении к истории человеческое общество нельзя превращать в музей, да и невозможно. Наивно думать, что жизнь меняется, а самосознание будет оставаться прежним». И дальше идут слова, по-моему, просто ужасные. Вот, слушайте: «Классика сохраняет свое значение постольку, поскольку выраженные в ней идеи соответствуют в какой-то степени жизненной реальности современного человека».
Пушкин еще полтораста лет назад приметил слабоумное изумление перед своим веком. Но поразительно здесь – самое представление, согласно которому не человек должен соответствовать чему-то, что он избрал себе универсальным жизненным символом, вехой, ориентиром, а вот эти символы, вехи, ориентиры должны соответствовать нам. А если не соответствуете, то отправляйтесь в музей, и баста!
Это очень распространенная точка зрения, только она как бы между строк проскальзывает. О ней не говорят, ею думают.
Вот Кон приводит пример из Пушкина: «Кастальский ключ волною вдохновенья в степи мирской изгнанника поит». И говорит: «А что такое кастальский ключ? Теперь человек интеллигентный, если он не специалист-филолог, не может уже этого знать, и не беда, если он посмотрит в мифологический словарь. Стоит ли ужасаться по этому поводу?»
Ну, по этому поводу, конечно, не стоит ужасаться, потому что мы можем даже не заглядывать в мифологический словарь. В нынешних комментариях все объясняется – и кто такие парки, и кто такие музы, и что за «энциклопедии скептический причет», и какой-такой с древа сорвался предатель-ученик, и кого он предал – все объясняется. И вообще без комментариев читатель-нефилолог поймет, что ключ, поящий волной вдохновенья, – утешенье искусства, творчества. Но дело в другом. Дело в том, сумеет ли современный читатель этого стихотворения пережить вместе с Пушкиным момент трагического сомнения в ценности жизни, здесь выраженного, вы помните: «Последний ключ, холодный ключ забвенья, он слаще всех жар сердца утолит». Выраженного именно в этой форме высшего благородства, сдержанности… Или же он, в лучшем случае, привыкнув к современному бряцанию, будет равнодушен к чувству, облаченному в столь идеально уравновешенную форму – это в лучшем случае. А в худшем – вообще, обратясь к себе, в своем душевном арсенале не найдет места для такого чувства, не найдет вообще места ничему углубленному. Вот такой вопрос Кон не ставит, потому что жизненная реальность современного человека для него высшая суть, чего в ней не найдется, то излишнее и отжитое.
Ну, вообще, классическое предполагает соотнесенность с понятием вечного, а не только прошлого. И… Это надо и твердо, и честно, и открыто об этом сказать. Потому что… вечное – это не прошлое, которое дожило до сегодняшнего дня и отчасти не устарело, это действительно неизменные идеалы человеческой души и противоречия человеческого существования. Вы сами понимаете, сколько «Антигону» ни толкуй как выражение отношений в греческом полисе, толкования эти будут очень умными, но, слава Богу, даже ребенку, расскажи мы ему историю Антигоны, будет понятно, почему она героиня. И это и есть вечное.
Так вот, классическая установка – это переживать вечные темы, памятуя об их вечности и поэтому умеряя непосредственность особым тактом и благородством тональности, и вместе с тем переживать их так, как будто они родились сегодня, вместе с тобой, то есть не отвлеченно, не сентенциозно. Ну и здесь, конечно, имя Пушкина – в первую очередь, но вся классическая литература и культура (и об этом даже как-то стыдно напоминать, но здесь почему-то мало об этом говорили), будь то непричесанный по сравнению с уравновешенной классикой Достоевский, тяжело ступающий Толстой или житейский Чехов, всегда сохраняли эту нравственно-эстетическую меру благообразия, не уклоняясь ни к наготе, ни к маскараду, ни к развязности, ни к чопорности, ни к беспамятной злобе дня, ни к нарочитому переселению в день минувший. Если мы утратим эту меру, мы утратим не культурный багаж, не что-то упадет по дороге, а утратим – душу. Это, казалось бы, само собой понятно. Но между тем идут какие-то веяния современные вразрез с этой истиной, за которую, кажется, все готовы ратовать – на словах. И я хочу сказать, что идут они не от какого-то заговора или спайки какой-то, лагеря какого-то в искусстве, а мне кажется, что, по крайней мере они идут и от самой публики. Поэтому это так серьезно, и поэтому здесь есть над чем задуматься.
Ну вот какие это тенденции? С одной стороны, это актуализация классики, осовременивание, о котором здесь столько говорили, а с другой стороны, более новое веяние: это стиль «ретро» так называемый. Ну вот, например, надо понять, что современный зритель хочет непременно, до сих пор хотел, по крайней мере, видеть Гамлета, облаченного в свитер. Это он хочет. А режиссер ему потакает. И в этом расслабленность взаимная, и распущенность и зрителя, и режиссера. Причем не подумайте, что я здесь академизм защищаю.
Я прекрасно понимаю, что Шекспир – вольная, неакадемическая фигура и что, скажем, средневековые художники рядили и библейских, и ангельских, и античных персонажей в костюмы своих современников. Но я хочу сказать, что в нынешней, в сложившейся ситуации, вот, я здесь ощущаю тревожное для меня желание во всем узнавать только свое, все адаптировать, приспосабливать к своему. Это даже некоторое предательство минувших поколений, которые изъяснялись по-другому и носили другую одежду, но связаны с нами неразрывной, кровно-родственной, общечеловеческой цепью любви, страдания, смерти, надежды… И мы их не должны предавать, обязательно переодевая и считая, что только мы – пуп земли.
И вот… На это тут же реакция… Против Гамлета, одетого в свитер, тут же возникает реакция. (Шум.)
Е. Сидоров. Скорее…
И. Роднянская. Скорее, да? (С места: «Попросите, пожалуйста, еще пять минут!») Я через три минуты кончу!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































