Текст книги "Невеста Пушкина. Пушкин и Дантес (сборник)"
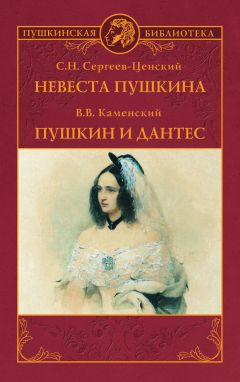
Автор книги: Сергей Сергеев-Ценский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Начало июня 1829 года. В одном из загородных садов Тифлиса молодые офицеры и чиновники тифлисских учреждений чествуют приехавшего Пушкина ужином. Это происходит в саду Ломидзе, который и распоряжается чествованием вместе с молодым чиновником Савостьяновым. Ночной сад, который лучше назвать виноградником, так как деревья в нем только по сторонам широкой аллеи, освещен фонарями, прикрепленными к деревьям, и цветными фонариками. На перекрестке этой и другой аллеи высится и сияет сплетение трех букв: «А, С и П» – вензель Пушкина. Более тридцати человек почитателей Пушкина, «на ловлю счастья и чинов» забравшихся на Кавказ, его окружают. Накрытые столы устанавливаются винами, закусками, корзинами ягод, букетами цветов, серебряными вазами с фруктами. Гремит оркестр. Суетится многочисленная прислуга – все одетые по-восточному – в черкесках и легких шапках. Пеструю смесь азиатщины с уставной военной и чиновничьей формой представляют и костюмы хозяев праздника. Когда оркестр смолкает, раздастся сразу несколько голосов:
– Венчать! Венчать виновника торжества! Венчать Александра Сергеевича!
В ответ на это Пушкин кричит притворно испуганно:
– Венчать? Го-спо-да! Что вы хотите со мной делать в этом страшном месте? Моя невеста осталась в Москве!
Савостьянов, при общем хохоте подходя к Пушкину с венком из цветов, объясняет ему:
– Венчать, как архитриклина, Александр Сергеевич!
– Вы будете у нас тамада! – кричит Ломидзе и подносит к голове Пушкина другой венок. – Вот я сейчас надену!
Между тем над головой Пушкина свой венок держит уже Савостьянов, и Пушкин принимается хохотать весело:
– Но уверяю вас, что у меня только одна голова! Одна, а не две. Одна, ха-ха-ха!
– Лавровый надо венок! Лавровый! – кричит издали Санковский, редактор местной газеты «Кавказ».
– Вот лавровый! – подносит лавровый венок другой тифлисский молодой чиновник Агамжанов.
– Я ожидаю кротко! – скрещивает руки на груди Пушкин, весело оглядывая всех.
Савостьянов берет из рук Агамжанова лавровый венок, говоря:
– Конечно, лавровый, только он где-то запропастился, я его не мог найти. Александр Сергеич! Мы вас венчаем как величайшего русского поэта, как нашу славу!
Он торжественно надевает на голову Пушкина лавровый венок. Кругом рукоплещут, кричат «ура». Оркестр играет туш.
Ломидзе говорит Савостьянову, потрясая своим венком:
– Знаешь, мы эти венки, твой и мой, повесим на кресло! А?
– Конечно, конечно, на кресло… Александр Сергеич, садитесь на свой трон! Вот сюда!
И Савостьянов суетливо усаживает Пушкина на высокое кресло, на спинку которого вешает венки: свой и Ломидзе.
– Конечно! Теперь я – Серапис! Мне недостает еще какого-нибудь рога изобилия! – шутит Пушкин, но шутку эту подхватывает корнет Батурин и кричит:
– Давайте рог! В рог вина налить Александру Сергеичу!
Ему подносят рог, он наливает в него вина из бутыли. Все около него спешат налить свои бокалы. Батурин несет высоко над головою рог Пушкину.
– Вот вам кавказский бокал: турий рог! Рог изобилия!
– Как же я его должен держать, помилуйте! – обхватывает рог обеими руками Пушкин.
– Как можно красивее! Санковский! Речь!
И Санковский проталкивается к Пушкину с бокалом:
– Александр Сергеевич! Я – редактор маленькой местной газетки, – с подъемом говорит он, – но все-таки представитель печати, горд и счастлив, что мне довелось увидеть здесь нашего гения, нашего первого поэта! И все мы здесь переживаем сейчас счастливейшие моменты нашей жизни. Мы не можем наглядеться на вас, мы не можем наслушаться вас, мы не можем наговориться с вами! Мы все здесь наизусть знаем ваши стихи, ваши поэмы, мы жадно следим за каждой новой строчкой, которая появляется на страницах журналов и альманахов, подписанная вашим именем, и вот мы думаем, мы позволяем себе надеяться, что Кавказ, уже воспетый вами, Александр Сергеевич, – мы помним вашего «Кавказского пленника», – что этот Кавказ, красавец Кавказ, за обладание которым столько жертв принесено Россией, что он вновь и вновь будет воспет вами! Мы – немые по сравнению с вами! Мы можем только мечтать о тех звуках, в которые вольете вы вот всю эту красоту около вас… Кончатся войны, но останется поэзия! И за величайшую силу в поэзии нашей, за ее бессмертие, вами олицетворенное, за вас, Александр Сергеевич, мы и поднимаем свои бокалы! Ура!
Все кричат «ура» и теснятся чокаться с Пушкиным.
Пушкин тронут. На глазах его слезы. Он бормочет:
– Друзья мои! Я очень счастлив, друзья мои!
Но к нему вплотную проталкивается Савостьянов с бокалом и речью:
– Я хотел бы сказать тоже несколько слов, Александр Сергеевич! Эта ночь в сердце Грузии, прекраснейшей страны – Грузии, страны вина и самых лучших плодов земных, пусть она останется в вашей душе, дорогой наш Александр Сергеевич, как проявление нашей к вам любви, – вот чего бы хотели мы все! Мы нарочно привезли вас сюда, – над нами сейчас только небо, около нет никаких стен, как известно, имеющих уши! Для всех нас поэзия и свобода – одно, вот за что мы так и любим поэзию, вот за что мы так и влюблены в вас, величайшего представителя нашей поэзии – нашей свободы! Не смотрите на нас так, как может быть в глубине души вашей вы и смотрите, – как на людей, пробивающих себе легкие дорожки в жизни! Ведь одни из нас получат кресты в петлицы, другие – кресты на могилы… Ведь даже и нас, штатских, рассылают по надобностям службы в такие здесь уголки, где даже куры и змеи болеют лихорадкой, от которой нет там, куда случается попадать, никаких средств… Поверьте, что в самые тихие и в самые чистые часы нашей жизни мы берем книжки ваших стихов, мы читаем их и мы… плачем от счастья, что вы живете в один век с нами, и теперь вот мы готовы заплакать от радости, что вы – подлинный и живой Пушкин – сидите с нами за одним столом!.. И мы…
– Будет! Родной, довольно! А то я разревусь, как баба! – кричит Пушкин. Он соскакивает с места и бросается целовать Савостьянова, Санковского и других, кто ближе. Кричат «ура». Играет музыка. Все рассаживаются за столы.
– Сейчас подадут настояще-грузинский шашлык! – возглашает Ломидзе.
– Нет! Не настоящий? Александр Сергеевич! Хотите знать, настояще-грузинский шашлык какой бывает?.. Это… это как тифлисские бани, такой же оригинально! Вы в наших тифлисски бане еще не были? – ломаным языком, но быстро говорит другой грузин – Кобахидзе.
– Как же не был? С дороги и не быть? Великолепные бани! – отвечает Пушкин.
Кобахидзе доволен, что Пушкину понравились тифлисские бани.
– Ну вот! Значит, видали там как? Горячий источник – горячая вода, холодный источник – холодная вода! Топить не надо, зачем? И зимой не топят! Горячий источник – те же дрова горят! Тепло. Эт-то была умная грузинская голова – там бани устроила! И мойся, и купайся себе, сколько хочешь! Серная, лечебная вода! И от известных болезней помогает! Да, да!
– И в одной ванне моются, может быть, двадцать человек! – вставляет Батурин.
– Может быть, сто двадцать – какое дело? Хотите один мыться – купите баню на три часа, никого не пустят, мойтесь, пожалуйста! – горячо защищает свои бани Кобахидзе.
– Непременно! А чем же баня тифлисская похожа на грузинский настоящий шашлык? – лукаво спрашивает Пушкин.
Общий хохот. Крики:
– Браво, Александр Сергеич!
Но Кобахидзе не теряется и не обижен. Он объясняет Пушкину:
– Я сказал: так же оригинально… только с другой точки! Берется для этого целый бык… такой огромный буйвол, – целая туша, и вот ее жарят…
– Как? В печке? – удивляется Пушкин.
– Как шашлык! Такой ог-гонь большой, костер, и на толстый железный прут туша… – ретиво рассказывает Кобахидзе.
– И неужели может прожариться?
– О-о!.. Но в буйволе теленок! – торжественно поднимает палец кверху Кобахидзе.
Пушкин вставляет кротко и терпеливо:
– Я вижу, что теленком не кончится!
Общий хохот покрывает эти кроткие слова поэта.
– Вы совершенно правы, Александр Сергеич! В теленке – баран, – возглашает Кобахидзе.
– Позвольте мне досказать: в баране – индюшка! Так? – спешит докончить Пушкин.
– Гусь! Не индюшка, нет, – гусь!
– Совсем как деревянные пасхальные яйца: в синем – красное, в красном – желтое et cetera! – замечает Пушкин. – Не-ет! От такого шашлыка увольте! Сгореть все это может, конечно, но чтобы прожарилось, как следует, со-мне-ва-юсь!
Входят несколько человек кавказцев с прутьями дымящегося шашлыка, и Кобахидзе, указывая на прутья, кричит:
– Александр Сергеич, вы правы! Этот шашлык лучше того, но только и этот – то же настояще-грузинский! Имеретинцы – вот те из простой обыкновенной курицы тоже могут делать чудо: блюдо богов.
И вот, когда все заняты стаскиванием шашлыка с прутьев, и кипит общее оживление, вдруг раздается вдали за деревьями мелодия, производимая каким-то восточным инструментом.
– Что это? – спрашивает, прислушиваясь, Пушкин.
– Это зурна! – объясняет Ломидзе.
– А-а! Какая прелесть! Зурна! – Пушкин даже подымается, вглядываясь в темноту.
– О-о! Зурна!.. Это… – И Кобахидзе поднимает палец и крутит головой. Но тут к мелодичной зурне присоединяется какой-то другой инструмент, более сильный.
– А-а… Это что-то будто бы мне знакомое! – оживляется еще более Пушкин.
– Это волынка… Имеретинская волынка – инструмент чабанов, – говорит Савостьянов. – Когда они пасут барашков в горах и играют на своих волынках там, на высотах, – это производит большое впечатление!..
– О-о, наши чабаны! Это такой народ, Александр Сергеич, – молодым собакам своим уши режут, в катык… как это сказать? мочают, собакам кидают, – на, ешь! Собака свои уши – ам! О-очень тогда злые бывают!
– Ка-ак, как? – изумляется Пушкин. – Собственные уши глотают? И от этого становятся еще злее? Ха-ха-ха-ха! Только не говорите, ради бога, этого моим критикам! Ведь они не додумаются отрезать свои ослиные уши и сожрать их, но я-то, грешный, куда же денусь тогда от их анафемской злости!
Хохот разливается от Пушкина дальше и дальше во всю длину столов.
Невидимые в черноте ночи музыканты вдруг оглушают бравурными звуками лезгинки, и несколько офицеров-кавказцев выскакивают из-за столов на освещенный плошками от вензеля круг. Начинается бешеная лезгинка, за которой все следят с неотрывным вниманием.
– Браво! Хорошо!.. Чудесно!.. – подымается Пушкин. – Ах, как бы я сам сейчас отколол эту лезгинку, если бы умел!.. Черт возьми, какая увлекательная пляска!
– Александр Сергеич! А что же вы делаете со своим рогом изобилия? – вспоминает Санковский.
– Опустошаю понемногу… – скромно отвечает Пушкин.
– Понемногу не полагается, надо сразу – единым духом!.. Вот ваш брат, Лев Сергеич, отлично это делал, я видел.
– О-о, Левушка!.. Лайон!.. Он это может, я знаю. Он сейчас в армии Паскевича адъютантом у Раевского, в Нижегородском полку… Хочу, очень хочу пробиться туда к нему, да не знаю, позволит ли Паскевич… Посмотрите, как летает! Без костей! Совершенный мяч!.. Эта вечная просьба позволений! Мне и жить можно только в «Париже» в кавычках, а в Париж без кавычек меня не пускают… Скверная гостиница этот ваш «Париж»!
– Здесь она все-таки лучшая! Ее даже считают лучшей, чем Демут в Петербурге… – вставляет Савостьянов.
– Демут? Ха-ха-ха! – Пушкин хохочет заливисто весело.
Но Савостьянов считает нужным дать ему благой совет:
– Если вам будут так говорить здешние патриоты, вы все-таки не спорьте, бог с ними! Они и Сионский собор здешний считают выше Ивана Великого на пять аршин!..
Санковский же добавляет:
– А князья Багратион-Мухранские ведут свой род непосредственно от царя Давида, и в гербе у них поэтому – праща!
– Ха-ха-ха!.. Совсем как мой друг Дельвиг, который производит себя от Видикинда! – весело вспоминает Пушкин.
– А знаете, Александр Сергеич, здесь есть чудеснейший обычай: в четверг на Страстной неделе стрелять из ружей и пистолетов… Во всех грузинских и армянских дворах идет такая стрельба, точно в Тифлисе уличные бои… Это вызывает обыкновенно панику у новичков из России! – говорит Савостьянов.
– Лю-бо-пытн-но! Кто же в кого и зачем стреляет?
– Стреляют? В Пилата и Кайафу, чтобы отбить у них Христа и до распятия ни в коем случае не допустить! И замечательно то, что хотя сражения эти с Кайафами и прочими Пилатами каждый год кончаются неудачей, все-таки они каждый новый год повторяются!
– Ха-ха-ха! Нет, знаете ли, это просто прелесть что такое!
Пушкин бьет в такт музыки в ладоши и спрашивает вдруг:
– Кто это летает так ловко? Вот это танцор! Кто?
– Это? Кипиани… – отвечает Санковский. – Поручик Кипиани… О-о, это плясун!
Слышится чей-то отдельный возглас в конце стола:
– Корнет Батурин! Давай закурим!
И сердитый отклик Батурина:
– Экий баран! Хотя бы Пушкина постыдился с такою рифмой!
– Браво, поручик Кипиани! – хлопает Пушкин в ладоши. За ним аплодируют все и кричат:
– Браво, Кипиани!
Пляской Кипиани заканчивается лезгинка. Усталые танцоры сходятся к столу. Наполняются стаканы. Кобахидзе запевает «Алаверды», и эта национальная грузинская песня подхватывается всеми.
Пушкин по окончании пения, растроганный, подымаясь со стаканом вина, кричит:
– За Грузию! За прекрасную Грузию! Ура!
Общее «ура»! Крики: «За Грузию!» Все чокаются с Кобахидзе, Кипиани, Ломидзе и другими грузинами, а Санковский, сидящий рядом с Пушкиным, говорит ему:
– Александр Сергеич! Вы поедете в действующую армию, может быть, познакомитесь там с генералом Панкратьевым. Это – великий службист, у которого все делают по уставу, но он все-таки всеми недоволен: не так делают! Знаете, как в пении: не доносят, и регент готов разбить зубы хористам… У Панкратьева такой темперамент, что, если бы дать ему хор такой, как наш вот сейчас, он бы кинулся всех избивать за то, что не по его поем… И вот с ним случился такой казус. В Шемахинском округе вздумал он смотр какой-то делать мирным татарам… Съехались татары чест-ней-шие! Скрип от их арб за сто верст! Колеса не мазались со времен Адама! Панкратьев из себя выходит: «Давай дегтя! Пусть мажут колеса, черти!» Принесли дегтя, роздали татарам мазницы, мазилки – мажут! А Панкратьев готов всех перебить картечью: «Ну, не так мажут! Совсем не по правилам!..» Выхватил у одного помазок: «Черт смоленый! Ирод собачий! Разве так мажут? Вот как, мажь! Вот как мажь!» А татарин сзади стоит: «Ай, якши! Ай, чох якши!.. Еще мази, пожалиста, еще мази… Ах, молодца-генерал! Какой молодца!..» И даже по спине нашего Панкратьева начал хлопать: ма-лад-ца!
– Ха-ха-ха!.. Воображаю?.. Прелестнейший анекдот? – очень доволен рассказом о генерале Пушкин.
– Какой же анекдот? Вот при поручике Агееве было!
– Сущая правда, Александр Сергеич! – подтверждает Агеев. – И я даже думаю, не подпустил ли тут наш татарин иронии…. По крайней мере, Панкратьев так это понял, сшиб его с ног и самого вымазал дегтем. Теперь отличается у Паскевича – командует дивизией.
Ломидзе кричит, подымаясь:
– Господа! Еще шашлыков? Или приказать чебуреков?
И со всех сторон раздаются разноголосые крики:
– Шашлыков! Чебуреков! Шашлыков!
Совершенно удовлетворенный, как будто и не ожидал такого успеха, раскланивается, уходя, Ломидзе:
– Хорошо! Сейчас подадут шашлыков и чебуреков!
– Господа! – подымается Пушкин. – Говорят, что сила испанца заключается в его гордости личной, сила англичанина – в гордости национальной, сила француза – в чувстве чести, сила пруссака – в правилах дисциплины, сила турка – в религиозном фанатизме… В чем сила русского солдата, я не вполне знаю.
– В «авось», «небось» и «ничего»? – громко отзывается с дальнего стола корнет Батурин.
– Ха-ха-ха! Это хорошо подсказано! Давайте же выпьем за «авось», «небось» и «ничего» нашей армии, – поднимает стакан Пушкин.
Все кричат «ура»; чокаются с офицерами штатские, идут чокаться с Пушкиным, а Батурин, подойдя к нему, говорит ему убежденно:
– Сила нашей армии, Александр Сергеич, в беспорядке: это будет точнее? Вот когда будете вы сам в армии, увидите, что порядка у нас нет?
– Как при Гостомысле?
– Да… И благодаря этому мы побеждаем? Кого же? Тех, у кого порядка меньше, чем нет? В этом только и все дело!.. А вы, Александр Сергеич, значит, хотите осуществить, не помню уж чьи, стихи:
Гремит призывный барабан,
Окончилось служенье Фебу!
Певец взглянул прискорбно к небу
И спрятал лиру в чемодан!
– Ха-ха-ха! Это некий Коншин… Он тупица и лишен таланта, но эти четыре строчки у него не плохи…
Чей-то зычный голос с конца стола:
– Батурин, давай покурим? – прерывает Пушкина, и Батурин, морщась, как от зубной боли, бормочет:
– Боже мой, какой баран! – и отходит от Пушкина на свое место.
А в это время торжественно возглашает появляющийся Ломидзе:
– Ну вот, господа, кто хочет шашлыков, кто чебуреков, есть и то и другое!
За ним несут шашлыки на вертелах и чебуреки на горячих сковородках.
За столами общее оживление. Становится шумно. Многие говорят громко, не слушая один другого. Шашлычники и чебуречники обносят хозяев ужина.
– Александр Сергеич! Вам шашлыков или чебуреков? – наклоняется над Пушкиным Кобахидзе.
– Нельзя ли и тех и других? Изумительно вкусные шашлыки! – неподдельно восхищен Пушкин.
– О-о!.. А чебуреки? – поднимает палец Кобахидзе.
В темноте издалека как бы набегающими тихо и плавно звуками раздается какая-то восточная мелодия; потом в нее врывается тамбурин и женские голоса, и толпа баядерок появляется на той же освещенной плошками площадке перед вензелем и начинает пляску.
– Кто это? Грузинки? Кто? А? – вскакивает Пушкин.
– Баядеры, Александр Сергеич! Возможно, что они не из Индии, но… – объясняет Савостьянов и улыбается красноречиво.
Восточные танцы баядерок заставляют почти всех выскочить из-за столов и столпиться около танцующих, а когда кончается танец и баядеры убегают с подмывающим визгом, сопровождаемые раскатом аплодисментов, кое-кто из пирующих бежит за ними вдогонку…
– Прекрасно, отлично?.. – восхищается Пушкин. – Кому пришла такая счастливая мысль угостить меня в Тифлисе танцами баядерок?
Санковский кивает на Савостьянова:
– Вот автор!
А Савостьянов умоляюще обращается к поэту:
– Александр Сергеич? Ведь вы уже несколько дней в Грузии? Неужели ничего у вас не написалось о ней?
– О ней? О ком «о ней»?.. Да, у меня есть кое-что о Грузии и «о ней», о той, которая там, в Москве… – с готовностью отвечает Пушкин.
И Савостьянов кричит, обернувшись ко всем остальным:
– Господа! Внимание! Александр Сергеич хочет прочитать свои стихи о Грузии!
Хлопают со всех сторон в ладоши и кричат:
– Слушаем! Ждем! Александр Сергеич! Читайте! Читайте!
– Какой вы скорый! Разве так можно? – как бы сердясь, обращается к Савостьянову поэт. – Ну все равно… Читаю…
На холмах Грузии лежит ночная мгла.
Шумит Арагва предо мною,
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою.
Тобой, одной тобой!.. Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может!
Гром аплодисментов. Когда они стихают, голос Савостьянова:
– За невесту Александра Сергеевича! Ура! – И при общих криках «ура» все теснятся чокаться с Пушкиным.
Глава пятаяЭрзерум. Дворец сераскира, в котором расположился штаб графа Паскевича-Эриванского. В штабе, большой, но по-восточному низковатой комнате с ободранными диванами у стен, столы походные, из палатки командующего армией. На одной из стен развешано оружие, отобранное у пашей при сдаче их в плен. В отворенные окна видны мечети, минареты и плоские крыши домов Эрзерума. Вдали лента реки Еврата.
В штабе за столом сам Паскевич, который кажется моложе своих сорока семи лет, тщательно выбритый и одетый, невысокий, но с наигранной величавостью в поворотах головы, вскидываньи бровей и твердом зажиме губ, сидит за столом. Перед ним стоит исполняющий обязанности начальника штаба полковник Вольховский, худой, обросший бородою, с кучей бумаг в руках. Доклад его прерван приводом группы знатных стариков Эрзерума, которые в чалмах и халатах, разглаживая седые бороды, спокойно слушают, что говорит русский сераскир их переводчику, армянину в обычной кавказской черкеске. С ними же казачий офицер с саблей наголо.
– Передай им, – говорит Паскевич переводчику, – что я их задерживать как заложников не буду… Мне они не нужны… Достаточно с меня пашей, взятых в плен с оружием в руках. Но они, эти вот, должны сидеть смирно в своих домах и никого не бунтовать и ни-ку-да, понял? – ни-ку-да из Арзрума не выезжать до конца войны…. Понял, что я сказал?
– Понял, ваше сиятельство… Идти домой, никого не бунтовать, никуда не уезжать?… – поспешно отвечает переводчик.
– Ну вот… Так и передашь им… Конвойный офицер! Ведите их отсюда?… И больше никаких мне аманатов не надо…
– Слушаю, ваше сиятельство! – отчеканивает молодцеватый конвойный офицер.
Турки кланяются и все выходят.
– Что еще там у вас? – обращается Паскевич к Вольховскому.
– О движении чумной эпидемии в наших войсках, ваше сиятельство… – отвечает Вольховский.
Это не нравится Паскевичу. Он морщится:
– Чумная эпидемия? Что же чумная эпидемия? Чумный лагерь ведь устроен, как я приказал?
– Чумный лагерь устроен, но число заболеваний растет, ваше сиятельство!
– Война в Азии! Вот что такое война в Азии! В Петербурге этого не представляют?.. Объявить в приказе по армии, что воспрещается нижним чинам общаться с туземным населением… Усилить карантины… Что же еще мы можем сделать?
– Слушаю, ваше сиятельство… Кроме того, лекаря заявляют о том, что развивается горячка…
– Хорошо, хорошо… Горячка, чума… Это все мелочи… А какие донесения из отряда Бурцова?
– Пока никаких. Думаю, что он уже занял Байбурт, – с готовностью сказать приятное начальнику уверенно говорит Вольховский. Но Паскевич смотрит на него недоверчиво.
– Вы думаете? Гм… Лазы – народ воинственный… Едва ли они будут бежать без оглядки, как сброд сераскира и Гака-паши. И хотя этот ханжа Сакен очень усердно крестил Бурцова, когда он отправлялся… но кого же он не крестил? Что быть Сакену в царствии небесном, в этом я не сомневаюсь, но под моим начальством служить он уж больше никогда не будет!.. Дойти до такой наглости, чтобы себе приписать все успехи двух кампаний, мною проведенных, и об этом корреспондировать в «Journal des Débats» – (Повышая голос.) – И во время боя не исполнять прямых моих приказаний! Делать по-своему! – (Еще более повышая голос.) – Видите ли, он и декабристы – это мозг армии! Но ведь если среди декабристов есть дельные люди, как вы, например, или Пущин, не говоря о Раевском, то они мною выдвигались и будут выдвигаться, хотя всем известно, что государь этого не любит! По мнению и воле государя, декабристы тут, в действующей армии, совсем не затем, чтобы нахватать чинов и орденов! Они тут отбывают наказание, и только. Вашей службой я доволен… О вас я сделал представление его величеству… – И граф милостиво глядит на бывшего декабриста, а бывший декабрист кланяется поспешно:
– Покорнейше благодарю, ваше сиятельство!
– Я делаю для декабристов все, что могу! Если они личными способностями и храбростью заслу-жи-вают наград, я немедленно делаю представления… Я выдвинул в генералы Раевского, который хотя и не был судим, но, между нами говоря, ведь тоже замешан в бунте… Я сделал генерал-майором Бурцова… Благодаря мне получил офицерский чин Пущин, хотя это и было трудно: у государя свои разряды декабристов и очень хорошая память на эти разряды!
Худой, изможденный Вольховский считает момент подходящим для просьбы об отпуске.
– Ваше сиятельство! Я уже докладывал, что мне необходим отпуск для лечения водами… так говорят врачи…
Но такой поворот разговора не нравится Паскевичу. Он говорит ворчливо:
– Отпуск, отпуск! Всем необходим отпуск! Всей армии необходим отпуск и отдых! И мне тоже!.. Однако кампания еще не кончилась… Главное, я не имею сведений из армии Дибича, а участь нашей армии решается там, на Балканах… Идти ли нам дальше, следом за Бурцовым, или мы уже выполнили свою задачу… Я вам обещаю отпуск, когда выяснится, что дальше мы не пойдем. Поверьте, что это вопрос двух-трех недель, не больше…
Поспешно входит поручик Абрамович, личный ординарец графа.
– Ваше сиятельство…
– А, вот, кстати, Абрамович… Вы были в гареме Османа-паши? – вспоминает при виде его Паскевич.
– В гареме я был… вместе с поэтом Пушкиным…
Упоминание Пушкина неприятно Паскевичу. Он бьет рукой по столу.
– И здесь Пушкин! Ему и в гарем нужно! Ну, что там? Никого не изнасиловали там наши солдаты?
– Никаких претензий заявлено не было, ваше сиятельство! – вытянувшись, по уставу отвечает Абрамович.
– Хорошенькие есть? – задает игривый вопрос граф, чем заставляет осклабиться Абрамовича.
– Я видел только двух, и то они были под чадрами, и одна, кажется, мамаша самого паши… Пушкину больше посчастливилось: на него – по крайней мере, он так говорил, – глядели откуда-то из слухового окошка несколько… Но красавиц и он не заметил, ваше сиятельство.
– Спрятали!.. А Пушкину сюжет для стихов. Значит, Османа-пашу мы можем успокоить, хотя по дороге к Тифлису пленный паша, должно быть, забыл о женах!
– Ваше сиятельство… – делает движение в сторону графа Абрамович, осерьезив лицо.
– Что такое еще?
– Из отряда генерала Бурцова приехал с донесением…
Паскевич мгновенно преображается.
– Где? Кто? Сейчас же сюда!
Абрамович быстро выходит и тут же входит с поручиком Леманом.
– А-А! Здравствуйте, поручик! – кивает бровями граф.
– Здравия желаю, ваше сиятельство! Честь имею явиться с донесением из отряда генерала Бурцова, – заученно рапортует Леман и протягивает пакет Паскевичу. Тот передает его Вольховскому, говоря Леману:
– Ну, докладывай скорее, что там?
– В сражении под Байбуртом смертельно ранен генерал Бурцов, ваше сиятельство! – быстро выпаливает поручил Ломан, и Паскевич откидывается назад, ударяя ладонями о стол.
– Смертельно? А-ах, какая жалость! Смертельно?.. Как?.. Каким образом?..
– Выстрелом из пистолета, ваше сиятельство.
– Из пистолета? На такой близкой дистанции? Почему?.. Кто принял команду?
– Полковник Протасов, ваше сиятельство.
– Ну вот… смертельно ранен! – обращается к Вольховскому Паскевич. – А может быть, не смертельно?
– По мнению старшего лекаря отряда, нет надежды, ваше сиятельство, – продолжает отчетливо сыпать заученные фразы Леман.
– Ах, эта неизвестность! Ведь кампанию, в сущности, мы кончили! Напрасная, может быть, смерть!.. Что там в донесении? – обращается к своему начальнику штаба граф.
Протягивая бумагу Паскевичу, говорит Вольховский:
– Просит командующий отрядом подкреплений, ваше сиятельство.
Быстро пробегая донесение, поправляет его Паскевич:
– Не только подкрепления, но и провизии и фуража!.. Разве наши обозы потеряны, поручик?
– Нападение на обоз было, ваше сиятельство, но оно отбито, – несколько заминается Леман, и это замечает Паскевич и кричит:
– Не вра-ать!.. Вы, поручик, не ре-ля-цию в Петербург составляете, нет! Вы рапортуете командиру армии!
– Я, ваше сиятельство, докладываю, что мне было известно, когда я выезжал в Арзрум с донесением, – спадает окончательно с бравого тона Леман.
– Но командующий отрядом, видимо, надеется на то, что обозы будут уже отбиты, пока вы вернетесь? – язвит Паскевич. – Где Раевский? – обращается он к Вольховскому.
– Раевский?.. Недавно я видел его с Пушкиным… – порывается Вольховский к дверям.
Новое упоминание о Пушкине окончательно взрывает Паскевича.
– Опять с Пушкиным! Везде Пушкин и все с Пушкиным! Пушкина надо просто выслать вон из армии! Вы можете идти, поручик… Я вас позову, когда будет нужно! – (Леман, сказав: «Слушаю, ваше сиятельство!» и повернувшись по форме, уходит.) – А кто просил меня, чтобы я позволил Пушкину приехать в действующую армию? Раевский, конечно! И вот, этот ваш лицейский товарищ, которого солдаты зовут «драгунским попом», он отнимает у всех время, везде суется и с пикой скачет в атаку!… И когда его убьют, как Бурцова, я еще буду и виноват!.. Благодарю покорно!.. Нет выслать, выслать!.. Предложить выехать в Тифлис, а там куда хочет, – не мое дело!.. Пошлите и за ним также, пожалуйста!
Когда Вольховский выходит, Паскевич перечитывает донесение, комкает его и швыряет на стол. Входит высокий, сутулый, в очках Раевский, а за ним Пушкин и сзади их Вольховский. Паскевич кивает им недовольно.
– А-а, ну, вот кстати! Я посылал за вами, Николай Николаич! Здравствуйте! Здравствуйте, г-н Пушкин!
– Это мы шли к вам сами, ваше сиятельство! Я слышал, что Бурцов убит! – в сильнейшем волнении говорит Раевский.
– Если и не убит, то смертельно ранен… И, видимо, личная неосторожность: убит из пистолета!.. Вот что я хочу вам сказать… Г-н Пушкин, оставьте нас на минуту… э-э… у нас тут будет совещание чисто военного свойства…
Пушкин откланивается, недоумевая и говоря невнятно:
– Хорошо, хорошо… Я, кстати, хотел посмотреть на чумных больных… в нашем чумном лагере.
– Ну вот! На чумных больных! Нет, вы, пожалуйста, этого не делайте! Погуляйте пока по дворцу… но не уходите: вы мне будете нужны! – тоном приказа говорит Паскевич, и Пушкин уходит.
– Да ведь он был уже где-то у чумных турок! Зачем ему еще чумные? – не понимает выпада своего друга Раевский.
Это подхватывает, глядя в сторону Вольховского, Паскевич:
– Вы слышали? Нет, с ним надо проститься… Генерал Раевский! Вот что я хотел вам сказать. Я думаю назначить вас с Нижегородским полком в подкрепление бурцовскому отряду. Оттуда просят подкрепления, вот вы и возьмете с собой еще горную батарею, две или три сотни казаков, обоз…. там нуждаются в провианте и фураже…
– Слушаю… Я должен буду из Байбурта двинуться на Трапезонт?.. Или в другом направлении?
– Откуда вы взяли Трапезонт? Я ведь вам ни слова не сказал о Трапезонте! – сердится Паскевич.
– Я понимаю, ваше сиятельство, будущую свою задачу только так, что мы должны захватить Трапезонт, чтобы опереться правым флангом армии на приморский пункт, откуда мы могли бы держать связь с армией Дибича при помощи флота…
Это вмешательство в его личную стратегию, вмешательство бывшего декабриста, бесит Паскевича.
– Генерал Раевский! Вы должны слушать то, что я вам приказываю! – почти кричит он. – А я вам приказываю только это: поддержать отряд, бывший под командой генерала Бурцова! Вот и все! И совершенно нечего умничать насчет Трапезонта и каких-то там опорных пунктов на море!
Раевский считает нужным оправдаться. Он становится очень почтителен.
– Ваше сиятельство! Я только хотел уяснить себе дальнейшие задачи похода. Мне кажется, что вы меня просто не так поняли… Задачи похода, конечно, были известны генералу Бурцову, но если он ранен смертельно, то, может быть, он даже и не успел передать их своему заместителю.
– Как много говорит! Как он много говорит!… – хватается за голову Паскевич. – Хорошо, вы пока можете идти… Я еще не решил окончательно, будете ли посланы вы или кто-нибудь другой… Или, может быть, по обстоятельствам дела надобно будет отозвать отряд… Граф Дибич – вот кто решает войну, а не я!









































