Текст книги "Хорасан. Территория искусства"
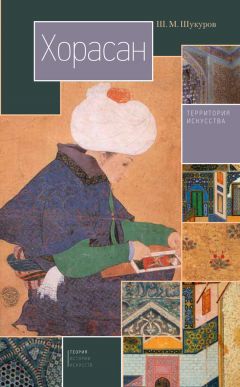
Автор книги: Шариф Шукуров
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
«Различие доводит, приводит мир к его мирскости, вещи к их вещности. Единясь, они доводятся друг до друга. Различие предполагает не просто связывающую середину. Различие опосредует серединой мир и вещи, доводит до их сущности, приводит друг к другу в единении единого»25.
Но самое главное состоит в том, что, придав визуальным формам статус, соответствующий фигурам в персидской поэтике, в результате мы обнаружили образы, которые не так-то просто было обнаружить. Это образы, основанные на преображении дальневосточной традиции, образы, которые освоили чужие формы и значения, придав им статус своих. Чужое и свое, будучи различными, но не разведенными, едины в визуальном образе, который, следуя риторическим правилам, единит их в готовом слове.
Именно слово, трансформированное, однако, в изобразительную форму, является ключом к коммуникативной стратегии, которую разработали поэтологи средневекового Ирана. Больше того, как мы видели, данная коммуникативная стратегия разработана достаточно рано, при Саманидах, но совершенно очевидно, что она была направлена в будущее и блистательно реализована на материале более поздней керамики и рукописной миниатюры. Следует непременно помнить, что устремление теоретических постулатов коммуникативной стратегии в будущее является условием единства прошлого и будущего в средневековой культуре Ирана, единства Большого Хорасана и Ирана.
Подражание китайщине сталкивается с готовым персидским словом, которое находится в распоряжении художников. В этом случае зритель должен направить свое воображение так, чтобы переключить восприятие изобразительной формы на готовое слово. Образованный зритель подобных визуальных образов обязан был помнить еще об одном правиле поэтики, которую сформулировал еще Фараби:
«Подражание же высказыванием представляет собой составление высказывания, в котором содержатся или высказываются вещи, подражающие вещи (о которой идет речь), посредством указания на другие вещи, подражающие этим вещам. /…/ Таким образом, подражания посредством высказывания делятся на два вида:
1. Воображение вещи в самой вещи.
2. Воображение наличия вещи в другой вещи»26.
Перед нами встает еще один вопрос: что такое язык, но не в своей сущности, а в вещности, о которой говорил еще Хайдеггер в только что цитированной работе «Язык». Язык вызывает вещи, язык и вещь соприсутственны. Визуальный образ и готовое слово своим соприсутствием в именованной вещи порождают новое Событие. Это Событие характеризуется не привычными отношениями визуального образа и слова, а соприсутствием слова и изображения в форме готового, риторического слова. Такое Событие всегда риторично, оно опосредованно правилами взаимоотношения изображения и готового слова.
А вот еще один вывод: именованная визуальная фигура, название которой «chīn», в полной мере обращается в именованную поэтическую фигуру, значение которой не совпадает с тем, что мы видим. Именование образа оказывается не столь простым делом, образ, как говорил Джалал ал-Дин Руми, является обманщиком, разбойником (rāhzan), ловушкой для тех, кто склонен целиком и полностью полагаться на его оболочку27. Действительно, зримый образ может являться лишь оболочкой, скрывающей нечто различное, не подобное и даже не сходное. Следовательно, восприятие вещи может полагаться на установленные факторы схватывания, и наоборот, нельзя полагаться лишь на зрение, полагая, что, если ты видишь стилизацию дальневосточных мотивов, то так оно и есть. Восприятие в Средневековье всегда обучено, оно интеллектуально и пользуется фигурами мышления, в нашем случае это было мышление поэтологов, а также данность толковых словарей. Интеллектуализм никогда не мешал восприятию, напротив, он огранивал и одновременно придавал восприятию особенный смысл, когда человек мог отличить в вещи ее редкое значение, хотя все иные могли видеть в вещи то, чем вовсе она и не является.
Нельзя не согласиться со следующими словами весьма почтенного специалиста в области теории и истории искусства Ирана:
«Понятно, что персидская живопись была искусством весьма наученным, правда, лишенным каких-либо учебников или открытого изъявления своих основных принципов, однако, обладающая закрепленными правилами, которые использовали как художники, так и их патроны, впрочем, и все те, кто выказывал интерес к нему»28.
О. Грабар не противоречит сказанному нами выше. Действительно, специальные трактаты о художниках и каллиграфах появились у иранцев поздно, в сефевидское время. А до того времени специальных правил составления визуального дискурса не было, но художники не полагались на случай, они пользовались установленными в культуры правилами риторики, а точнее, литературной поэтики. Надо знать культ поэтического слова в Иране, чтобы отдавать себе отчет в первенстве выведенных и внедренных в толщу культуры правил использования фигур поэтики.
Для того чтобы выразиться еще яснее, сопоставим сказанное нами о проблеме языка и письменности с позициями западного искусствознания. Для известного иконолога А. Варбурга центральной задачей оставалось «восстановление естественного родства, сцепления слова и изображения»29. Как мы видели в главе I, позиции «слова и изображения» в иранском искусстве находились не на одной плоскости. Мятежный дискурс иранцев требовал абстрагирования словесного образа, то есть отвлечения изображения от слова и выведения новой и более глубокой структуры изображения. Сказанное еще раз подтверждает, что даже для средневекового искусства не существовало заведомого, универсального, что часто делается по отношению к культуре Запада и Востока. Известная позиция отечественного ученого Ю.М. Лотмана об «эстетике тождества» не находит никакого подтверждения в среде тех, кто вплотную занят философским, психологическим, поэтологическим исследованием древнего и средневекового искусства и архитектуры. Структурную самостоятельность изображения можно иллюстрировать примерами, взятыми из достаточно поздней иллюстративной традиции. В них мы увидим, сколь существенным остается дискурс Иконосферы, берущий свое начало при Саманидах.
В сефевидское время торжества отторгнутой от текста иллюстрации в рукописях, страницы которых были в основном заняты Логосферой, из-под текста пробивались иллюстрации. Таковы изображения к рукописи «Куллийат-и Ахл-и Ширази» 1575 г. из Британской библиотеки. Мы можем судить о визуальной толщине рукописной страницы, нижний уровень которой занимает изображение, а уровень текста надстраивается над ним (подробнее см. ниже в специальном разделе). Та же идея может быть преподана и другим способом, когда изображение, помещенное в центре рукописной страницы, создает оптический эффект перспективного углубления в толщу текста. Вывод остается прежним: начиная со времени Саманидов, иранские художники осознавали силу визуального дискурса Иконосферы, они не переставали находить все новые и новые приемы для выявления возможностей противодействия тотальности текста и Логоцентричного дискурса.
Мы продолжаем взятую выше тему с некоторым смещением. Начатый разговор об иранской китайщине и странном образе гор может быть продолжен на материале гератской и более поздней миниатюры с новым семантическим наполнением.
Пример: Химеры-обереги
Вот одна из особенностей по отношению к вещи: друг должен быть одиноким, чтобы обрести дружбу с вещью. «Я» человека особенно тщательно культивировалось в дружественной среде иранцев. А это была действительно среда, составленная из взаимоотношений человека с другим, а также с вещью. Ведь долгое рассматривание иранцем вещи, будь то сосуд, пенал с повествовательным изображением
или подсвечник в полумраке ночи с орнитоморфным навершием ручки, плодотворно только наедине с вещью.
Подобного персонажа, долго просидевшего в музейном подвале Дрездена во время американской бомбежки, прекрасно описал Курт Воннегут. Он стал одиноким другом вещей в долгой ночи, отличая в полной темноте и на ощупь сунскую бронзу от танской, не став, как говорит автор, при этом искусствоведом. Следовательно, не столь важно видеть вещь, ее тактильное начало вполне может заменить ее же видение. Дабы полюбить вещь, достаточно быть другом вещи, а не историком искусства. Тактильное и дружественное одиночество с вещью способно вывести к большему знанию о вещи, нежели ее ведение, которое обязательно влечет за собой излишние слова о ней. Слова подводят вещь к иным стратегиям ее бытования в мире, в то время как пластика вещи, даже невидимая, раскрывает все новые и новые формальные и ментальные образы собственно вещи.
Одиночество, как известно, креативно; добавим, что эта креативность всегда остается любознательно-дружественной, любящей вещи. В этом же положении оказывается иранец, рассматривающий иллюстрированную рукопись. Плодотворно миниатюру можно разглядывать только в одиночестве, приближаясь к ней вплотную, дабы рассмотреть мельчайшие детали и прочитать мелкий почерк, или несколько отстраняясь, чтобы увидеть ее всю, в целом. Любопытствующий, просматривая иную миниатюру вскользь, бегло, не увидит того, что предстанет другу миниатюры, смотрящему долго и внимательно. Столь же плодотворно одиночество во время близкого знакомства человека с иранскими металлическими изделиями, насыщенными сюжетами и различными мотивами с неоднозначным содержанием.
Одиночество, однако, способно породить в своем воображении и химеры. Возникновение химер является одним из результатов видения. В отличие от шизофренических видений, во время которых горный ландшафт может представлять реальную угрозу для человека, в здоровых силах (человека, общества) всегда обнаруживается защитный перцептивный механизм, способный отразить угрожающую его жизни активность элементных сил (земли, ветра, сияния, восходящего солнца и т. п.)30. Несмотря на то, что эти силы приобретают очевидный вид биоформ, они парадоксальным образом не в состоянии испугать человека. Здоровый человек защищен, но, в отличие от шизофреника, защитным механизмом ему служат именно эти биоформенные силы.
Видимо, именно такую функцию носила демоническая серия иранского художника по имени Сийах Калам (ил. 38). В нашем случае неважно, где он жил и работал – в Средней Азии или Западном Иране; не установлено и точное время изготовления этих миниатюр (начало или конец XV в.). Важнее другое: иранцев совершенно определенно интересовали демонические изображения, будь то реалистически переданные изображения Сийах Калама или аллегорические изображения на миниатюрах в виде устрашающих животных, к которым мы и переходим.
Похоже, что сама природа этих изображений в персидской миниатюре уводит нас к китайским и восточно-туркестанским изображениям31. Воздействие китайского искусства, привнесенного на плечах монголов, неоспоримо, хотя еще раньше, в саманидское время, подражания китайским образцам уже существовали. Китайцы оставили свой след в персидском искусстве в основном в периферийных аспектах построения изобразительных сюжетов. Это были и специфические облака, которые никогда не покидали визуального оформления неба в персидских миниатюрах, и иллюзионистическая передача пространства в некоторых образцах, и, наконец, изображения водяной ряби и скал в виде устрашающих изображений лиц и даже целых фигур. Первые из таких изображений появляются в миниатюрах к двум рукописям «Джами ал-Таварих» Рашид ал-Дина (одна рукопись принадлежит Королевскому Азиатскому обществу, Лондон; вторая же – из Эдинбургского университета). Нам, однако, интересен вопрос не эволюции, а способов адаптации этих изображений в персидской миниатюре.
При внимательном взгляде уже в гератских миниатюрах XV в., а особенно в XVI и XVII веках, частые изображения причудливых гор обращаются в терраморфные и только иногда антропоморфные профили и анфасные изображения (ил. 39). Даже на наружных стенах сефевидского дворца Чихил-Сутун можно увидеть пасторальные сцены, фоном которых служат холмы в виде крупных змеевидных существ. Эти изображения не назовешь образом в привычном смысле этого слова, ибо невозможно сказать, образом чего они являются. Можно говорить обо всей миниатюре как образе или образах отдельных и узнаваемых ее деталей. Например, изображенное дерево есть именуемый образ дерева реального или вымышленного. Несуществующее же в природе не есть образ несуществующего, отсутствующего. Несуществующее есть нечто, чему нет имени. Это нечто прячется под именем «гора» и изображением горы, в то же время горой не являясь. Быть может, это и есть образ горы, сама суть горы, у которой нет имени, но существует только изобразительное тело, форма без идеи. Существует изображение того, что есть это изображение, и не более того. Без изображения это нечто не реально.
Безусловно, изображение химер существовало во все времена истории искусства. Их изображения, скажем, на готических соборах манифестировались и наделялись совершенно определенным содержанием. Как мы увидим ниже, подобные изображения химер и монстров существовали в искусстве и архитектуре мусульман начиная с миниатюр монгольского времени. Однако в иранской миниатюре появляется некий вид химер, рядящихся под безжизненные горные скалы и холмы. Можно сказать и иначе – горы и холмы в иранской миниатюре нежданно оживают, оказываясь на самом деле химерами. Следовательно, согласно данным персидской миниатюры химеры, облекаясь в надлежащую им форму страшных животных, рыб, дельфинов, оказываются безжизненной горной породой, просто землей. Они вырастают из земли, они есть, и их, как это странно ни прозвучит, нет.
Мы приходим к новому выводу: в мире изобразительных форм и значений существуют вещи, не имеющие своего изобразительного бытия. Это не гора, а что-то другое. Это нечто другое, чему нет имени собственного. Такие вещи могут рядиться под нечто узнаваемое и именуемое, ловко минуя ритуал имянаречения. Вот парадокс: нет вещи, нет имени, а изображение в форме горы существует. Как только мы отнимем у такого изображения гору, исчезнут и химеры. Ибо они и есть химеры. Истинным прибежищем химер является пустота, откуда они являются в мир изображений и куда проваливаются. Химеры – это то, что усилием воли должно быть преодолено, забыто как плохой сон.
Мы убеждены в том, что подобные изображения оживленных гор не имеет смысла расшифровывать, вводить их в вербальную ткань миниатюр. Они намеренно отстранены от иллюстрируемых рассказов, появляясь там, где ждать их вовсе не приходится. Они появляются в сценах охоты, отдыха, битв, встречи влюбленных. Химеры вездесущи, они – оборотная и зафиксированная сторона этого мира, с ними нельзя не считаться. Без них мир ничто, но и вне мира химеры лишатся избранного ими места и в целом существования.
Обратим внимание и на отчетливую пластичность формы подобных гор, которые могут оказаться вовсе и не горами, а холмами с едва намечаемыми чертами терраморфизации. Для художников существенным оказывается само присутствие химер в виде гор или возвышенностей, на фоне которых происходит то или иное действие. В том же случае, когда отсутствуют признаки химеризации гор, мы понимаем, что сама форма гор указывает на их скрытое присутствие. Вновь обращаем внимание на то, что форма указует на себя в результате пластического освоение фона. Когда художник решает, что пришла пора явления химер, он пластически оформляет хорошо известную в изобразительной традиции форму. Пластика нагружает форму вовсе не значением, а дополнительным измерением ее возможностей пластического модуса формообразования; следовательно, пластика обладает силой репрезентации (ил. 40)
Вследствие доминаты силы пластического начала мы удостоверяемся в принципиальной гомогенности изобразительного пространства, начиная с миниатюр тимуридского периода. Подчинение различных форм единому пластическому началу оказывается решающим шагом в разработке гомогенного пространства, что, безусловно, усиливается цветовым созвучием изображений.
Прежде чем предпринимать попытку интерпретации, следует задуматься о том, какой же силой обладает мятежный дискурс Иконосферы, если он нацелен на буквальное преображение пластической ткани изображения, воображаемого мира миниатюры. Химерные горы суть плоды мятежного дискурса Иконосферы, не прекращающего свои блуждания внутри вещи. Прежде чем все-таки перейти к интерпретации, мы попробуем выяснить феноменологический статус этих изображений. Как мы увидим, без последующих замечаний интерпретация химер в персидской миниатюре невозможна.
Отчего так, отчего же большая часть химерных изображений представлена в форме грозных животных и вдобавок отодвинута на периферию композиций? Ведь персонажи миниатюр ничуть не испуганы, они просто-напросто не обращают никакого внимания на соседствующих с ними химер. Как будто бы их нет, и в то же время, как будто их присутствие необходимо. Нежели дискурс Иконосферы в своих блужданиях не фактически, а концептуально возвращает нас к началам искусства? Для такого вывода существуют основания. Мы делаем попытку именования неименованного. И еще: мы отсылаем ниже к работам по ранним формам искусства не с целью найти следы тотемического начала у иранских мусульман. Нас в первую очередь будут интересовать правила организации пространства там, где обнаруживается присутствие животных.
Недавно исследователь первобытного искусства П.А. Куценков отметил, что первобытные изображения животных или отпечатков рук на скалах или в пещерах прекращают бытование изобразительной плоскости камня в качестве только камня. Скала становится тем самым местом, которое будет носителем, следом пребывания человека, это – место пребывания человека. Отныне это место отмечено, а сама мета, однажды поставленная, «открывает поистине безграничные возможности для последующих усложнений и инверсий». Вот здесь и следует искать, говорит Куценков, начало тех процессов, которые приводят к появлению последующего искусства и храмового сознания32. «То самое место» в первобытной жизни, следуя блестящей догадке Куценкова, на самом деле является первым в истории человечества процессом территоризации. С момента осознания «того самого места» возникают первые зачатки искусства и архитектуры как установление границ своего дома, будь то отдельная территория или то, что невозможно назвать ни композицией, ни упорядоченностью, но, тем не менее, оно присутствует как неотъемлемость для последующих поколений. Отмеченность, собственно, и задает тон для образования последующего и позднего порядка. Надо отдать должное могучей философской интуиции современных философов. Делёз и Гваттари, не являясь специалистами в области первобытности, первыми проговорили важнейшую мысль о территорилизации как первом опыте по упорядочиванию пространства и, соответственно, первом шаге к созданию искусства человеком33. С обеих точек зрения понятие территоризации и дома человека нераздельны. Одно подразумевает другое. Не менее важно и еще одно соображение: изображение животных неотъемлемо от установления первобытной онтологии установления границ «того самого места». То самое место вместе с человеком обживают и животные. Делёз и Гваттари говорят, что искусство одержимо животным началом. Так было в глубокой древности, так обстоит дело и сейчас.
И все же мы должны отдать должное интуиции классиков искусствознания. Первым, кто заговорил о «памятном месте», был Г. Земпер. Сделал он это не столь изощренно, как последующие поколения философов и историков искусства, однако существованием проблемы выделения памятных мест, начиная с первобытности, мы обязаны именно Земперу34.
Во всем сказанном есть свой резон и по отношению к искусству Ирана. Как мы говорили выше, искусство иранцев с самого начала было особенно внимательным к рядоположению антропоморфного и животного начал. Так было при Ахеменидах и Сасанидах, иранцы не изменили себе и позднее – при мусульманах. Многочисленные изображения птиц и иных представителей животного мира занимали видное место как в керамике, архитектуре и миниатюре, так и в обиходе, всевозможной утвари иранцев (ил. 41). Надо ли теперь удивляться, что и горы в миниатюрах носили отпечаток животного начала? Речь должна идти о границах территоризации иранцев, в границы «того самого места» иранцев вмещалось все – от изысканного быта до животного начала, от сказочного и духовного мира до мистериальных представлений с химерами в узнаваемом облике, но безымянном образе животных. В ранних образцах иранской миниатюры животным и антропоморфным противникам рыцарей отводились непременно горы, зоной обитания самих героев оставались долины35. Как мы видим, ситуация осложняется, и в последующих образцах миниатюры возникли дополнительные поводы для изображения в горах уже не узнаваемых чудовищ, а неузнаваемых химер. Быть может, внутри мятежного дискурса иранцев утвердилась практика изображения охранителей своего пространства – будь то жилище или лужайка для отдыха? Пространство человека должно оберегаться. Так должно быть, ибо к этому ведет логика представления своего дома, своей территории. Кстати, мусульманские города часто охранялись рельефными изображениями змей и драконов на стенах36. Это было вызвано тем, что божественный закон сообразовывался с талисманом, который прикреплялся к воротам города против злых сил37. Из этого средневековые люди делали парадоксальный вывод: божественный закон (шариат) походит на злокозненных людей, ограждая добропорядочных людей от влияния злых сил. Существенным подспорьем для развития этой темы являлась практика изготовления дверных колец и ручек в виде оберегов – сильных и злых животных (львов, пантер).
Следует чуть задержаться на сугубо архитектурном образе средневековых стен городов. Стена и линия – образы одного порядка. Ведь архитектор начинает свою работу не просто со стены, а именно с прочерчивания линии. Сигнификантом линии является и алфавит, и письменность, и дом, и все то, что полагается в основы культуры. Культуропорождающие функции линии дополняются ее ограждающим началом38. Культура немыслима без линии, без вычерчивания множества образов и силовых линий культуры.
Животные, какими бы страшными они ни были, ограждали хозяев от непрошеных гостей. Аналогичным образом, видимо, следует понимать появление тетраморфных существ на посохах даже у духовных особ; навершия посохов заканчивались крестом, который с двух сторон охватывали драконы. И в этом случае драконы не противостояли кресту-знамению, напротив, они охраняли, оберегали покой креста и обладателя посоха. Мы приходим к еще одному выводу: химеры-горы составляли оболочку-заграду, предотвращающую проникновение зла:
«Оболочки ограничивают зло. Без них оно растеклось бы по всему миру. Причина оболочки страх»39.
А вот еще один пример: на окраине Исфагана до сих пор действует мост (Пул-и Х(в)аджу, середина XVII в.), одновременно служивший и своеобразным торговым центром. С обоих концов мост фланкируют скульптурные фигуры устрашающих львов (ил. 42). Теперь мы можем с твердостью сказать, что фигуры львов на исфаганском мосту призваны охранять покой людей и торгующих. Львы-обереги, подобные львиной персонификации имама Али, появляются и на портале «Шердор» (Львиные врата) в Самарканде (ил. 43). Изображение Льва-Али, сказавшего: «Я – врата знания», олицетворяет две функции – вход в медресе-источник знаний и охрану, погруженных в знания верующих. И в этом случае представление львов-оберегов на портале самаркандского медресе очевидно. Еще ранее изображения льва и солнца были размещены на тимпанах айвана дворца Тимура в Шахрисабзе (близ Самарканда) – аналогия и генетическая связь с предыдущим примером очевидна. В 1456/7 гг. в тимпанах мечети в Анау (близ Ашхабада) изображаются спаренные драконы, из пасти которых изливаются растительные побеги. И, наконец, в бухарском медресе начала XVII в. Надир-Диван-беги, что на Лаби-хауз, изображаются спаренные симурги, волшебные и грозные птицы, не однажды спасавшие героев иранского эпоса.
Традиция обязательного присутствия монстров в виде драконов продолжается и в миниатюре: во фронтисписном изображении к рукописи Китаб ал-Дирйак из Северной Месопотамии (Парижская национальная библиотека) за тронной фигурой, окруженной ангелами, изображены два дракона. Они призваны не напугать, напротив, охранить персонажа на троне40.
Традиция вынесения оберегов на стены мечетей, медресе, дворцов, как мы видим, не ограничивается границами Средней Азии, Ирана, Армении, аналогичные примеры можно увидеть и в османской Турции41. Однако еще в сельджукидский период по бокам от портала медресе «Два минарета» (1253 г.) в Эрзеруме запечатлены рельефные изображения пальметт, которые при внимательном рассмотрении оказываются хтоническими образами42. Даже изображенный там двуглавый орел при изменении оптического режима превращается в антропоморфизириванное чудище; ситуация повторяется и с растительным орнаментом колонн портала, который опять-таки обращается в антропоморфное изображение бородатого монстра (ил. 44). Двуглавый орел является оболочкой чудовища, что теоретически можно сформулировать следующим образом: в средневековой изобразительной традиции за внешне безобидным, но значимым объектом действия, может скрываться его смысловая противоположность. Так мы вновь возвращаемся к изображениям гор в персидской миниатюре; они – лишь оболочка, за которой прячутся обереги.
Смысл же эрзерумских изображений остается тем же: это антропоморфные и хтонические обереги, вынесенные на фасад здания медресе. Они призваны не пугать учащихся медресе, но ограждать их от превратностей судьбы. В этой же связи необходимо упомянуть аналогичное убранство многих турецких крепостных построек (хан43) общественного назначения с вынесенными на порталы изображениями змей и прочих чудовищ (Чардак-хан, Каратай-хан, Сусуз-хан, Инчир-хан и многие другие). На портале последнего из упомянутых ханов размещена фигура льва с солнечным диском, выполненная в высоком рельефе.
Не менее примечательны кирпичи западных замков: на каждом из 500 или 1000 которых наносились следы волчьих лап – оберегов владетелей замка (например в Кёнигсберге). Подобная практика была известна и в Древней Руси – возле храма Покрова на Нерли найдены скульптуры львиных образов, которые могли нести те же охранительные функции, что и подобные изображения на стенах Дмитровского собора во Владимире. Не столь важна сейчас одна из последних интерпретаций А. Лидова эсхатологического назначения Владимирских рельефов44. Ведь поливалентность средневековых образов хорошо известна.
В каком из видов искусства впервые появляются хтонические изображения? Безусловно, это зодчество, на стенах городов, на дверных ручках домов и, как мы видели, довольно рано на стенах зданий медресе появляются химеры и монстры. Мы можем сказать и еще определеннее: зодчество и градостроительство в древности и Средневековье не могут существовать без оберегов в форме животных и монстров. Животное начало, о котором писали Делёз и Гваттарри, продолжает будить воображение зодчих, скульпторов и художников вновь и вновь.
Во всех видах искусства существует некое внеязыковое начало, которое оформляется исключительно пластически и зачастую за пределами сферы имянаречения. Функция подобных изображений состояла в ограждении изобразительного или архитектурного пространства от вторжения злых сил, это были обереги. Коль скоро выше мы заговорили об иранских львах-оберегах, приведем один исторический пример. Мы расскажем о династийных символах иранских Бундов, которые правили Центральным и Южным Ираном в X–XI вв. Это была династия, которая пошла по стопам бухарской династии Саманидов – память о древнеиранском наследии, иранский национализм (shu’ubiya) объединяли их. Именно Бунды вошли в Багдад, и с тех пор Ирак входил в состав их владений. Так иранцы вновь после захвата Багдада отрядами хорасанцев во главе с Абу Муслимом, возвестивших о рождении новой династии, напомнили арабскому халифу о своем политическом существовании.
Бунды вели свою родословную от патрономического образа льва, имя shir (лев) являлось необходимым именным компонентом многих Бундов и их предков. Один из прославленных шахиншахов Бундов по имени Адуд ал-Даула назвал своего внука патронимическим именем Ширдил (Львиное Сердце). На груди Адуд ал-Даула висела пектораль с изображением лодки, на которой восседал лев45. Пектораль, как ни странно, украли агенты фатимидского халифа. Буссе считает, что это похищение имело своей целью унижение монаршего достоинства Адуд ал-Даула. Безусловно, пектораль была похищена в качестве оберега не просто ее владетеля, но и всей враждебной династии.
Мы возвращаемся к началу раздела.
Страшные химеры, появившиеся во множестве на тимуридских и далее на сефевидских миниатюрах, выполняли эти же функции. Герои изобразительного повествования остро нуждались в оболочках-оберегах в виде тетраморфных фигур, а люди, взирающие на миниатюры с любопытством и удовлетворением, видели своих защищенных героев. Быть может, функции изображений-оберегов воздействовали и на соответствующее психологическое состояние тех, кому доводилось раскрывать иллюстрированные таким образом книги. Мы возвращаемся к упомянутым выше драматическим изменениям образа человека в миниатюре.
Уточнения: О визуальной наррации
Мы переходим к выводам, смысл которых вполне может быть распространен на всю нашу книгу. Итак, со времен Саманидов в изобразительном искусстве Хорасана и Ирана существовало два изобразительных дискурса: первый целиком и полностью исходил из повествовательности эпического сказа, просто текста любого уровня, как, например, смешения прозы и поэзии у Саади; второй же носил в достаточной степени отвлеченный, абстрагированный характер перцептивного воображения, как отдельных фигур, так и постепенно складывающихся многофигурных композиций. Олег Грабар в книге об основах изобразительного искусства и миниатюры Ирана совершенно справедливо начинает мусульманский период с хорасанской (Самарканд и Нишапур) керамики46. Весьма впечатляющим примером сказанному может послужить повествовательный ряд сцен, взятых из дастана «Шах-наме» «Бижан и Манижа» и закрепленных на небольшом бокале из Кашана (галерея Фрира в Вашингтоне, XII в.) и множества других повествовательных или абстрагированных сцен на керамических изделиях из Кашана и Рея. Такие изображения на одноцветной и полихромной люстровой керамике Ирана справедливо названы «миниатюрным стилем»47.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































