Текст книги "Хорасан. Территория искусства"
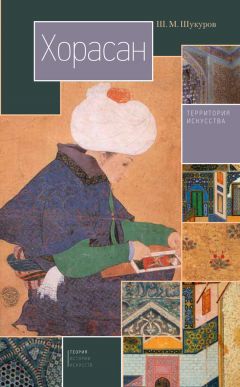
Автор книги: Шариф Шукуров
Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Для повествовательного искусства Большого Хорасана, начиная с эпических текстов «Шах-наме» Фирдоуси и соответствующих иллюстраций к нему недостаточно простой констатации фактов. Существенно понять, к какому типу повествовательной структуры относится не только тот или иной текст, но и иллюстрация. Иллюстрация определенным образом входит в существующий нарратив, передающий в изобразительной форме исходное повествование текста. Если в саманидское время изобразительный нарратив имел преимущественно абстрагированный характер, то в сельджукидскую эпоху мы встречаемся с фактами смены «вкусов эпохи». Это касается изменения структуры изобразительного нарратива и перехода к повествованию: изображения к «Варка и Гульшах»48, а тем более иллюстрированные рукописи и отдельные изображения к «Шах-наме» последней трети XIV в. из Табриза и Шираза могут служить примером тому. В то же самое время параллельно эпико-изобразительной наррации возникают устойчивые образцы исторического повествования.
На одном из блюд развертывается многофигурная осада крепости с надписанными именами героев сражения – весьма известное, но оставшееся вне поля зрения историков изображение49. Изобразительный нарратив выстраивается из 4–5 параллельных рядов много-фигурной сцены. Можно полагать, что в данном случае задействован эпико-хроникальный режим изобразительной наррации. Художник смело брал на себя дополнительные функции хроникера происходящих событий.
Мы должны увидеть, как, каким образом продолжают выстраиваться взаимоотношения между буквой и изображением.
Уточнения:
Антропограммы в искусстве Саманидов
Следует помнить, что различие не имеет инструментального характера, это различие сущностное, теологи, художники и архитекторы прибегали к нему для выведения нового строя вещи, ее нового измерения. Когда мы делаем различие между человеком и его портретом, то с тем, чтобы в портрете увидеть черты, никак не предусмотренные ранее. Художник проводит различие не во имя различия самого по себе, а во имя внутреннего движения, ради вскрытия новых горизонтов той же вещи.
Именно так встретились буква и изображения людей и животных в изображениях на металле в начале XII в., о чем мы коротко рассказали в главе I. Это произошло в Хорасане в то время, когда восточные иранцы не переставали выдвигать новые идеи, которые затем перетекали в районы буидского, а затем и сельджукидского Ирана. Мы вновь обращаемся к котелку 1163 г., который купил в Герате граф Бобринский (так называемый Гератский котелок) (см. ил. 9 к главе I). Напомним, что внешняя поверхность котелка разделена по вертикали на несколько рядов, заполненных надписями, над верхней частью которых надстроены изображения людей и животных. На сегодняшний момент известен целый ряд подобных композиций на металлических изделиях из разных музеев мира.
Сельджукидские изображения на металле явились развитием более ранних примеров перехода букв и слов в изображения животных и птиц в саманидское время. Визуальная антропология Восточного Ирана, начиная с изображений на керамике Саманидов, складывалась в теснейшем взаимодействии слова и изображения. Однако мы немедля делаем одно корректирующее замечание: никак нельзя говорить об эмансипации изображения в результате слияния букв (или слов) и фигурного изображения. Поскольку фигурное изображение и буква (или слово) являются структурным дополнением друг друга, то должно судить о слиянии графемы и фигурного изображения в одно неразделимое целое.
Антропограммы – так можно назвать отдельные фигуры и записи, составленные из букв и изображений людей. Много позднее в искусстве Ирана и империи Моголов Индии продолжали множиться подобные антропограммы, однако в Хорасане Х-XII вв. они знаменовали собой самое начало процесса отделения изображения от буквы. В саманидское и сельджукидское время антропограммы существовали наряду с изображениями, занимающими все поле керамического блюда. Можно подозревать, что именно на антропограммы ложилась задача выработки будущего взаимоотношения текста и изображений. Во второй половине этой главы мы расскажем о творчестве Камал ал-Дина Бехзада, именно он завершил процесс отделения изображения от текста в миниатюрах.
Антропограммы или, что встречается также часто, зоограммы и орнитограммы не имеют какого-либо значения, что легко объяснимо – отдельно буква или фигурное изображение обладают определенной семантической нагрузкой. В тот момент, когда буква и фигурное изображение сливаются воедино, в первую очередь исчезает возможность наделения этой вещи каким-либо значением. Зато возникает сила, которая наделяет изображение «гравитационным полем», вполне сравнимым сриглевским всепроникающим Kunstwollen50. В свою очередь и в том же издании X. Зедльмайр, опираясь на высказывания Ригля о существе Kunstwollen, говорит о переходе от истории к метаистории искусства и о том, что Kunstwollen – это внутреннее «побуждение к искусству», это сила51. Далее Зедльмайр обрушивается с беспощадной критикой на Панофского, который «посмел» наделить Kunstwollen значением. Напротив, говорит Зедльмайр, еще в 1924 г. в одной из работ Kunstwollen был охарактеризован как сила, а также как то, что неизменно сохраняет свое присутствие в имманентном плане вещи52.
Самость искусства и архитектуры, да и культуры в целом, можно вполне сравнить с Kunstwollen, подразумевая под этим вовсе не стиль, а идею стиля, силу явления. Саманидское и постсаманидское искусство органично подпадает под концептуальный и стилевой охват, а также метаисторическую силу Kunstwollen.
Иранский творческий дух был активен не только в мятежном дискурсе видения вещи, но и в эстетической рефлексии на манифестируемые позиции культуры – философию, поэзию, архитектуру, каллиграфию и миниатюру. Султан Али Машхади (1432–1520), известнейший каллиграф своего времени, мастер каллиграфического почерка насталик написал трактат об искусстве каллиграфии53. Сила письма настолько сильна, что сам Султан Али вспоминал: «Еще не зная букв, он в воображении своем писал»54.
Суммируя все необходимое, что следует знать о правилах письма и его истоках, каллиграф, историк и теоретик каллиграфии Кази Ахмад написал трактат, в котором рассказывается о существовании двух каламов: калама каллиграфов и калама Логосферы, калама живописцев и калама Иконосферы55. Заметим, что вновь речь заходит о каламах, один из которых одновременно, как мы можем судить, является и метафорой расчески у Хафиза (см. главу I). Это – обычное писчее перо, которым до эпохи Сефевидов пользовались все. Кисть же художников долгое время не удостаивалась понятийного и терминологического признаним.
Кази Ахмад повествует о различном происхождении двух каламов. Если происхождение первого калама обязано тростнику, то второй калам, калам художников и орнаменталистов изобрел последний «праведный» халиф Али. Второй калам берет на себя функции первого калама, следовательно, Иконосфере назначено не вытеснить, а, скорее, заместить Логосферу, оставив последнюю на периферии. Письмо, действительно, устремляется к овеществленности и выявлению своего чистого смысла. Того горизонта смысла, за которым не существует никакого значения. Понять опыты сефевидских и современных иранских каллиграфов, выписывающих, на первый взгляд, хаотические начертания каллиграмм, невозможно и никогда не удастся. Это – опыт, предпринятый во имя опыта, опыт как таковой. Поскольку прочитать подобные начертания нельзя, то есть невозможно ввести их в область Логосферы, то на смену ей приходит чувство красоты, чувство пластики самой страницы, убранной неудобочитаемым почерком. Это та пролегающая красота, о которой и говорил Плотин.
Уточнения:
Принцип расподобления и «мятежный дискурс» в иранской культуре
Мы переходим к обсуждению новой для книги логики рассуждений. Суть их заключается в том, что мера неоднозначности вещи имеет свою семантическую стратегию. В случае с неоднозначной антропоморфной пластикой в мечетях мы не в состоянии вербализовать вещи, хотя не можем не признать, что эти вещи являются образами, отвлеченными от вещи56. Но образом чего? Наше предложение сводится к следующему: подобные образы, действительно, не имеют досягаемого, ближайшего и, возможно, временного значения, но они, тем не менее, обладают отложенным и отдаленным смыслом. После слов о риглевском Kunstwollen много легче пояснить, что отдаленный смысл и есть та сила, которой обладает искусство и вся культура, стоящая за ним, подобно мощной, но всегда проницаемой стене. Отложенный смысл не может быть метафорой, поскольку произвольно взятая метафора является очередным значением вещи. Но мы говорим о силе смысла, и этот смысл должен восприниматься не в семиотическом понимании, а, скорее, в феноменологическом. Отложенный смысл – это отдаленный смысл, практически недосягаемый для большей части современников данной культуры, смысл истинного бытия вещи, которая по разным причинам не может или не вправе даже условно означить себя, намекнуть на свое участие в знаковой сфере культуры. Подобные вещи только задают параметры истинного и объемного смысла. Строго говоря, отложенный смысл (т. е. Другой) отсылает в свою очередь к Другому Другого, стоящему далеко за вещью и, быть может, за ближайшими горизонтами культуры. Не надо думать, что отсылка к Другому Другого ведется прямо, напротив, она извилиста и многоступенчата, подобно спиралевидной форме.
Мы часто употребляем слово «значение». Даже в том случае, когда мы путаем значение вещи и имя вещи, поверхностное значение вещи может оказаться обманчивым57. В нашем понимании стратегия отложенного смысла нивелирует однозначность значения, как сугубо субъективной позиции человека, который всегда видит нечто, он непременно устремлен к чему-то конкретному, раз и навсегда установленному. Иранцы в средневековый период их истории в полной мере обладали «видением как», они стремились уйти от окончательного, символического и любого другого значения вещи. Их интересовала сила отложенного смысла трансмутирующей в бесконечность вещи. Известное укоренение мусульманской культуры иранцев в давно ушедшем прошлом на самом деле является одним из горизонтов «видения как», одним из ракурсов отложенного смысла. Феноменологический смысл, а не конкретное значение прошлого, интересовал иранцев.
Поэтому вслед за Дж. Гибсоном (Экология восприятия) слову «значение» мы придаем статус допустимости, возможности. В этой главе мы уже видели результат подобного подхода в соображениях о мнимости иранской «китайщины». Траектория «значения» движется по касательной, лишь отчасти задевая объект означения. Ясно, что по этой причине, к примеру, мы отказываемся от идеи Лотмана об «эстетике тождества». Такая эстетика в «видении как» Средневековья состояться не может, ибо она сугубо прагматична и оперирует предустановленными правилами отношения к вещи.
В этом случае мы имеем дело с особенным статусом Другого, который перестает быть приманкой, соблазном пред взором наблюдателя. Другой гештальтирует пространство видения, неразделимого пространства зрителя, изображения и того, что составляет неявную смыслоформу бесконечного и мятежного дискурса. Мятежный дискурс не позволяет остановиться, передохнуть на пути выявления смысла, который в конце пути может оказаться самим собой58. То есть обратиться в непреходящую антропологическую доминанту мышления. Такую формулу дискурса обрисовал Фарид ал-Дин Аттар в «Мантик ал-Тайр», когда с невероятными тяготами пути добравшимся до цели тридцати птицам Симург пояснил, что они и есть цель, они и есть «si murgh» (тридцать птиц).
Следует признать правомерным суждение о том, что для средневекового иранца в поэзии, искусстве и архитектуре много важнее оптика и горизонталь (пути), нежели онтология и вертикаль.
Образ подобен тени не потому, что он указывает на солнце, напротив, тень существует из-за сияния солнца. Справедливо, однако, заметить: не может существовать и света без его парадоксального образа, тени59. И еще раз: тень не просто указывает, а удостоверяет зримое присутствие солнца. По этой причине тень не означает ничего дополнительного, ибо истинным смыслом обладает свет, рождающий тень. Образ-тень лишь удостоверяет силу света и силу смысла. Не надо думать, что изложенная теория образа теологична. Так очень легко мнить, когда ты рожден среди вещей почти сплошь обесцененных и обессмысленных, или, напротив, перегруженных некими символическими значениями. На самом деле, Джалал ал-Дином Ру ми в «Маснави» в сопоставлении тени и солнца уточняется стратегия поэтико-философского понимания взаимоотношений между образом и смыслом, и проблематизируется она вопреки тому, к чему привыкли мы, к чему нас долго приучали.
Даже теологическая стратегия суфизма говорит нам нечто похожее на сказанное. Человек не может с точностью обрисовать Первосмысл, покуда он находится «на пути к Богу», но, приблизившись к Цели, он продолжает «путь в Боге». Вновь поиски семиотически означающего не приводят к позитивному результату, человек остается на пути поисков отложенного для него Смысла. И, наконец, возможна ситуация, когда суфий вынужден принять, что искомая Цель оказывается расподобленной, различающейся в самой себе, но, что самое удивительное, целью оказывается сам взыскующий. Об этом, как мы говорили выше, Фарид ал-Дин Аттар рассказывает в известнейшей поэме «Мантик ал-Тайр»60. Человек обязан обладать видением вовсе не знака вещи, а ее далекого смысла, об этом Саади сказал так:
Har ān nāzir, ki manzūre nadārad,
Charāghi davlatash nūre nadārad.
Всяк тот, кто зрит, но не способен видеть,
Светильник жизни его лишен Света
В связи со сказанным надо понять, что иранская средневековая культура прекрасно осознавала ценность того, что мы называем отложенным смыслом. Его незримому, но ведаемому присутствию обязано появление любой формы, семантические возможности которой ограничены. Образ постоянно находится под угрозой растворения хотя бы потому, что за ним высится смысл, не позволяющий образу и всей образной системе культуры находиться в безмятежном покое. Отсюда и проистекает главный троп культуры – метафора, важнейшей реальностью которой становится пустота, пустота смысла. Метафоре суждено не стать символом, как это полагал Рикер, а раствориться в объятиях смысла – ловушке метафор. Сам же смысл пуст – вот в чем смыкается теория значеним у теологов, поэтов и философов. Это – апофатическая пустота, чистая пустота, парадоксально преисполненная смысла, смысла, бьющего через край; смысла, визуальные и все прочие координаты которого обнаружить невозможно, поскольку он не дается логике сходства и тождества.
Отложенный смысл – это аристотелевское «ради чего» призвана существовать и осуществляться культура в ее целостности, у отложенного смысла нет альтернатив, отложенный смысл сам является альтернативой существования человека. Отложенный смысл есть возвышенное в прямом и переносном (возвышенное) значении этого слова. Он, действительно, настолько возвышен, что добраться до него не представляется возможным. Нам приходится каждый раз отказываться от своих умозаключений, ибо ни одно из них не может в полной мере характеризовать ту отложенность смысла, к которой мы устремлены. Суфии предлагают для определения отложенного для них смысла раствориться в нем, совершить путешествие в Нем, дабы оказаться в той недосягаемой дали, о существовании которой они твердо знают. Только одним из этапных путей к возвышенности отложенного смысла в искусстве мусульман и является неявный антропоморфизм архитектурных образов.
Надо непременно заметить, что отложенный смысл отложен не только для чего-то внутриположенного. Он отложен для всего того, что есть и будет. Отложенный смысл открыт миру, взятому в ракурсе становящихся образов, категорий, понятий. Собственно по этой причине, по причине открытости мира отложенного смысла позиция наблюдателя, равно как читателя или слушателя, – экстатична. Человек встречает этот мир восторженно, ибо пред ним раскрываются невидимые границы самореализации, самоутверждения, становленим его Я.
Итак, отложенный смысл назначен не для понимания, а, как мы уже говорили, для прозревания немногих знающих, для тех, кого явно не устраивает теологическая векторность мышления, но, скорее, удовлетворит нелинейность понимания вещи, а не знака. Он, смысл, актуализирован, а не манифестирован. Ожидание и предвкушение Другого, быть может, и догадка (wahm) о его присутствии, но не точное его узнавание, пожалуй, характеризуют указанную выше иконоцентричную пластику арабской мечети. Действительно, большинству носителей культуры невозможно оценить отложенный смысл в векторе логоцентричного дискурса. Неоднозначная привязанность подобных образов к пластике дискурса Иконосферы может быть манифестирована в режиме нелинейного мышления. Отложенный смысл и есть стратегия мышления, ведущего свой путь к основам сознания, а в нашем случае с различными образами мечети – к имманентности храмового сознания.
Отложенный смысл – это сила, которую следует пробудить, прежде обнаружив топологический состав ее образа и образов. Было бы неверным смешивать отложенный смысл с идеей, которая покоится внутри или вне объекта исследования. Отложенный смысл находится за пространственными и временными границами идеи в той или иной культуре, и он не есть данность теологии или философии, он – их пред-данность, его границы не очерчиваются строгими пределами отдельно взятой культуры. Напротив, культуры обязаны своим формированием этому неуловимому смыслу, который каждый раз и наново обнаруживает свое формальное присутствие. Отложенный смысл и не архетипичен, он утопичен. Например, кому отдать пальму первенства в возникновении подкупольных нервюр – иранцам, мавританцам или французам? О появлении нервюр в иранском зодчестве XII в. мы расскажем в главе III.
Ничего не зная о бытовании двух модусов мышления, двух факторов становления в культуре Ирана, Делёз выдвинул предположение в «Логике смысла» о возможности существования в одной культуре двух языков, один из которых достаточно подчинен законам меры, а другой мятежен (affolé)61, мятежно созерцателен, он одновременно интенсивен и экстенсивен, постоянно охватывая внутренние и внешние измерения вещи. Отсюда у нас возникает суждение о сопоставлении двух типов дискурса в искусстве и архитектуре Большого Ирана. Однако прежде чем перейти к существу дела, должно сказать: мы помним, что собственно язык и есть образ. Поэтому мы не будем говорить о связи естественного языка и искусства с позиций семиотики. Мы будем говорить в нашей книге не о языке искусства, а об искусстве и архитектуре как своеобразной мере образа естественного языка, быть может, даже опережающей и формирующей саму меру языка (см. об этом подробнее выше).
Мерность и мятежность дискурса, по Делёзу, естественно, суть метафоры, способные охарактеризовать касательство человека или субкультуры к вещи, к пониманию границ ее бытования и бытия в мире и, наконец, могущие понять отношение этого человека к будущему, к будущему через посредство образа этой же вещи. Эту же дихотомию можно пояснить следующим образом: мерный дискурс в достаточной степени активен, организовывая вещи в пределах векторного времени теологов; мятежный дискурс – парадоксально реактивен в статике своих нацеленных, а потому динамизированных блужданий внутри вещи. Трансцендентное понимание происхождения вещи дополняется имманентными страстями ее становления. Проект возникает в тот момент, когда мера трансценденции и мера имманентности встречаются, результатом этой встречи и является человек познающий. Человек отныне облечен указующим дискурсом, который, словно нить, выводит его из лабиринта. Не потому ли в искусстве и, особенно, в архитектуре Ирана священные для традиции имена и фразы заключены в геометрическую фигуру лабиринта?
Аналогичный тип мышления соответствует идеям древних греков (и особенно Аристотеля), когда они противопоставляли две риторические категории этоса (ἦθος) и патоса (ωάθος). Этос и патос противостоят друг другу, если этос обозначает спокойствие, рациональность, упорядоченность, то патос – беспокойство, иерархичность ценностей, соответственно – неупорядоченность, иррациональность, аффективность.
В культуре дискурсы меры и мятежности существуют не раздельно, можно говорить о степени преобладания одного над другим. Ницше, рядополагая Аполлоническое и Дионисийское начала греческой культуры, говорил о том же. В нашем случае мерный дискурс соответствует культуре пауз и остановок, культуре классической каллиграфии, письма, следующего законам, законам тождества и уподобления. Такому дискурсу свойственна и трансгрессия, например, захват позиций каллиграфией в архитектуре. В этом смысле в арабской культовой архитектуре принцип тождества и процедура уподобления соблюдались неукоснительно и, напротив, иранцы делали все возможное, чтобы уйти от этого. Введение четырехайванной архитектурной композиции сначала при создании медресе, а затем и иранского варианта планировки мечети, один из ярких примеров тому. Такая плановая схема возникла в христианской Сирии, но для исламского зодчества концептуально она была оформлена именно в восточно-иранских землях (см. об этом в главе III).
Мятежный дискурс возникает в культуре иранцев, культуре, уходящей от уподобления и законов возможного, культуре, настроенной на изменчивость правил, на встречу неожиданного и даже виртуального (т. е. не предусмотренного, действующего вне сферы возможного и подобного) в проработке насущного состояния любой вещи. Мы показали действие этого правила на вышеприведенном примере об интеллектуальных возможностях интерпретатора при видении китаеобразного мотива. Да и трансформация изобразительного образа инжира в архитектурный образ колонного ряда вряд ли может ввести в сферу подобного и даже возможного.
Мятежный дискурс, в отличие от мерного, интенсивен, он работает имплицитными слоями вещи – не только видимыми или ощутимыми, но и подразумеваемыми, неоднозначными. Первому также свойственна трансгрессия и экстенсивность поисков, но поначалу все это происходило исключительно в пределах самой вещи. Собственно дискурс и различные дискурсивные практики служат основаниями для проработки самости бытия вещи, его различных состояний, к чему мы вернемся позднее. Мандельштам сказал об этом другими словами: «Вино старится– в этом его будущее, культура бродит – в этом ее молодость»62. Покуда культура и наполняющие ее образы будут подвластны мятежному брожению, они молоды и способны к творческому преобразованию сущего, но, как только брожение заканчивается, мы можем быть уверены в завершении миссии этой культуры и этих образов. Вино будет выпито без остатка. Другими словами, занимаясь условиями возникновения и укрепления искусства Большого Хорасана, мы не можем не задаваться вопросами о том, как, каким образом оно отзовется в будущем, после XV в., когда все усилия хорасанцев оказались под ударом.
Итак, имеет ли сказанное прямое отношение к искусству и архитектуре Большого Ирана? Да, и непосредственное, если мы вспомним о взаимоотношении искусства Тимуридов Большого Хорасана и сефевидского Ирана. Искусство и архитектура Самарканда и Герата, подобно молодому вину, бродили и соответствовали мятежному дискурсу. В то же время официальное искусство и архитектура Сефевидов являлись экстенсивным развитием инноваций Большого Хорасана. Рефлексия высокого уровня – вот удел искусства Сефевидов, ведь, как мы помним, именно в то время появились первые сочинения о генезисе каллиграфии и искусства.
Уточнения:
Дружба и влюбленность
Греческая философия оставила неизгладимый след и в культуре средневекового Ирана не только в связи с изложенными выше историческими обстоятельствами. Иранский дух был готов к встрече с ней, он был предрасположен мыслить и чувствовать в близких концептах философского умозрения. Мы приведем только один, но весомый пример. Французская философия усилиями Бланшо, Фуко, Делёза и Гваттари выявила один из имманентных персонажей, позволивший грекам перейти от сакральной мудрости к собственно философскому дискурсу. Это – имманентный концепт «друга»:
«Быть может, словом “друг” обозначается некая интимность мастерства, как бы вкус мастера к материалу и потенциальная зависимость от него, как у столяра с деревом, – хороший столяр потенциально зависит от дерева, значит, он друг дерева? Это важный вопрос, поскольку в философии под “другом” понимается уже не внешний персонаж, пример или же эмпирическое обстоятельство, но нечто внутренне присутствующее в мысли, условие самой ее возможности, живая категория, элемент трансцендентального опыта. Благодаря философии греки решительно изменили положение друга, который оказался соотнесен уже не с иным человеком, а с неким Существом, Объектностью, Целостностью»63.
Французские философы считали, что столь насыщенное выявление концепта дружбы, дружественности и друга присуще исключительно грекам. Это легко понять, ведь они обращались к истокам европейской культуры в век индивидуализма и машинерии. Быть может, они поторопились с последним выводом о первенстве греков в выявлении имманентности «друга». Древность иранцев, ознаменованная торжеством мифологемы «друга», о чем мы расскажем позднее, позволило им воспользоваться тайниками своего сознания и в мусульманское время.
В средневековом Иране всю теологическую, философскую и поэтическую мысль пронзает обращение к некоему «другу». «Ei dūst» (О, друг) – это риторическое обращение не просто к читателю или слушателю, это – категория умозрения, обращение к миру, в котором живут друзья, даже если они в частной жизни быть могут и врагами:
«Соте, come, for you will not find another friend like те», – восклицает Джалал ал-Дин Руми64.
Друг – это абстракция умозрения иранцев, которая, однако, каждый раз конкретизировалась, захватывая различные объекты в теологии суфизма, философии, поэзии. Обращение к миру неизменно должно быть дружеским, в этом состоит одна из наиболее существенных парадигм отношения иранцев и к Другому, и Другому Другого, да и к самому себе. Другой и «друг» нежданно предельно сближаются только потому, что все мироздание является иранцам дружественным. «Я» иранца становится другом и Другим самого себя. «О, друг» (Ai dūst) является онтическим утверждением своего Я, где находится достаточно места для обращения и к возлюбленной, и к Всевышнему, и к недругу. Это так, поскольку в том случае, когда обращение направлено к Всевышнему, тем не менее, мятежная дискурсия иранцев не позволяет остановиться только лишь на этом. «О, друг» – это и просто друг, и, в частности, друг по порочной любви, и, конечно, возлюбленная, и, быть может, непримиримый противник. Все дело в риторической направленности обращения, а не в его адресате. Позиция адресанта и адресата скреплена риторическим утверждением неизменности дружественных отношений. Все они – друзья поэтов и философов.
Характер иранского обращения к «другу» независимо от его возможного теософского наполнения имеет тенденцию к дрейфу в сторону более интимных отношений, за другом часто прячется возлюбленная или возлюбленный (ил. 45). «Друг» и «возлюбленный» почти всегда синонимы. Между возвышенным поэтическим образом Возлюбленной, то бишь Богом, и влюбленным исчезает расстояние, Она есть он. Иначе влюбленность теряет смысл. Это – влюбленность в желанных, будь то прекрасная дама или прекраснокудрый виночерпий, Бог или вещь; влюбленность, которая оборачивается дружеским единением с объектом, утратой субъектно-объектных связей, которые в состоянии разорвать дружеские отношения. Их слова сливаются в единый монолог, поскольку говорят они об одном.
«Ai dūst, miyāne mā ‘Ai dūst ‘ namegunjad»
(О, друг, между нами не вмещаются /слова/ «о, друг»,
– говорит Джалал ал-Дин Руми.
Друг в иранской культуре становится поистине истоком истинного понимания интимной близости ко всему, что находится в пределах досягаемости и недосягаемости. Слова «О, друг» обращены к человеку, но и к любой вещи только потому, что все они вырисовывают горизонты поисков и нахождений, счастья обладания и горечи утрат, растворения в вещи и высвобождения с тем, чтобы вновь произнести слова «О, друг». Разве не другом иранца становится калам, чернильница, пенал и прочее, и прочее, с чем он любовно обращается изо дня в день? Риторика такого обращения гасит теологическую заостренность, позволяет отстраниться даже от векторной дружбы-влюбленности суфийских шейхов во имя разрыва дистанции с миром и перехода к объемным и интериорным блужданиям в тайниках памяти и воображения65.
Отсюда особая сокровенность интимного философского и поэтического разговора, не постулирование истин, а их терпеливый поиск с тем, чтобы вместе с другом составить ясное представление о категориально-понятийном составе Бытия. Это – нахождение все новых и новых образов, именование их и соотнесение между собой. И еще раз: сам язык становится в этом случае образом. На этом пути логоцентричная позиция слишком слаба, чтобы удовлетворить желания друзей. Намного важнее сокровенная беседа (guft-u-gū, suhbat), за которой следуют поиски вещей, примирение или столкновение которых способно «обрисовать картину» общежития друзей. Вот как иллюстрирует эту мысль известный суфий Ала’уддавла-е Семнани:
Если бы не было беседы /друзей/, не было бы
и этих поисков.
Коли не было бы поисков, как же она
явила бы свой Лик?66
Нельзя не сказать, как было обещано выше, об иранских истоках понятия дружбы. В древнеиранской мифологии существовало стойкое представление о «друге», выработанное посредством одного из центральных божеств индоиранского пантеона – Митрой, чье имя означает договор, согласие; имя Митра в свою очередь восходит к индоевропейскому корню, имеющему прямое отношение к идее мира, согласия, дружбы. Авеста называет Митру «выпрямителем границ», что актуально и для социальных отношений, и в космическом значении. Ассоциации Митры с солнцем достаточно прочны, ведь солнце друг-спутник человека, а потому Митра и союзник, и безопасная гавань, и причал67. Имя ведийского бога Митры означает также «друг»68. Бенвенист делает существенное уточнение, которое удачно согласуется со всем сказанным выше о «друге» в персидской культуре: «…речь идет не о дружеских чувствах, а о договоре, основывающемся на обмене»69. Друг всегда надеется на ответное чувство друга. В новоперсидском языке трансформированное имя Митры (mehr) закрепилось в значении приветливости, милосердия, нежности, а также солнца. Как мы видим, в языковой практике средневековых иранцев сохранился субстратный пласт значений древнеиранского Митры, однако одновременно и в полной мере выявились субъектно-объектные связи, о которых говорил Бенвенист. Нельзя оставаться приветливым, милосердным и нежным человеком без толики ответного чувства со стороны того, к кому обращены эти чувства. Ритуал перешел в риторику общественного поведения.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































