Текст книги "С ярмарки"
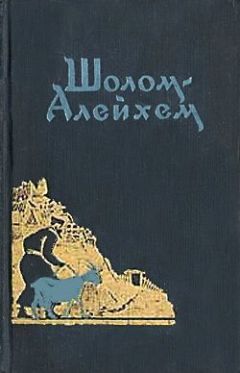
Автор книги: Шолом Алейхем
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
59. Идиллия
Субботние гости. – Поэт Биньоминзон. – Дантов «Ад» и «Иосафетова долина, или холера» Биньоминзона. – Как поэт жарит селедку на угольях. – За субботним столом. – «Старостиха Фейга-Лея» с нетерпением ждет субботы.
Приглашать в субботу гостей было не только богоугодным делом, это вошло в привычку, стало потребностью для каждого почтенного горожанина в те времена. Такой уважаемый человек, как Нохум Рабинович, и представить себе не мог, как можно сесть за субботнюю трапезу без гостя. Подобная суббота была бы омрачена для него.
И каждый раз бог посылал ему другого гостя. На этот раз гостем у него был собственный сын. Тоже неплохо. Но, кроме сына, пришли еще двое. Один из них – знакомый уже нам «Коллектор», а с другим гостем, Биньоминзоном, я вас тут же познакомлю.
Это был певец. Не певчий у кантора, а певец-поэт, писавший на древнееврейском языке. Он сочинил книгу под названием «Иосафетова долина, или холера». Выспренним языком автор изображал, как бог, разгневавшись на погрязшее в пороках человечество, ниспослал на землю холеру, разумеется в образе женщины, безобразной, страшной, настоящей «холеры» с огромным, как у резника, ножом в руках, которым она резала направо и налево. Конечно, Дантов «Ад» написан более ярко и производит на читателя более сильное впечатление, чем «Холера» Биньоминзона. Но не в этом дело. Главное тут язык. То был цветистый, пышный, тягучий, как патока, витиеватый язык, которого «Холера», конечно, не заслужила. Это о произведении. Теперь о самом авторе.
Биньоминзон был тощий, широкий в кости человек, с широким квадратным лоснящимся лицом, с редкой бороденкой, до того редкой, что, когда он ел, можно было проследить за каждым куском, который попадал в горло. При каждом глотке он делал движение головой вверх и вниз, точно голодный гусь. Волосы на голове у него были тоже редкие, но длинные, они свисали завитками и всегда были смазаны до блеска чем-то жирным. Одевался он на немецкий манер и носил высокую твердую шляпу. Одежда его была чрезвычайно поношена, но чиста, опрятна, тщательно вычищена и выглажена. Все он делал сам – сам чистил, сам гладил, сам чинил, сам пуговицы пришивал. Можно поручиться, что он по ночам сам стирал рубашку, которую носил днем; даже галстук на нем был его собственного производства. Говорил он каким-то хвата'ющим за душу голосом, отчаянно жестикулируя, при этом на лице его появлялась жалобная гримаса, а полузакрытые глаза были воздеты горе. Глядя на этого субъекта, герой биографии не раз думал про себя: «Интересно знать, как выглядел Биньоминзон лет тридцать – сорок тому назад, когда был еще мальчишкой».
Как он здесь очутился, никто не знает. Выражаясь языком мачехи, его «привадил» сюда «Коллектор». «Одна напасть тащит за собой другую…» Нечестивцам везет: «Коллектор» в один прекрасный день привел поэта с серым чемоданчиком в руке, как раз в такое время, когда мачехи не было дома. Застав субъекта с чемоданчиком, читающего отцу какую-то книжку, она сразу заявила, что это не человек, а злосчастье, один из тех, которых «надо погуще сеять, чтобы они пореже взошли», и спросила, почему он не предпочел остановиться у Рувима Ясноградского. Однако было уже поздно. Человека из дома не выгонишь, особенно существо, которому ничего не нужно, которое ничего не требует. Спал он на старой клеенчатой кушетке в темном коридоре между двумя комнатами. Когда вносили самовар, он нацеживал кипятку до самого верху в свой собственный большой чайник, насыпал в него из желтой бумажки каких-то листьев «от сердца», вынимал из кармана кусочек сахару и пил себе свой чай.
С едой то же самое: у него был собственный хлеб в сером чемоданчике, черствый-черствый. Чем хлеб черствее, тем лучше – экономней. Каждый день он покупал себе кусок селедки за копейку, заходил на цыпочках в кухню, раз двадцать пять извинялся перед мачехой и просил разрешения положить свой кусочек селедки в печь, куда-нибудь в уголок на горячие уголья, чтобы он немного поджарился. Селедка эта, когда жарилась, отчаянно протестовала; шипя и потрескивая, она испускала такую вонь, что хоть из дому беги. Мачеха клялась, что в следующий раз выбросит поэта вместе с его селедкой, но клятвы своей не выполняла, ибо нужно было совсем не иметь сердца, чтобы так поступить с человеком, который всю неделю живет одной селедкой.
Исключение составляла суббота. В субботу Биньоминзон был гостем за столом наравне со всеми гостями и даже выше их, поскольку он человек деликатный, просвещенный, поэт наконец. А если он, к несчастью, беден, то ведь это не его вина. Если бы это зависело от его желания – он предпочел бы быть богатым. Но раз нет счастья!.. И Биньоминзон глубоко вздыхал. Хозяин отвечал ему тоже вздохом и наливал по стаканчику вина ему, себе и «Коллектору», а они выпивали не только за себя, но и за всех сынов Израиля. От вина все оживлялись, языки развязывались, и собеседники принимались говорить все разом, и не о пустяках, упаси бог, но о вещах значительных – о книгах, о разуме, просвещении, науке…
Самый младший из гостей, автор этих писаний, тоже принимал участие в разговоре, но боялся вымолвить лишнее слово, хотя к нему относились уже почти как к взрослому. Шутка ли, паренек дает уроки, самостоятельно зарабатывает!
С тех пор как Шолом зажил отдельно, самостоятельной жизнью, два других гостя стали относиться к нему как к взрослому, говорили ему «вы». Для «Коллектора» он стал клиентом, покупателем. Записав Шолома на одну восьмую билета брауншвейгской лотереи, он обещал ему тем же голосом и с той же убедительностью, как и отцу, что он, с божьей помощью, выиграет главный выигрыш. Что же касается Биньоминзона – то он стал частым гостем у репетитора и писал за его столиком в то время, когда тот занимался с учениками. А однажды поэт принес сюда свой серый чемоданчик с бумагами и черствым хлебом и, вместо того, чтобы жарить по утрам свой кусок селедки в заезжем доме Рабиновичей и терпеть обиды от мачехи, занялся этим делом у хозяйки своего юного друга, к которому он в конце концов совсем переселился и прочно обосновался. Все вышло весьма просто и естественно. Два человека неплохо относятся друг к другу и могут быть взаимно полезны – почему бы им не держаться вместе? Биньоминзон – хороший гебраист, поэт, а у его юного друга отдельная комната и широкая кровать, поле целое – не кровать, кому же помешает, если на ней будет спать не один, а двое? А то, что Биньоминзон сверх меры многоречив и не перестает расхваливать собственные творения, читает до поздней ночи свои поэмы, да с таким жаром и воодушевлением, что слезы стоят у него на глазах – так это не беда. У Шолома, слава богу, крепкий сон, а Биньоминзона мало трогает, что он спит. Ибо, когда Биньоминзон читает свои стихи, ему все нипочем – хоть весь мир провались в преисподнюю!
Казалось бы, что могло связывать между собой этих людей. Что общего, например, между Нохумом Рабиновичем – почтенным горожанином, полухасидом, полупросветителем – и таким миснагедом,[57]57
Противник хасидов.
[Закрыть] как «Коллектор»? И какое отношение имеют эти двое к голодному экзальтированному поэту Биньоминзону? И как мог проводить время в таком обществе живой паренек с пухлыми щеками и белокурыми вьющимися волосами (после тифа волосы у Шолома стали расти, как трава после дождя)? Что интересного было тут для юноши в возрасте, когда тянет на улицу, в городской сад, погулять с товарищами, с полузнакомыми девушками? И все же надо сказать, что это была редкостная идиллия, непостижимая дружба, близость, не поддающаяся описанию, субботу, день желанной встречи, они с величайшим нетерпением ожидали всю неделю. Если у кого-нибудь из них было чем поделиться или что показать, он приберегал это до субботы. Сколько бы Биньоминзон ни изводил всех своими стихами всю неделю, он все же лучшие из них приберегал к субботе, на послеобеденные часы. Впрочем, это только так говорится на «послеобеденные часы». На самом деле, он читал все, что у него накопилось за неделю, и до обеда, и во время обеда, и после обеда.
«Коллектор» был гораздо практичнее его. Когда приходили из синагоги и отец произносил что полагается, совершал благословение и мыл руки, «Коллектор», заглядывая в тарелку сквозь свои темные очки, говорил:
– А теперь наш поэт нам что-нибудь прочитает…
И поэт, хоть и изголодался за неделю, о чем свидетельствовали характерные для него глотательные движения, не заставлял себя долго просить. А «Коллектор» тем временем уплетал за обе щеки, макал халу в наперченный рыбный соус, запивал рюмкой крепкой водки и, потирая руки, произносил с воодушевлением:
– Превосходно! Замечательно!
Трудно было лишь определить, к чему относятся его слова – к стихам ли Биньоминзона, к рыбному соусу, к рюмке водки или ко всему вместе взятому. Во всяком случае, настроение у всех было настолько приподнятое, что даже такая прозаическая душа, как мачеха, по субботам казалась на волосок возвышенней; в своем праздничном бердичевском чепце она приветливо глядела на субботних гостей и предлагала им сначала поесть, а разговоры оставить на потом. Чтобы завершить картину, дорисовать субботнюю идиллию, нужно сказать несколько слов еще об одном существе, которое с нетерпением ожидало субботних гостей. Это была «старостиха Фейга-Лея». Автор этих воспоминаний уже однажды вывел ее под тем же именем. в другом месте (в книге «Мальчик Мотл»). Речь идет о кошке. Она была толстая, и ребята по сходству прозвали ее «старостиха Фейга-Лея». Дети питали слабость к котятам, а Фейга-Лея приносила ежегодно целое поколение хорошеньких серых котят. Когда котята подрастали, их раздавали направо и налево, а Фейга-Лея, как старожил, оставалась в доме оседлой, обосновавшейся навсегда кошкой, знающей себе цену, не дающей наступить себе на хвост. Правда, особым почетом у мачехи она не пользовалась. Ей попадало и ногой в бок и щеткой по голове. Чем она в конце концов лучше детей мачехи? Сами дети обходились с Фейгой-Леей тоже не слишком ласково и нежно, они ее мучили, отбирали у нее новорожденных котят и терзали их немилосердно. Это и понятно (всему можно найти объяснение) – почему дети должны обходиться с кошкой лучше, чем обходится с ними их собственная мать? Конечно, когда Шолом жил дома, он следил за тем, чтобы Фейгу-Лею зря не обижали. Теперь, когда он стал здесь гостем и приходил домой только по субботам, Фейга-Лея встречала его как родного, вскакивала при его приходе, выгибала спину, терлась головой об его ногу, широко зевая и облизываясь.
– Как живешь, Фейга-Лея? – спрашивал Шолом и, наклонившись, поглаживал ее по голове.
– Мяу! – отвечала Фейга-Лея тоном, который должен был означать: «Неважно! Дал бог свидеться – и то ладно!» – и продолжала тереться об его ноги, мурлыкала, поглядывая виноватыми глазами и ожидая, чтобы ей чего-нибудь дали.
– Бессловесная тварь! – говорил «Коллектор» со вздохом.
Тогда Биньоминзон проглатывал свой кусок, оглядывал присутствующих и говорил, что у него есть по этому поводу стихотворение под названием: «И милосерден он ко всем созданиям своим». Не дожидаясь, чтоб его попросили, он закатывал глаза и начинал читать стихи.
60. Разлитые надежды
Экзамены на носу. – Герой и его приятель Эля строят воздушные замки. – Гимн победителю «третьего». – Шолом пишет директору Гурлянду письмо изысканным слогом. – «Клуб» в табачной лавке. – Гурлянд ответил, и воздушные замки рухнули.
Время шло. Дети подрастали. Наступило лето, последнее лето перед окончанием училища. Экзамены были на носу. Еще неделя, другая – и Шолом избавится от «уездного», которое ему порядком надоело. Он никогда не чувствовал особой симпатии к «классам». Источником мудрости и знаний они ему никогда не служили. Небольшие познания, приобретенные им в это время, вкусил он скорее от древа, носившего в те времена наименование «просветительство». Книги русские и древнееврейские, газеты и журналы – вот те плоды, которыми он питался в изобилии. Во многом ему помог так называемый «клуб» – тогдашняя переяславская интеллигенция во главе с «Коллектором», Биньоминзоном и «удачными зятьями». Идеалом же его был Арнольд из Подворок со своей огромной библиотекой.
Единственное, что связывало Шолома с училищем, был его друг Эля, которого он искренне любил за живой нрав, уменье совершенно артистически имитировать и изображать учителей. Вместе они проказничали, вместе читали книги, жили, как говорят, в свое удовольствие вдали от остальных школьных товарищей. В то время как те готовились к экзаменам, дрожали, боялись провалиться, Шолом Рабинович и Эля плевали на все и об экзаменах даже не думали.
Лето, на земле сущий рай. Лучшее время для купанья, для катанья на лодке далеко-далеко, вдоль высокого зеленого камыша у противоположного берега. Там, за рекой, поляна, усыпанная белыми и красными маргаритками, а дальше за поляной лесок, вернее настоящий лес. Пуститься во весь опор через поляну, добежать, не переводя дыхания, до самого леса – дело нешуточное. Кто из них раньше добежит? А добежав, оба, задыхаясь, бросаются в зеленую пахучую траву и лежат на животе, ковыряют сырую песчаную землю, где копошится мушка, разгуливает жучок, ползет муравей, таща за собой соломину, кусочек коры или сосновую иглу. Кругом тишина необычайная; благодатная, усыпляющая тишина. Изредка она нарушается щебетом ласточек, которые проносятся низко над головой, – это к дождю; а то из-за далеких камышей доносится сиротливое кваканье одинокой лягушки – «ква!» – и умолкло, это тоже к дождю, хоть небо чисто и ясно, ни пятнышка на горизонте. Ощущаешь какую-то близость с этим вот лесом, полем, с маргаритками, влажной землей, с ароматными травами, с мушкой, жучком, ползущим муравьем, с летающими ласточками, с квакающими лягушками, со всей окружающей природой; в отдельности все это – лишь частичка вселенной, а вместе, и люди в том числе, это один мир, одна семья, одно целое. И все движется, хлопочет, шуршит, шумит – настоящая ярмарка, и мир этот называется «жизнью».
Оба товарища чувствовали себя прекрасно в этом мире. Оба были довольны своей жизнью, не жаловались на прошлое, рады были настоящему и ждали еще лучшего от того, что впереди. Они вели тихую, мирную и бесконечную беседу, разговор без начала и конца. Большей частью беседа вертелась вокруг их будущего. Они составляли планы, строили воздушные замки и рисовали себе ту многообразную и красочную жизнь, которая обычно представляется воображению каждого молодого человека и которая никогда не бывает таковой в действительности…
Засиживаться здесь, однако, нельзя. Время не ждет. Экзамены все же не пустяковое дело. Хотя они в классе идут первыми, но мало ли что бывает – проваливаются и первые. Один только человек ни в чем не сомневался – это был «Коллектор».
– Какие там экзамены! Что им экзамены! Чепуха! – говорил «Коллектор», который дела Шолома принимал к сердцу ближе, чем родной отец. Поэтому никто не обрадовался так, как «Коллектор», приятной вести о том, что Шолом и его товарищ Эля от экзаменов совсем освобождены.
– Слава богу! Мы свободны, свободны от экзаменов!
Давайте пировать! – воскликнул «Коллектор».
С большой радости он в тот же день к вечеру притащил «сорванцу» на квартиру селедку и две французские булки, а в кармане бутылку водки, и они втроем с поэтом Биньоминзоном отпировали на славу. На Биньоминзона, как он сам выразился, нашло вдохновение, и он тут же на месте сочинил гимн: «Победителю третьего воспоем славу!»
Под «третьим» подразумевался третий, и последний, класс училища. Тут возник новый вопрос: как быть дальше, какую выбрать дорогу? На сцене опять появились все наши старые знакомые: оба «удачных зятя», Арнольд из Подворок и все прочие добрые друзья и приятели, каждый со своим советом: гимназия, школа казенных раввинов, университет, карьера врача, адвоката, инженера. Отец был сбит с толку: столько путей, профессий, специальностей – голова кругом идет!
Из всех проектов остановились на одном: на Житомирском учительском институте, куда на казенный счет обещали принять двух отличных учеников – Шолома и Элю. Были уже отправлены бумаги в Житомир, директору института Гурлянду. Для большей верности Шолом приложил к своим бумагам письмо лично от себя, написанное великолепным, изысканным слогом на древнееврейском языке, для того чтобы показать директору Гурлянду, что он имеет дело не с каким-нибудь мальчишкой. «Коллектор» был вне себя от радости.
– Благословен бог-избавитель! – сказал он и протер мокрой полой свои темные очки (без очков лицо «Коллектора» выглядело опухшим, а веки были похожи на подушечки), – сорванец уже пристроен. Это дело верное, иметь бы мне такой же верный заработок. Кем бы он ни стал, учителем или казенным раввином – человеком он уже будет. Это точно! И от призыва мы тоже гарантированы. Учителей и казенных раввинов в солдаты не берут. Осталось только сосватать хорошую невесту из приличного дома с каким-нибудь полуторатысячным приданым – и все будет в порядке. Велите же, реб Нохум, подать бутылочку «Церковного для евреев»!..
Однако «Коллектор» радовался преждевременно. Случилось вот что.
Ни одно из дел, за которые брался Нохум Рабинович, не давало достаточно средств к жизни. Но вот нашелся разбогатевший кулак Захар Нестерович, который был о Рабиновиче чрезвычайно высокого мнения, и сдал ему помещение под лавку и погреб в своем большом новом каменном доме, помог открыть торговлю табаком, гильзами и папиросами; сюда же перенесли и винный погреб «Разных вин Южного берега». Все это стало приносить немалый доход. Дом Нохума Рабиновича, как вы помните, всегда был чем-то вроде клуба, местом, где собирались молодежь и всякого рода просвещенные люди. Теперь этот «клуб» еще более оживился, его стали еще чаще посещать друзья, знакомые и даже случайные покупатели. Кто располагал свободной минутой и хотел повидать людей, узнать, что делается на белом свете, – заходил в «табачную» выкурить папиросу и потолковать о том о сем
Однажды в «клубе», или в «табачной», собрались сливки переяславской интеллигенции. Тут были все наши знакомые: Иося Фрухштейн, оба «удачных зятя», Арнольд из Подворок, а также, разумеется, «Коллектор» в черных очках, поэт Биньоминзон и их юный друг Шолом. Шел оживленный разговор, поминутно прерываемый общим хохотом. Рассмешил всех один из «удачных зятьев» Лейзер-Иосл. Он требовал от присутствующих пустяка – пусть каждый потрудится объяснить смысл слова «массивность» без помощи рук. Но так как для еврея объяснить такую вещь без помощи рук дело совершенно невозможное, то каждый по-своему показывал руками значение слова «массивность». Вот это-то и вызывало хохот.
Внезапно, в самый разгар веселья, отворилась дверь, и вошел почтальон с заказным пакетом. На конверте было напечатано крупными буквами по-русски: «Канцелярия Житомирского еврейского учительского института».
– Ага, это от него, от Гурлянда!..
Пакет вскрыли и прочитали письмо директора Гурлянда. Письмо было такого содержания: «Ввиду того, что курс обучения в институте четырехлетний, а из бумаг и метрики явствует, что обладатель их родился 18 февраля 1859 года, следовательно он в 1880 году – всего лишь через три года в октябре должен будет явиться на призыв, то есть за год до того, как закончит курс в учительском институте».
Письмо это было подобно разорвавшейся бомбе, грому среди ясного неба. Все заспорили, начали истолковывать смысл письма: как все это понять, почему Гурлянд не сделал ясного вывода? Нет ли средства, какой-нибудь за-ковыки, чтобы выпутаться из создавшегося положения? Напрасны были, однако, все дебаты и споры. Было ясно, что игра проиграна, на поступление в институт шансов никаких. Метрики не переделаешь, а Гурлянд не такой человек, который пойдет на уступки. Пропало!
Герою нашей повести то время представляется как бы переходом из одного существования в другое: предстояло выбрать себе дорогу, выработать план действий, определить, так сказать, программу всей жизни. Между ним и его другом Элей было давно условлено, что они вместе поедут в Житомир, будут жить в одной комнате, вместе учиться, гулять, купаться, кататься на лодке… А когда наступят каникулы, они вместе поедут домой, и тогда-то они поразят товарищей своей житомирской формой, станут держаться в стороне от всех, говорить о Пушкине, Лермонтове, о Байроне и Шекспире, громко – пусть слышат и знают, что они не какие-нибудь сопляки… Товарищи будут прислушиваться к их разговорам, удивляться и завидовать. Девушки, стреляя глазками и краснея, станут, будто застегивая перчатки, вертеться возле них, чтобы завести знакомство – словом, рай земной!
И вдруг мечты лопнули, как мыльный пузырь. Ни Житомира, ни института, ни купанья, ни катанья на лодке, ни каникул, ни девушек, никакого рая – с карьерой покончено! На отца жалко было смотреть! Он пожелтел как воск; новые заботы, новые морщины, и снова вздохи: «Господи, что делать? Как быть?» И поэту Биньоминзону стало не по себе; ему хотелось утешить Шолома хотя бы новой песней, но, увы, не поется!
«Коллектора» что-то вовсе не видно. Он раза два показался, сказал, что у него есть для «сорванца» великолепный план, который на всю жизнь обеспечит его самого, его детей и даже внуков, но, к сожалению, «Коллектору» сейчас некогда. Он ушел, и с тех пор о нем ни слуху ни духу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































