Текст книги "Царь всех болезней. Биография рака"
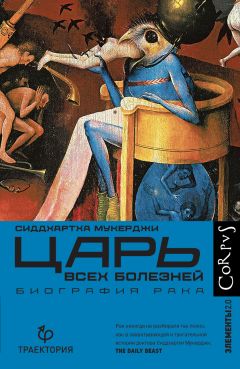
Автор книги: Сиддхартха Мукерджи
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
В этих двух фразах Адамс резюмировал экстраординарные перемены, произошедшие в АОО. Общество превратилось в играющую по-крупному высокопрофессиональную махину, которую энтузиасты “общественной группы” непреклонно вели к цели – направлению внимания и беспрецедентного количества средств на медицинскую кампанию. Ядром этого коллектива, его животворящей силой была Мэри Ласкер. Активисты движения получили в средствах массовой информации прозвище “ласкериты” – и носили его с гордостью.
За пять лет Мэри Ласкер буквально возродила Общество по борьбе с раком. Ее “тяжелая артиллерия” в полную силу решала насущные задачи, и теперь ласкериты могли заняться штурмом долгосрочной цели – Конгресса США. Если бы им удалось получить федеральную поддержку, то масштаб затеянной Войны с раком стал бы астрономическим.
“Должно быть, вы первой из всех поняли, что Войну с раком следует начинать в залах Конгресса, чтобы потом продолжить битву в лабораториях и больницах”, – восхищенно обращаясь к Ласкер, писала Роуз Кушнер, больная раком груди активистка[268]268
Из письма Роуз Кушнер 22 июля 1988 года (бумаги Р. Кушнер, Гарвардский университет).
[Закрыть]. Однако недюжинная проницательность позволила Мэри
Ласкер уловить еще более важную истину: борьбу все же нужно начать в лаборатории и лишь затем перенести в Конгресс. Ей понадобился еще один союзник – представитель мира исследователей, способный выбивать деньги на науку. Помимо рекламщиков и лоббистов Войне против рака требовался надежный поручитель от науки, который узаконивал бы действия пиарщиков. Такой союзник должен был обладать почти интуитивным пониманием ласкеритских политических приоритетов, которые он подкреплял бы своим незыблемым авторитетом в мире науки. В идеале это должен был быть ученый, погруженный в исследования рака, но готовый к выходу из этого погружения на гораздо более широкую национальную арену. Одним человеком – вероятно, единственным, – подходящим на эту роль, был Сидней Фарбер. В сущности, стороны идеально подходили друг другу: Фарберу срочно требовались политические лоббисты, а ласкеритам – ученый стратег. Это напоминало встречу двух путников, у каждого из которых была только половина карты местности.
Сидней Фарбер и Мэри Ласкер встретились в Вашингтоне в конце 1940-х, вскоре после того, как антифолаты прославили Фарбера на всю страну. Зимой 1948 года, всего через несколько месяцев после выхода фарберовской статьи о применении антифолатов, Джон Хеллер, директор Национального института онкологии, сообщил Ласкер о концепции химиотерапии и о развивающем ее бостонском враче. Идея химиотерапии – лечения рака лекарством (“пенициллином от рака”[269]269
Doctor Foresees Cancer Penicillin. New York Times. 1953; October 3.
[Закрыть], как любил говорить онколог Дасти Роудс из Мемориальной больницы) – восхитила Ласкер. В начале 1950-х она регулярно переписывалась с Фарбером, который посвящал ее в ход исследований в бостонской клинике пространными, витиеватыми, детализированными письмами – “научными трактатами”, как он выражался[270]270
“Записи об общении с доктором Фарбером”, 24 февраля 1952 года; письмо Сиднея Фарбера 19 августа 1955 года (архив М. Ласкер, боксы 76 и 170 соответственно).
[Закрыть].
Самому Фарберу развивающиеся отношения с Ласкер казались проясняющими, очищающими – дарили катарсис, как говорил он. В этих отношениях он разгружался, делясь увесистым багажом научных знаний, а главное – своих научных и политических притязаний – притязаний, которые Мэри разделяла и даже приумножала. К середине 1950-х тематика их переписки заметно расширилась: Фарбер и Ласкер обсуждали, можно ли начать тотальную, слаженную атаку на рак. “Организационная структура развивается гораздо быстрее, чем я мог надеяться”, – писал Фарбер[271]271
Из того же письма Фарбера.
[Закрыть], имея в виду свои поездки в Вашингтон, где он пытался преобразовать Национальный институт онкологии в более могучую и направленную силу в Войне против рака.
Ласкер стала “завсегдатаем на Капитолийском холме”, как назвал ее один врач[272]272
Из моего интервью с Робертом Мейером, июль 2008.
[Закрыть]. Ее улыбчивое лицо, пышная прическа, знаменитый серый костюм и нитка жемчуга сделались неотъемлемым атрибутом каждого комитета и каждой рабочей группы по вопросам здравоохранения. Постепенно в “завсегдатая” превратился и Фарбер. В безупречно отглаженном темном костюме и сидящих на кончике носа очках он казался конгрессменам воплощением типичного врача-ученого. Как отмечал один свидетель, Фарбер относился к медицинской науке с “миссионерским рвением”: “вложите ему в руки бубен”, и он не мешкая “приступит к работе”[273]273
Rettig R. A. Cancer Crusade…
[Закрыть].
Звукам миссионерского бубна Фарбера вторил барабанный бой неуемного энтузиазма Ласкер. Она страстно, уверенно говорила и писала о своем деле, обильно подкрепляя ключевые тезисы цитатами и вопросами. Ее многочисленные помощники в Нью-Йорке просматривали все газеты и журналы и вырезали статьи, где хотя бы мельком упоминалось о раке. Мэри каждую неделю читала все эти вырезки, оставляя на полях комментарии мелким аккуратным почерком, и затем распространяла их среди ласкеритов.
“Я столько раз писал вам мысленно, что телепатия скоро станет моим любимым способом общения, – с теплотой писал ей Фарбер, – но такие послания невозможно отправить адресату”[274]274
Из письма Сиднея Фарбера Мэри Ласкер 5 сентября 1958 года (архив М. Ласкер).
[Закрыть]. Простое знакомство переросло в приятельство, приятельство – в дружбу. Между Фарбером и Ласкер завязалось синергетическое партнерство, которому суждено было продлиться не один десяток лет. В 1950-е Фарбер начал называть их противораковую кампанию “крестовым походом” – и это было глубоко символично. Для Сиднея Фарбера и Мэри Ласкер эта кампания действительно стала крестовым походом, научной битвой, исполненной такого фанатичного накала, что уловить ее суть можно было лишь с помощью религиозной метафоры. Казалось, они обрели незыблемое видение, устойчивый образ исцеления, и ничто не могло остановить их в обращении к нему даже сопротивляющейся нации.
“Эти новые друзья химиотерапии”
Смерть человека – как коллапс державы,
Рождавшей армии отважные, пророков и вождей,
Имевшей гавани богатые, суда, по всем морям что плавали,
Теперь же не способной ни в альянс вступить, ни помощь оказать в нужде.
Чеслав Милош. “Упадок”
Недавно я начал замечать, что отнюдь не научные мероприятия вроде коктейлей у Мэри Ласкер или активностей фарберовского Фонда Джимми как-то связаны с формированием научной политики.
В 1951 году, пока Фарбер и Ласкер с “телепатической” интенсивностью обменивались посланиями о ходе кампании против рака, одно судьбоносное событие кардинально изменило характер и степень неотложности их усилий.
У Альберта Ласкера диагностировали рак толстой кишки. Нь10-йоркские хирурги героически пытались удалить опухоль, но лимфатические узлы вокруг кишечника оказались сильно поражены, так что операцией уже нельзя было помочь. В феврале 1952 года Альберт, ошарашенный ситуацией и ожидающий смерти, все еще находился в больнице.
Горькая ирония подобного поворота событий не ускользнула от внимания ласкеритов. В конце 1940-х, стремясь повысить осведомленность населения в отношении онкозаболеваний, они писали во всех своих информационных материалах, что каждый четвертый американец когда-нибудь заболеет раком. Альберт стал тем самым “четвертым”, причем его сразил недуг, с которым он так упорно боролся. “Несправедливо, – сдержанно писал один из его близких чикагских друзей, – что человек, столько сделавший на этом поприще, должен страдать сам”[276]276
Из письма Лоуэла Когешелла Мэри Ласкер и марта 1952 года (архив М. Ласкер, бокс 76).
[Закрыть].
В обширной коллекции личных документов – мемуарах, письмах, заметках и интервью, занимающих 80о ящиков, – Мэри Ласкер оставила ничтожно мало свидетельств своей реакции на ту страшную трагедию. Несмотря на свою одержимость болезнью, она подчеркнуто молчала о телесных аспектах, о вульгарности умирания. Лишь эпизодически на страницы прорывается ее внутренняя жизнь, ее глубочайшее горе: визиты в нь10-йоркскую больницу “Харкнесс-павильон”, где погружался в кому Альберт, или письма онкологам – в том числе и Фарберу – с отчаянными вопросами, не найдется ли еще какого, пусть и экспериментального, лекарства. В последние месяцы перед смертью мужа ее письма приобрели маниакальный, навязчивый характер. Опухоль дала метастазы в печень, и Мэри тактично, но настойчиво искала любые возможные терапевтические средства, пусть даже самые умозрительные, чтобы остановить болезнь. Однако по большей части бумаги того периода пропитаны тишиной – непроницаемой, густой и невероятно безлюдной. Мэри Ласкер предпочла тосковать в одиночестве.
Альберт умер 30 мая 1952 года, в 8 утра. Похороны проходили в кругу самых близких людей в нь10-йоркской резиденции Ласкеров. В некрологе Neu> York Times отмечали: “[Альберт Ласкер] был больше, чем филантропом, ибо отдавал не только имущество, но и все свои силы, способности и жизненный опыт”[277]277
A. D. Lasker Dies; Philanthropist, 72. New York Times. 1952; May 31.
[Закрыть].
Мэри Ласкер постепенно возвращалась к общественной жизни, погружаясь в рутину сбора средств, балов и благих дел. Календарь ее социальных активностей снова переполнился: танцы в пользу медицинских фондов, прощальный прием в честь ухода Гарри Трумэна с президентского поста, сбор средств на борьбу с артритом. Снова собранная и энергичная, Ласкер пылающим метеором ворвалась в разреженную атмосферу Нью-Йорка.
Однако личность, вернувшаяся в нь10-йоркское общество в 1953-м, кардинально отличалась от той, что оставила его год назад. Внутри нее что-то сломалось и затем срослось по-новому. В тени, отброшенной смертью Альберта, онкологическая кампания Ласкер приняла еще более настойчивый и безотлагательный характер. Мэри не искала больше путей проповедовать крестовый поход против рака, она искала пути провести его. “Мы ведем войну с коварным и безжалостным врагом”, – заметил позже ее друг, сенатор Листер Хилл[278]278
Hill L. A Strong Independent Cancer Agency. 1971; October 5 (бумаги M. Ласкер, Колумбийский университет).
[Закрыть], и война такого масштаба требовала полной, беспощадной и стойкой самоотдачи. Науке следовало не вдохновляться соображениями целесообразности, а проникнуться и руководствоваться ими. Ради борьбы с раком ласкериты хотели до основания перестроить Национальный институт онкологии: устранить в нем бюрократические излишества, подстегнуть приток финансов, взять его под контроль и превратить в целеустремленную организацию, которая будет решительно продвигаться к получению лекарства от рака. Государственная борьба с раком, по мнению Мэри, стала бессистемной, размазанной, если не сказать абстрактной. Чтобы возродить ее, требовалось духовное наследие Альберта Ласкера – таргетированная, прицельная стратегия, позаимствованная из мира бизнеса и рекламы.
В жизнь Фарбера тоже вторгся рак. Это вторжение он, должно быть, предвидел уже лет десять. В конце 1940-х у него развилось загадочное хроническое воспалительное заболевание кишечника – должно быть, язвенный колит, изнурительное состояние, предрасполагающее к раку толстой кишки и желчных протоков. В середине 1950-х – точная дата неизвестна – в бостонской больнице Маунт-Оберн Фарберу удалили воспаленный участок толстой кишки. Должно быть, он выбрал эту маленькую частную кембриджскую клинику, чтобы скрыть и диагноз, и саму операцию от коллег и друзей в детской больнице. Вероятно, в ходе операции обнаружили не просто предраковое состояние, которое бывает при язвенном колите: Мэри Ласкер позже упоминала, что Фарбер “перенес рак”, не уточняя характера болезни. Гордый, скрытный и ревностно охраняющий свое личное пространство, Фарбер упорно отказывался публично обсуждать свою проблему, не желая смешивать личное сражение с раком и Великую войну. (Томас Фарбер, его сын, тоже не затрагивал эту тему. “Не стану ни подтверждать, ни опровергать”, – сказал он однажды, хотя и признал, что его отец “последние годы жил в тени болезни”. Я решил уважать эту неопределенность.) Единственным свидетельством операции на толстой кишке стал калоприемник, который Фарбер во время больничных обходов искусно скрывал под белой рубашкой и застегнутым на все пуговицы костюмом.
Личное противоборство Фарбера с раком, пусть и окутанное завесой секретности, тоже фундаментально изменило характер и степень неотложности его кампании. Для него, как и для Ласкер, рак уже не был чем-то абстрактным: Фарбер буквально ощущал, как его тень зловеще порхает над головой. “Для мощного продвижения в лечении рака нет никакой необходимости полностью решать все проблемы фундаментальных исследований. <…> История медицины изобилует примерами средств, которые применяли годами, десятилетиями и даже веками, прежде чем выяснили механизмы их действия”, – писал он.
“Онкобольные, которые должны умереть в этом году, не могут ждать”, – настаивал Фарбер. Он сам и Мэри Ласкер не могли ждать тоже.
Ласкер знала, как велики ставки в этой игре: предложенная ласкеритами стратегия борьбы с раком шла вразрез с доминирующей в 1950-х моделью биомедицинских исследований. Главным творцом той модели был Вэнивар Буш – высокий и тощий инженер, выпускник Массачусетского технологического института, руководивший Управлением научных исследований и разработок (УНИР). Эта организация, созданная в 1941 году, сыграла огромную роль во время войны, направляя лучшие научные умы США на изобретение новых военных технологий. Агентство набирало занятых фундаментальной наукой ученых на проекты, посвященные прежде всего “программным разработкам”. Фундаментальные исследования – безграничные и бесконечные изыскания в области основополагающих вопросов науки – были роскошью мирного времени. Война требовала насущной и прицельной деятельности по созданию новых видов оружия и технологий, помогающих солдатам на поле боя. В боевые действия тогда все больше проникали военные технологии – недаром газеты писали о “войне волшебников”. Для победы в этой войне Америка нуждалась в необычных кадрах – ученых-волшебниках.
Эти волшебники в разных странах творили потрясающую технологическую магию. Физики разработали сонары, радары, радиоуправляемые бомбы и танки-амфибии. Химики создали высокоэффективное смертоносное химическое оружие, в том числе знаменитые боевые газы. Биологи изучали действие на организм больших высот и употребления морской воды. Даже великих магистров сакрального знания, математиков, отправили взламывать секретные коды противника.
Венцом этих таргетированных усилий стала атомная бомба, результат Манхэттенского проекта, проводимого под эгидой УНИР. Утром после бомбежки Хиросимы, 7 августа 1945 года, New York Times разразилась тирадой об ошеломительном успехе проекта:
Теперь университетским профессорам, выступающим против организации, планирования и контроля научных исследований на манер промышленных лабораторий <…>, будет о чем подумать. Важнейшая часть исследований во благо армии проводилась теми же средствами, что приняты в промышленных лабораториях. И вот вам результат: всего за три года мир получил изобретение, на разработку которого примадонны от науки в одиночку потратили бы не меньше полувека. <…> Была поставлена четкая задача, и ее решали с помощью планирования, командной работы и компетентного руководства, а не просто удовлетворяли праздное любопытство[279]279
Science and the Bomb. New York Times. 1945; August 7.
[Закрыть].
Хвалебный тон статьи отражал настроения, витавшие тогда в Америке. Манхэттенский проект перевернул превалировавшую прежде модель научного открытия. Как насмешливо подчеркивала статья, бомбу создали не “примадонны” из числа университетских профессоров в твидовых пиджаках, рассеянно блуждающие в поисках неясных истин и движимых “праздным любопытством”, а этаким исследовательским спецназом, набранным и направленным на выполнение конкретного задания. В этом проекте родилась новая модель научного управления – модель исследований со строго заданными целями, временными рамками и критериями (наука “лобовой атаки”, как назвал ее один ученый). Именно эта модель и обеспечила технологический скачок во время войны.
Однако Вэнивара Буша это не убеждало. В 1945 году опубликовали его знаменитый доклад президенту Трумэну, озаглавленный “Бескрайние рубежи науки”[280]280
Bush V. Science the Endless Frontier: A Report to the President hy Vannevar Bush, Director of the Office of Scientific Research and Development, July 1945. Washington, DC: United States Government Printing Office, 1945.
[Закрыть]. В нем Буш излагал концепцию послевоенных исследований, которая с ног на голову переворачивала его же военную модель:
Фундаментальные исследования проводятся без оглядки на практические цели. Они выливаются в общие знания и понимание природы с ее законами. Эти общие знания дают возможность решать огромное количество важных практических задач, хотя могут и не давать исчерпывающего и конкретного ответа ни на один из практических вопросов. <…> Фундаментальные исследования создают новые знания – научный капитал. Они формируют фонд, из которого впоследствии можно черпать практические применения знаний. <…> Фундаментальные исследования задают темп всему технологическому развитию. В XIX веке инженерный гений американцев, опираясь на фундаментальные открытия европейских ученых, продвинул технику далеко вперед. Теперь ситуация изменилась. Нация, рассчитывающая лишь на чужие фундаментальные знания, будет отставать в индустриальном прогрессе и – вне зависимости от своих практических талантов – ослабит свои конкурентные позиции в мировой торговле.
Целевые исследования (“запрограммированная наука”), наделавшие так много шума в военные годы, по мнению Буша, не могли стать долгоиграющей, стабильной моделью будущей американской науки. В его понимании даже хваленый Манхэттенский проект воплотил в себе как раз таки достоинства фундаментальных исследований. Да, бомба стала плодом “инженерного гения” американцев, но этот гений опирался на научные открытия фундаментальных свойств атома и заключенной в нем энергии – открытия, к которым пришли без директив или распоряжений создать что-то вроде атомной бомбы. Хотя бомба и обрела физическое воплощение в Лос-Аламосе, в интеллектуальном смысле она была плодом достижений европейской довоенной физики и химии. Культовый внутренний продукт американской науки военного времени с философской точки зрения был импортным товаром.
Из всего этого Буш сделал следующий вывод: ориентированную на заданную цель стратегию, столь полезную в военное время, в мирные годы следует использовать точечно. “Лобовые атаки” незаменимы на фронтах, но послевоенная наука не должна делаться по указке. Таким образом, Буш проталкивал обращенную относительно прежней модель научного развития, в которой ученым предоставлялась полная автономия и приветствовались исследования с открытым финалом.
Этот план оказал на политиков глубокое и длительное воздействие. Национальный научный фонд, созданный в 1950 году в поддержку научной самостоятельности, со временем превратился, по выражению одного историка, в истинное “воплощение великого замысла [Буша] по примирению государственных средств с научной независимостью”. Новая культура исследований – “долгосрочные фундаментальные изыскания, а не прицельная разработка лечения и профилактики заболевания” – быстро укоренилась в фонде, а оттуда перекочевала и в Национальные институты здоровья[281]281
Greenberg D. S. Science, Money, and Politics: Political Triumph and Ethical Erosion. Chicago: University of Chicago Press, 2001.
[Закрыть].
Ласкеритам все это сулило глубинный конфликт. По их мнению, для Войны с раком требовалась та самая таргетированность, неразмытая целеустремленность, что так эффективно сработала в Лос-Аламосе. Во время Второй мировой войны медицинские исследования натолкнулись и на новые проблемы, и на новые решения: заметно продвинулись реанимационные технологии, исследования крови и замороженной плазмы, кровообращения и роли надпочечниковых стероидов при стрессе. Как сказал А. Н. Ричардс, председатель Комитета по медицинским исследованиям, “история еще не знала таких согласованных усилий всей медицинской науки”[282]282
Strickland S. Р. Politics, Science, and the Dread Disease: A Short History of the United States Medical Research Policy. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1972.
[Закрыть].
Ощущение общей цели и сотрудничества ободряло ласкеритов, мечтавших о Манхэттенском проекте для онкозаболеваний. Чем дальше, тем больше они утверждались в мысли, что для начала тотальной атаки на рак вовсе не обязательно дожидаться ответов на все фундаментальные вопросы онкологии. В конце концов, Фарбер же сумел провести первые клинические исследования препарата от лейкемии, понятия не имея, как аминоптерин действует даже на нормальные клетки, не говоря уж о раковых. Английский математик и инженер Оливер Хевисайд однажды шутливо изобразил размышления ученого за обеденным столом: “Следует ли мне воздержаться от обеда на основании того, что я не понимаю, как устроена пищеварительная система?”[283]283
Sellers E. E. Early Pragmatists. Science. 1996; 154 (3757): 1604.
[Закрыть] К вопросу Хевисайда Фарбер мог бы добавить свой: стоит ли мне отказаться от борьбы с раком на основании того, что я еще не раскрыл все его клеточные механизмы?
Разочарование Фарбера разделяли и другие ученые. Выдающийся патолог из Филадельфии Стенли Рейманн писал: “Всем, кто трудится в сфере онкологии, следует организовать свою работу в соответствии с конкретными целями – не только потому, что они «интересны», но и потому, что они помогут решить проблему рака”[284]284
Reimann S. The Cancer Problem as It Stands Today. Transactions and Studies of the College of Physicians of Philadelphia. 1945; 13: 21.
[Закрыть]. Бушевский культ свободного исследования, порожденного чистым любопытством (“науки из интереса”), забронзовел и превратился в догму, а для успешной битвы с раком ее нужно было опрокинуть.
Первым и важнейшим шагом в этом направлении стало создание специализированной организации для поиска противораковых препаратов. В 1954 году ласкеритам удалось протолкнуть через сенат поручение Национальному институту онкологии разработать программу более прицельного поиска лекарств для химиотерапии. Благодаря этому в 1955 году Национальный сервисный центр онкологической химиотерапии уже действовал в полную силу. В период между 1954 и 1964 годами это учреждение протестировало 82 700 синтетических веществ, 115 000 продуктов ферментации и 17 200 веществ растительного происхождения. В поисках идеального лекарства ежегодно участвовал чуть ли не миллион мышей[285]285
Zubrod С. G. The Chemotherapy Program of the National Cancer Center Institute: History, Analysis, and Plans. Cancer Chemotherapy Reports. 1966; 50: 349–540; DeVita V. T. The Evolution of Therapeutic Research in Cancer. New England Journal of Medicine. 1978; 298: 907–910.
[Закрыть].
Фарбер был восторжен, но страшно нетерпелив. “Энтузиазм <…> этих новых друзей химиотерапии ободряет и кажется вполне искренним, – писал он Ласкер 19 августа 1955 года. – И все же, по-моему, дело движется ужасно медленно. Надоедает уже наблюдать, как привлекаемые в программу исследователи один за другим радостно открывают Америку”.
Фарбер и сам не бросал попыток найти новые лекарства. В 1940-х почвенный микробиолог Зельман Ваксман систематически обшаривал мир почвенных бактерий и выделял разные по химической структуре антибиотики. (Точно так же, как плесневый гриб Penicillium вырабатывает пенициллин, бактерии производят собственные антибиотики для химической войны с другими микробами.) Один из таких антибиотиков Ваксман выделил из культуры палочковидной бактерии Actinomyces и окрестил дактиномицином[286]286
Waksman S., Woodruff H. B. Bacteriostatic and Bacteriocidal Substances Produced by a Soil Actinomyces. Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. 1940; 45: 609.
[Закрыть]. Как потом выяснилось, огромная молекула дактиномицина, формой напоминающая древнюю статую богини Ники – безголовый торс и два распростертых крыла, – связывала ДНК, мешая “считывать” с нее информацию. Антибиотик эффективно убивал бактериальные клетки – но, к несчастью, и человеческие тоже, что сильно ограничивало его применение в качестве антибактериального агента.
Любой клеточный яд всегда будоражит воображение онколога. Летом 1954 года Фарбер убедил Ваксмана послать ему побольше разнообразных антибиотиков, включая и дактиномицин, для испытания их в качестве противоопухолевых агентов. В опытах с мышами дактиномицин оказался крайне эффективен. Всего несколько доз побеждали у них многие виды рака, в том числе лейкозы, лимфомы и рак молочных желез. “Не рискнул бы пока назвать это «исцелениями», – осторожно писал Фарбер, – но эти результаты сложно классифицировать как-то еще”.
В 1955 году, вдохновленный “исцелениями” животных, он приступил к серии исследований эффективности лекарства у людей. Детям с лейкемией дактиномицин не помогал ровным счетом никак. Не дрогнув, Фарбер испробовал препарат на 275 детях с другими видами рака: лимфомами, мышечными и почечными саркомами, нейробластными опухолями. Испытания превратились в фармацевтический кошмар. Дактиномицин был до того токсичен, что его приходилось сильно разбавлять физраствором. Если из вены вытекало даже ничтожное количество препарата, кожа вокруг этого места отмирала и чернела. Детям с тонкими венами новое лекарство зачастую подавали через катетер, введенный в кровеносный сосуд головы.
Единственной формой рака, поддавшейся дактиномицину в этих первых исследованиях, оказалась опухоль Вильмса, редкая разновидность рака почек, чаще всего диагностируемая у младенцев. Обычно ее лечили удалением пораженной почки с последующим облучением. Однако на опухоли Вильмса не всегда можно было воздействовать местно: порой их обнаруживали уже после метастазирования – как правило, в легкие. В таких случаях обычно применяли облучение и лекарства, однако надежды на стабильную реакцию практически не было.
Фарбер обнаружил, что дактиномицин, введенный внутривенно, заметно замедлял рост тех самых легочных метастазов, нередко обеспечивая ремиссию на целые месяцы[287]287
Farber S., D’Angio G., Evans A., Mitus A. Clinical Studies of Actinomycin D with Special Reference to Wilms’ Tumor in Children. Annals of the New York Academy of Science, 1960; 89: 421–425.
[Закрыть]. Заинтригованный, Фарбер продолжил эксперименты. Если облучение и дактиномицин действуют на метастазы опухоли Вильмса по отдельности, то что будет в случае их сочетания? В 1958 году он пригласил поучаствовать в этом проекте пару молодых радиологов, Одри Эванс и Джулио Д’Анджио, а также онколога Дональда Пинкела. За несколько месяцев команда подтвердила, что облучение и дактиномицин действуют синергически, во много раз усиливая цитотоксический эффект друг друга. У детей с метастазами реакция на такое сочетание методов обычно развивалась быстро. “За три недели легкие, прежде усеянные метастазами опухоли Вильмса, совершенно очистились, – вспоминал Д’Анджио. – Только представьте себе восторг тех дней, когда впервые можно было сказать с небезосновательной уверенностью: «Тут дело поправимо!»”[288]288
D’Angio G. Pediatric Oncology Refracted through the Prism of Wilms' Tumor: A Discourse. Journal of Urology 2000; 164: 2073–2077.
[Закрыть]
Энтузиазм, вызванный этими открытиями, оказался заразителен. Хотя сочетание облучения и химиотерапии не всегда приносило долговременное исцеление, опухоль Вильмса стала первой метастатической солидной (то есть плотной) опухолью, ответившей на химиотерапию. Так Фарбер совершил долгожданный скачок из мира “жидких” раков в мир “твердых”.
В конце 1950-х Фарбер светился оптимизмом. Однако посетители больницы Фонда Джимми видели куда менее однозначную реальность. Двухлетнего Дэвида Голдштейна в 1956 году лечили химиотерапией от опухоли Вильмса. Его матери Соне казалось, что больница постоянно подвешена между двумя полюсами: она одновременно “чудесна и трагична, <…> полна невыразимого горя и неописуемой надежды”. Свои впечатления от прихода в онкоотделение она описывала так:
Я ощутила скрытый, глубинный ток возбуждения, чувства (неослабевающего, несмотря на повторные разочарования), будто мы стоим на краю открытия, – и это почти внушило мне надежду. Просторный вестибюль украшает картонный поезд. Неподалеку стоит светофор, совсем как настоящий, попеременно мигая красным, желтым или зеленым. В паровоз можно залезть и посигналить. В другом конце отделения модель бензоколонки в натуральную величину высвечивает цену и количество проданного топлива. <…> Первое мое впечатление – это бурлящая, какая-то запредельная активность[289]289
Goldstein J. Preface to My Mother's Diary.
[Закрыть].
Это действительно был бурлящий котел – раковый котел, – в котором, смешавшись, кипели болезнь, надежда и отчаяние. В уголке малютка Дженни, лет четырех, увлеченно перебирала цветные мелки. Ее мать, привлекательная, легковозбудимая женщина, не выпускала дочку из виду, впиваясь в нее напряженным взглядом всякий раз, как Дженни замирала, выбирая новый цвет. Никакое занятие здесь не выглядело невинным: любое движение могло означать новый симптом, предвещать что-нибудь недоброе. Дженни, как узнала Голдштейн, “болела лейкемией, а в больницу попала потому, что у нее развилась желтуха. Склеры ее глаз до сих пор были желтыми”, что предвещало скорый отказ печени. Как и многие другие обитатели отделения, девочка не осознавала, что означает ее болезнь. Ее больше всего интересовал алюминиевый чайничек, к которому она была глубоко привязана.
У стены в машинке сидит маленькая девочка, как я вначале подумала, с подбитым глазом. <…> Люси, двух лет от роду, страдает формой рака, распространяющейся в ткани за глазами и вызывающей там кровоизлияния. Она не очень симпатичная малютка, беспрестанно ревет сегодня. Ей вторит и Дебби – похожая на ангелочка четырехлетняя пациентка с бледным, искаженным болью лицом. У нее тот же тип рака, что и у Люси, – нейробластома. Тедди лежит в палате один. Проходит несколько дней, прежде чем я решаюсь зайти к нему: у ослепшего и тощего, словно скелет, мальчика страшно изуродовано лицо. Безобразная опухоль, распространяясь из-за уха, поглотила половину головы, стерев нормальные черты. Его кормят через трубку в ноздре, и он в полном сознании.
Отделение наполняли всяческие мини-приспособления для удобства пациентов – зачастую их придумывал сам Фарбер. Изнуренным пациентам было трудно ходить, и для них соорудили маленькие деревянные машинки со стойками для капельниц – чтобы подарить детям относительную свободу передвижения и проводить химиотерапию в любое время дня. “Одним из самых трогательных зрелищ, которые я когда-либо наблюдала, стали эти маленькие машинки с их маленькими пассажирами: к детской руке или ноге была плотно примотана введенная в вену игла, а над головой высилась стойка капельницы с бюреткой, – вспоминала Голдштейн. – Все вместе напоминало лодку с мачтой, но без паруса, беспомощно и одиноко дрейфующую в штормящем неизведанном море”.
Каждый вечер Фарбер обходил отделение, решительно ведя свой корабль по этому непознанному бурному морю. Он останавливался у каждой кровати, делал пометки и обсуждал с персоналом течение болезни, отдавая короткие отрывистые распоряжения. За ним следовала целая свита: молодые ординаторы, медсестры, социальные работники, психиатры, специалисты по питанию и фармацевты. Рак, как не уставал твердить Фарбер, – это комплексное заболевание, поражающее пациента не только физически, но и психически, социально и эмоционально. В битве против этого недуга шанс на победу дает лишь мультидисциплинарная атака на все вражеские укрепления. Фарбер называл это “тотальной заботой”.
Но несмотря на все старания окружить маленьких пациентов такой заботой, смерть неумолимо выкашивала палаты. Зимой 1956 года, через несколько недель после появления Голдштейнов в больнице, по отделению прокатилась волна смертей. Первой ушла Бетти, страдавшая лейкозом. Второй – Дженни, девочка с алюминиевым чайничком. Следующим – Тедди, съеденный ретинобластомой. Еще через неделю Аксель, боровшийся с лейкозом, истек кровью из лопнувших во рту сосудов.
Смерть обретает форму, обличье и обыденность. Родители появляются из палаты своего ребенка – точно так же, как выходили для короткой передышки уже много дней. Медсестра провожает их в маленький кабинет, туда же входит врач и плотно затворяет за собой дверь. Потом медсестра приносит кофе. Еще чуть позже она вручает родителям коричневый бумажный пакет с детскими вещицами. А когда ты в очередной раз выходишь на променад, видишь еще одну опустевшую кровать. Конец.
Зимой 1956 года, после долгой и жестокой борьбы с недугом, Дэвид Голдштейн скончался в больнице Фонда Джимми от метастазов опухоли Вильмса, проведя последние часы под кислородной маской, в стонах и бреду. Соня Голдштейн покинула больницу, унося с собой коричневый бумажный пакет.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































