Текст книги "Народ на войне"
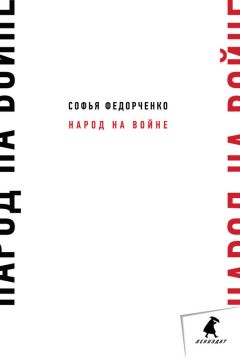
Автор книги: Софья Федорченко
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
III
О войне, о старом и о земле
Эх вы, вьюшки, вьюшки, вьюшки,
Не осталось ни полушки,
До последнего числа
Все война та унесла.
Страшусь я, что дома увижу. Изнищила нас война дочиста, от дела отбила, силы поубавила. За одно войне спасибо: до самого краю довела, дальше-то и некуда было. Вот и пересигнули.
Наш брат, рядовой, всегда хорошо знал, что простому та война, кроме худого, ни к чему. Земли у нас помещичьей донекуда. Так неужто нам еще у иностранцев землю отнимать?..
Бывало, взвесишь рукой винтовочку, а под сердце и засосет думка: эх, кабы да этой штучкой да на свою нужду у помещичка хлебца поотбить.
* * *
Чего мы до сей-то поры терпели? – ты вот что скажи. Кабы повернули мы всей-то отарой да с ружьищами по домам. Никаким бы нас галифам не удержать было.
Смотришь на земляка, бывало: кто его знает, за кого он себя обдумывает – за господску забавку прирожденную али за работника, от века изобиженного. Кабы знатье, давно бы на иное повернули.
Прежде был я дурак,
Помыкал мною всяк,
Как свободу достал,
До чего я умный стал.
Как на войну брали, дед один говорил: «Подгонит, уторопит война новые времена. Всю землю костями укроет, на тех костях новое житье устроит. Лишит нас война деток, хлеба да приведет новое житье с неба».
Ну небо да небо. Конечно, Бог, ан руку-то приложил не Бог, а человек убог.
Как военное отступление у нас в Галиции вышло, все мы знали: быть большой буче. И знали мы, что продали народ министры, да ни как там по-особому, а за деньги продали. И знали мы хорошо, к чему идет наше военное житье. Собирались охотно и учились, и себя готовили.
Горевать-то, бывало, горюют, а руки все при поясе, как бы не разуздились. В свободную минуту способы придумывали, как себе на белом свете место необидное высмотреть.
Не вынес, ударил. Сейчас его под суд. И все его хороши молодые годка в 24 часа призакончили. А обидчик и по сие время провожает жизнь. Так считалось, что солдатское личико вроде как бы бубен: чем звончей бьешь, тем сердцу веселей.
У нас теперь страх в ногах, как что – верстами сигаем. А прежде, как ничего от житья хорошего не ждалось, бывало, пнями под бомбами-то растем. Больно храбры были.
Сперва мала, потом больше – грознее запылала. И порешили: спалит летучая звезда землю. По всему небу хвостище раскинула, вот с версту ей еще – и у нас. А наутро вечер пришел, сникла звезда, испугалась чего, что ли, в свои края повернула, скоро и след простыл.
Война эти все темности словно лаком покрыла. Всё для всех видать стало, никакими орденами не причепуриться. Всякий чирий на свету – на виду.
Стоит человек, к стене припал и плачет. Я к нему подойти опасаюсь, еще уязвишь его словом по горькому местечку.
Горе разве свое покажешь, округ чужие, я один деревенский. Разве поймут? Теперь война побратала.
Так, сказывают, от начала положено. Сперва, как лес, стоит народ – и кучно, и дружно. Землею кормится. А отсосал землю – началось и к другому движение. Тут война, тут революция и всякие времена.
На военном огне в единый нас брусище спаяли да этот брусок себе же на голову.
Указано прежде было, что для человека плохо, а что хорошо и для всех одно. А теперь так вышло, что для одного хорошо, другому худо, вот и мечемся. Прежде попокойнее жилось.
Обжитая дедовская изба была, всего в ней много – и сеней, и клетей, и горница не одна. И до того обжита была – стены, так и те разговаривали. Всюду и дух и шум слышен был.
Возьми ты осочину, при полном месяце зубом ее перекуси, солью ее пересыпь, зашей в тряпицу и носи при себе. Самое против зубов средство.
Ночью встал из гроба, монашка страхом убил, в свой гроб уложил да всю ночь над ним и читал, чтобы не рехнуться со страху. Дома наша смерть куда страшнее, чем на войне.
Бывало, дитя народится. Сперва-то, коли изба полна, будто и рад. А потом только его и видишь, когда бьешь.
Я только до шести годков над собой чужой мошны не чуял. А с семи и по сию пору был я чужой со всеми потрохами своими. Теперь вот посмотрю, каков я без хозяина буду.
Мы столковаться-то времени не имели. Посмотреть кругом – так все свою связь имеет. Только простой народ ровно просо на крыше: кака хошь мала птица повыклюет.
Покажи простому вещь дорогую да за руки его не держи – ей-богу, украдет. Развратился народ темнотой и убогим житьем.
Ну вот теперь, слава богу, чувство имею, что не хуже и других. А то, бывало, на кого ни поглядишь – все тебя чище. Труд несешь, для всех делаешь, а видать-то тебя, бывало, никто не увидит под корой твоей грубой.
От трубы заводской родился, дымом фабричным повился, у шпаны сибирской учился, на ткачихе блудящей женился. Как такому человеком стать? А есть декоктец такой знахарский: работай до поту, раскали кровь сухотой. Коль раскалился, на господ навалился, правов добился – вот тебе и не хуже людей.
Сколько, бывало, страху от бедности. Коли не за себя, так за семейных. Только и свету, бывало, увидишь, что через водки стаканчик.
С водкой сердцу в кулак не вступить. Кабы водку не запретили, не добыть бы нам свободы.
Прежде пьяненькому только и обиды, что портки сымут. А теперь дела великие пропить можно, вот и надо остепениться.
А чего в вине плохого? Я с вина здорово умнел, все понимал, ничего не боялся и правду на улице кричал.
Бывали и прежде хорошие времена. Бывало, начальству за своими делами не до нас, – так и при таком счастии дел мы своих справить не умели.
Привел отец товарища, оставил ночевать. Ночью урядник нагрянул, все в разор разорил, отца с товарищем увел – и по сие время. За книжки теперешние много я мальцом горя принял в безотцовстве своем. А вон что вышло.
* * *
Как запрёг я волов, очень я их с непривычки да от стыда строжил. А как разглядел, какие волы необидчивые, – просто походя бил. Коли им всё едино, а мне что, кнута не жаль. Так вот и с нами.
Застонала судьба крестьянская:
Ты за что меня, лютую, на свет послал,
Ни покою от меня, ни радости,
Ни для взросших людей, ни для малых детей,
Уж такая я, судьба, тяжкая,
Ни по чьим я плечам,
Ни по чьим я сердцам,
Стою я, судьба, плачуся,
Суда дожидаюся,
Да не будет ли людям жалости,
Да не будет ли людям милости,
А не будет мне, судьбе, перемены какой:
Коли есть тягло, есть и тягости,
Коли сердце есть, есть и горести,
Коли разум есть, есть и радости,
Коли сила есть, есть и вольности,
А при вольностях – переменится,
Горе с радостью переместятся.
Ворошите по городам что вздумалось. А крестьянству чтобы тишину. Никакого зерна не вырастить, коли бесперечь коло него землю заступом.
А ты подожди, мужик, сеять-то, покуда мы тебе землю всю не перекопаем. Такую распашем пашенку – что ни колос, то богатырь.
Эх, кабы только поля корежить. Наша пашенька через города всякие пораскинулась, а тут под плугом не кроту – червю гибнуть.
* * *
Землю возьмем по-товарищески, а всех лодырей за границу, пускай водами опиваются.
Все мы, как один, одного хотим: чтобы землю земляной человек взял. А фабричные фабрику получай и до нас не касайся.
Кому землю корежить, кому словом тревожить. Тут только в том главное, к чему делом своим ведет. Иной весь в мозолях, а только и радости от него, что на малых детей не кидается.
Ну-к что ж, и о таком думать приходится. Уж и та польза, что никого такой не сосал за трудами неустанными.
Я бы хотел по-крестьянски все. Отставила бар; что хошь с ними делай, только землю нам верни. А при земле мы и умны, и добры, и всему свету помощники.
Земли да земли. Конечно, земля для нашего брата первое дело, однако земля-то без устройства и на кладбище не годится. А первое дело – войну замирить. Земля же не уйдет.
Загулял мужик на просторе, все свои думки заветные на делах перепробовал: помещика выжег, землю у него отбил, скот угнал, учителя в шею, трактир вывел под облако, самоварище солнцем засветил, водку в глотку – бабы страшатся…
Земля ты, землица, красная девица, сколько годков к тебе подсыпался, вот и дождался.
* * *
Как летела голубка над полями высоко,
Над полями высоко и далеко.
Видно было голубке наше горькое житье,
Наше горько-подневольное житье.
Позадела голубка за небесное окно,
За небесное, лазорево окно,
Пораскрыла голубка на нас солнечно тепло,
На нас солнечно, приветное тепло,
Порассыпала голубка золотое зерно,
Золотое хлебородное зерно,
Непахано поле небывало проросло,
Небывало и несчетно проросло.
IV
Кончай войну
Ты не пой соловьем,
Всё равно домой уйдем,
Не дождем до осени,
Теперь войну бросили.
Одно я тебе слово на все на твои на десять – домой.
Уж так-то томно здесь. Что за житье? Прежде, когда вое вали, знаешь, чего у чужого хребта прибился: враг, мол, велено – соси. А теперь забыли мы, какой такой австриец враг, так чего это нам по чужим странам сохнуть, али уж и работа-то дома не стоит?..
Ищу я, братцы, правдивых слов, до конца. А то не понять чего и пиво варивали. Царя нет, а войне конца-краю не видать. Кабы все до конца сказали бы, так уж кто как, а уж русский бы мужик дня единого войной не подышал.
* * *
Не один мужик на свете. Ты вон французу не присягался, да за тебя пообещалися. А эти пупа не надорвут.
Ты повызнай, немчура,
Пришла новая пора,
Как мы в Питере живем,
Не сыскать и днем с огнем.
Всех вельмож мы посвалили,
Землю людям воротили,
Дармоедов скорчили,
Всяки войны окончили.
Вы немецкие ребята,
Никому не виноваты,
Вы домой вертайтеся,
За своих примайтеся.
Плохо здесь дела идут. Вон, за сто верст аль меньше дерутся ведь наши-то солдатики с австрийцами. А мы сидим, совесть зазрит, а разум не велит. Трудно, уйти бы по домам.
Кто дерется, верно, еще не поверили, что свобода для всех. Обманули их, вот они и воюют еще со страху-то.
Ты, Керенский-депутат,
Солдат не обманешь,
Не пойдем мы воевать,
Даром словом манишь.
Другим голосом говорит: идите, собирайтесь, будем обо всем советоваться. А я что за советчик? Слов нет, думы о своем – домой бы…
* * *
Встал, месяц светит. Пошел-побрел до городу. Полуднем через город перебег, на эту дорогу вышел. Иду домой, и чем я от войны подальше, тем на душе моей тихости больше. Иду домой мирное житье строить.
Никто нас на позиции не останавливал. Кричал кто-то из наших же солдат, мол, сукины дети. Только мы времени не теряли за обиду драться. Привычные.
А наш депутат револьвер вынул, говорит, застрелится, как уйдем. А пускай его. Лучше одному под пулей-то гинуть, а нас дома ждут.
Вы бы сперва войну бросили да в Россию вернулись, там бы видно стало, на какое дело ожидаетесь. Может, и всего-то вашего управления будет – новым господам нужники чистить.
Каркала ворона, пока не подохла. Не приучены мы править, однако можем выучиться не хуже других. А уж старому не бывать, не загнать младенца назад в утробу.
Да уж теперь на фронте не погеройствуешь. Товарищи засмеют. Мы свою удаль домой снесем, там она в цене.
* * *
Конечно, перед тещей-то погероистей будешь, чем перед дядей немецким. Идите, идите. И псу хвост-то поджатый на ходу не помеха, только не сберечь такому добра.
Я мальчишечка фабричный,
Ко всему, скажу, привычный,
А к немецкой пушке
Не привыкнут ушки.
На речке кораблики,
На бережке борона,
Мне здесь не на фабрике,
А чужая сторона.
Чего хуже война, чего лучше свобода. Только нет им места в один часок.
Я бы воевать любил, кабы знал, что дело. А ничего от нас немцу не нужно, так какой он враг. Враг-то и меня и немца овечкой гнал – один он у нас.
Что Ганс, что Ванюшка,
Оба-два солдата,
Во нашей судьбинушке
Баре виноваты.
Эх, не немец, не австриец
Белоручка-кровопивец,
Эх, не иностранец,
Баринок-поганец.
Вы немецкий народ,
Славна нация,
На войну вас ведет
Чиста провокация.
Депутатики братцы,
Вы не стройте провокаций,
Не хотим мы воевать,
Пойдем дома добывать.
Сказывают, на неделе прибывали питерские думские. Посередь слова их в кулаки подмяли, еле ноги уволокли. Нашли чем из Питера челом солдату бить, а еще бородатые.
Всё больше адвокаты, законники разные. Небось от старого медку никак не отлипнуть, сколько годов питались. Вот им и не понять никак, чего это вдруг солдат воевать перестал. Нового-то закону не раскусили еще.
Коли уж при царе защищали, так теперь, мол, особливо воевать нужно, когда всё свое. А того не домыслят никак, что войной мира не добыть. А нам и строиться нужно, и закон новый утвердить; время ли нам теперь с чужими людьми дракой тешиться.
Нашим, мол, геройством гордились. А и всё-то геройство наше с того шло, что некуда нам податься было. А как не с этого, так больше полоумные геройствовали.
Удали некуда деть было, а мы народ удалой. Теперь, как настоящим делом призаймемся, так удаль-то лучше девкам будем показывать, чем немцу, сурьезному человеку.
Тарнопольские полки
Растеряли портки,
Да в родимый-то домок
Что в портках, что без порток.
Хоть прорыв, хоть и нет,
А нам всё едино,
Не австрийцу, а войне
Показали спину.
Что теперь беспокойно – так это только что война. И всегда война болячкой у нас жила. А теперь нам работа приспела, вот и нужно ту болячку извести. А то не поработаешь.
Коли кончать войну с умом, так не за чужим горбом. Сами кровь лили, сами и помиримся. А не на бумагах разных.
Как по дому я скучаю,
Дождался теперь случаю,
Жизнь – свобода у окна,
Не нужна война.
На солдатску спину
Царь войну надвинул,
Воевать нам неохота,
Коль теперь наша свобода.
Как солдат воевал,
Царю славы добывал,
А как сшибли мы царя,
Так чего нам драться зря.
Что это, право, за свобода такая? Кто, освободившись, чужих людей подшибать станет, ничего для нас не вредных. Нет, до свободы еще не близко, доделывать надо.
Сказывают, приехал будто ктой-то из-за границы и говорил, что, мол, это за судьбы перемена, коль войны не кончают. Не все ль нам едино – царь али свой брат на убой гонит.
Да кабы было за что, чего не потягаться. И смерть не страшна, как судьбу отбиваешь. А что нам немец за враг? У него и изба, и интерес свой от нашего далеко.
Нехорошо, братцы, на местах этих без дела сидеть, домой пора. Вон и мясник на бойне не ночует.
Ничего-то мы у немцев не забыли, чего нам драться? Хороша война не для простого человека. Нашими ручками да для бар штучки.
И пушку домой веди. Первое дело – для войны машинок не будет; а второе дело – дома пушка-то, пожалуй, понужнее станет, это тебе не немец.
Чтой-то, братцы, хочется,
Чтоб война покончилась,
Я домой поворочу,
Пулеметик захвачу.
Ты постой-ка, пулемет,
У крестьянских ворот,
Немцев не тревожи,
А господ построжи.
Не пойму я, братцы,
Чего с немцем драться,
Лучше бы обухом
По толстым брюхам.
Ну, пустят нас по домам, ну, пошли мы. А как немцы-то войны не кончили да за нашими за пятками на дома наши навалятся. Вот с того мира ждать, а не дуром валить.
* * *
Как немцам хлопочется,
Воевать не хочется,
За немногим дело стало,
Посшибайте генералов.
Вы, немецки Морицы,
Чего с нами спориться,
Мы вот в этот самый час
Отпускаем с миром вас.
Я теперь ни в жизнь воевать не стану. Как только сказали, начальство не очень для вас важно, так та´к я врага полюбил, – всякую его обиду жалко.
Не нам одним мир-то надобен. Вон и пленные всякие по домам запросились, про свободу услышавши. А им: погодите, мол, мира еще нет. А бабам-то нашим каково без мужней головы со свободами обращаться. Трудно ведь с непривычки.
Уж чего мы ни пытали,
Даже в шею царю дали,
Уж мы эдак, уж мы так,
Не скончать войны никак.
Надавали мы царю
За плохие свойствия,
На митингах говорю
С большим удовольствием.
Помирились бы давно,
Да начальство-то г…
Уперлися идиоты,
Не примают мирной ноты.
Как теперешний солдат
Он не хочет воевать,
Стала жизнь свободная,
Война неугодная.
* * *
Стыдно-то стыдно, да не больно, видно. Все, как один, – все домой хотим. Чего у тебя отнято? Бить-то не за что, а дома дела стожища, вот и пошли.
Я вон совестливый, а как стали меня уговаривать вое вать дальше, да слезно уговаривали, родину, мол, гублю, – не поверил, не пошел. Я привычен про войну знать, война всему самая гибель и есть. Не уговорили.
Боятся, много нас здеся. Потому и на позицию гонят, чтобы немец наши силы разредил.
За границей рабочему человеку тоже не сладко. Скоро и там войну бросят, как своих-то сидней свалят.
Не звони, Керенский, звоном,
Не хотим твово закону,
Ты не разговаривай,
С немцем мир устраивай.
Вы, молодчики, хваты,
Солдатские депутаты,
Коль вы кровные нам братцы,
Не гоните с немцем драться.
Приехал один такой, не военный. Вздел пальтишко на пиджак да и думает, что он не дурак; а эдакого дурня и в бане видать.
Не езжайте, баринки,
На войну сговаривать,
Как хотят большевики
С немцем мир устраивать.
Как военный комиссар
На позицьи посылал,
Сам воюй, коль больно храбрый,
А нам в руки цепы-грабли.
Ночью проснусь, сяду, а руки просто горят – до дела рвутся. Куда уж тут воевать…
Наша така воля —
Воевать довольно,
Дома дела гора,
По домам пора.
Мне одна свобода —
На дому работа,
А Керенский депутат
Не велит домой пускать.
Один приезжий, сразу видно, дельный. Идите, говорит, отсюда, только порядок держите, ничего не разоряйте, своего брата депутата слушайтесь, от господ подальше. А войне конец.
В городах полиция
Без пользы держалася,
А у нас позиция
Без пользы осталася.
Комиссары по лесам,
А солдаты кочками,
Повоюй-ка, братец, сам,
А мы кончили.
Наплевали на амбицью,
Растеряли амуницью,
Хоть приставь Дума полицью,
Не вернемся на позицью.
Уж так-то мне лестно,
Что я стал известный,
Воевать арчатился,
В газетах зазначился.
Ты на месте не сиди
И к знахарю не ходи,
Ты окстися раза три
Да с позицьи и дери.
Начальствам по заднице,
А не видно разницы,
Красный флаг качается,
Война не кончается.
Как военный депутат
Уговаривал солдат,
А солдат серчает,
Воевать кончает.
Напекла нам бабушка
Сдобные калабушки,
От свободы обсытели,
Воевать порасхотели.
Коль настала революцья,
Жить народам без господ,
А солдатска резолюцья —
По домам чтобы поход.
Как, бывало, пушка бахнет —
Во мне сердце так и ахнет,
А теперя эта пушка
Будет детушкам игрушка.
V
О начальстве, господах и «ученых»
Полковнички —
Греховоднички,
Не заступятся теперь
И угоднички.
До дому спешу,
Полну шапку ташшу,
А в той шапке бабам тряпки,
А начальству по шишу.
Как простой народ
Усмехается,
А начальство сидит
Злопыхается.
Размазывать тут нечего, всякий знает, какой он от начальства страх был. Коль не бьет, так кислым глазом донимает или словом язвенным. До смерти я их боялся, притаясь живал.
Хуже не было ласки барской. Стоишь перед ним не свой, он шутить готов, да кабы давал отшутиться. А то словно он на престол, а ты рожей об стол. Обида, бывало, распирает.
Отшучиваться не приказано нам было. Стоишь – от ухмылки скулы гудут, в кулаке словно мышь зажата, аж щекотно.
Отшутился я как-то, так хама получил, и в другую часть перевел, чтоб ему на голову не сел с отшутки-то.
* * *
Со мною добрый был, всему обучил: не бояться, честь свою понимать. Все это помню, а начну говорить – сейчас вокруг себя плохое-худое выискиваю; счеты, видно, сводим.
И выходит на тех счетах – им с нами вовек не расплатиться. Целыми гнездами до исконных дедов нас в черном несчастье держали. Что теперь ни отдай – всего мало.
Меня нужно при врагах приставить. Я врага сразу по глазам узнаю и спуску ему не дам.
Опоздал ты малость, тебе бы в фараонах царских послужить было. Наш городовой, бывало, все грозится. «Я, – говорит, – по первому взгляду революцию в человеке вижу. Вскинет такой глазом, а я ему – пожалуйте в участок».
Не звони, поручик, шпорой,
Эполеткой не свети,
Солдатня ступает скоро
По свободному пути.
По свободному пути
Поручичку не идти,
Для свободной для дороги
Жидковаты твои ноги.
Не то он радуется, не то боится чего. И то сказать: не по-нашему он в новую жизнь вступает. Один у нас с ним хлеб, да до сего времени без нас тот хлеб ламывал. Как бы теперь в кусочки не пойти.
Усики у него черные, до того франт – весь светится. Что ноготки, что головка в маслице. На песок через платок садится. Посадим мы его теперь голым задом на ежа, пусть привыкает.
Мало кто пригодится нашему брату, разве детей колы-скать. Так и того доверить нельзя; они наших ребят куда пониже щенков оценивали.
Загудело за вьюшкою, ухо приложил, слышал, будто есть теперь такие, что господам мирволят, по доброте, что ль. И ихнюю ученость похваливают. Так вот слова мои: ничего нам от них не надобно, а даром их держать негде. Решеточки ковать некогда, насчет ученостей – так ты погляди, чему их та ученость выучила, кроме как чужой век заедать.
Офицеру теперь одно дело осталось – солдату угождать. Верить ему не можем, жалеть его не за что, а угодит ли с непривычки – очень еще не знаю.
Самый главный комиссар
Нам цидульку написал,
А по той цидуле —
Офицерам дуля.
Я, говорит, ни минутки теперь здесь не останусь. Поедет будто в Питер, а оттуда приказ получит и опять будто к нам, новой жизни обучать. Сразу и уехал. А мы здесь без него в недельку разобрались, что нам из начальства даже праведники не ко двору. На готовое приедет, да не вернется, верно, – там барам повольготнее, говорят.
Наущают нас – это что говорить. Сами-то мы немногое знаем. Только нами кругом сговорено: барам теперь не верить. Вот так-то худу и не быть.
* * *
Зубами скрипит, по лицу пятнами, а улыбается. И то сказать, многое у ихнего брата поотнимется, почитай – всё.
Ты с него одежку сдерешь, голым задом на битую дорожку усадишь. А привычек вредных он не лишится. Эдакой до теплой лежаночки и нагишом доползет.
Не из-за чего другого, а из-за науки их поберечь следовает. Не все у нас дела знакомые будут. А наши-то еще не скоро все ихние тайности узнают. К им прибегать придется.
Чудно мне. До этих самых дней, как на образ, бывало, на ученого человека глядел. С того моя перемена, что не вижу я для них добра в новой жизни. А силу ихнюю знаю.
Не знаю я, уж и верить ли таким словам, что самые хорошие и те для нас ядовиты. Какую помощь оказывали. Этим я до конца верить стану.
А вот ты поставь-ка такого-то святого перед себя, а сам на его перинке понежься. Тут-то и увидишь, что они только с баловства всякого и добры-то бывают.
Коли не сладко ели, не мягко спали, так ученьем козырялись. А коли мы у них и эту вышку отобьем, быть им с нами во врагах до краю жизни.
Наш народ небольшой —
Купцы да начальство,
У него за душой
Пузы да бахвальство.
Наш народ наменьшой —
Мужик да работник,
У него за душой
Обо всем заботник.
Тихо в сторонке стал, глаз горит. А потом, словно выстрелили им, прыгнул, истошным голосом кричал: «Не упустите врага!» До сердца обидами прожгли. Через этого человека мы и убили. Как его, такого-то, не послушаешь, коли в нем всякая кровинка кричит.
Чего и слушать-то, коли толку не ждешь. От дедов жизнь наша каторжная. Зря болты болтать о таком, только сердце докрасна, ни к чему. Теперь же видать, что ошиблись.
Как так думать, так до веку перегноем под ихними огурчиками полеживать.
Хотел бы я и святых других, для звания детям. А то вон я Николай, и сволочь наша тем же святым опекается. Неохота мне на том свете с ними у крестненького проживать.
А ты попроще святых выбирай, чего под Николая преклоняться. У нас вон Софроны да Пантелеймоны. Они таких имен не любят.
Вы ступайте, баринки,
Поопасливее,
Свои светлые деньки
Поотпраздновали.
А я думаю, устроят по-хорошему жизнь, никто работать не станет. Ты на бар погляди: жизнь ихняя разлюбезная, ничегошеньки не работали. А в охоту-то только на себя работа, такой всей земли не прокормить.
Спешит денщик,
Самовар бежит,
На перинке офицерик,
Словно барышня, лежит.
Самовар ушел,
Целый полк пришел,
Офицера денщичок
Под кроваткою нашел.
Сидит весь белый. Я, жалеючи, тихонько фуражку в руки да было за дверь. А он мне: «Постой, ты, – говорит, – теперь враг мой, если станут убивать, стрелять не буду. На вот оружие», – и револьвер отдал. Смотрю, и карточки поснимал. И жаль мне его, и как звать-то, кроме «благородия», позабыл. Так молча и ушел.
Мой здорово сперва побушевал, не поверил, что ли. А потом заплакал и ушел. Вот вторая неделя нет его. Видно, забили его где-нибудь.
А наш с газетой прибежал, веселый: я, говорит, рад больно. Мы было сперва-то и поверили, все с им делили. А потом из других частей посоветовали, и мы и убрали его, засадили до поры. Хороший-то хороший, да все кровь чужая.
У нас двое было, чисто быки, мясные такие да грубые. Эти как узнали, что царя нету, так уж матюшили сперва, матюшили, а потом перепились боровами с горя. Мы их и заперли до просыпу. Куда нам таких в новой жизни, и не придумаешь, самое злое в голову лезет.
* * *
А я теперь такой радый, ни на кого сердца не держу. Был ты зверь, да не то, мол, теперь, не страшно.
Как бы отдохнувши, силы не посбирали. Ты не больно мирволь, помни, как они с дедов над нашим братом изгилялись. Все бы ихнее семя извести.
Принанять бы нам, братцы, ингушей на господское стережение. Эти привычны, не умягчишь.
Зазвонили во все звоны,
Зорьки засветилися,
Офицерские погоны
С плечиков свалилися.
Вчера, как мимо своего-то проходил да как вспомнил про евойные обиды, так та´к бы и убил. Удерж мне нужен, а где он теперь…
Поспею, мол, еще ребра-то перещупать, а потом как подумаю: вдруг все на старое обернется, а я и обиды-то своей не выплачу, – тут и звереешь.
Еще никто меня тут не обидел – так разве в этом толк? Главное, хорошего от них ждать нельзя. Все больше о пустом пекутся, для себя. А наш брат и на свет-то выпущен барску их постелю стлать.
На дороге тарахтит,
Генерал в возу пыхтит,
Обижают генерала
Комитетские орала.
Редко такой человек знающий из простых. Он с дедов горе наше считывал. Господский-то сын, как его ни учи, одного не позабудет – что у него кожа нашей побелее.
* * *
Очень я студентов любил: сам голоден, сам нищ, а воробья веселее.
Как тот воробей оперится, в чиновники выйдет, бывало, расклюет он твое же добро по зернышку, не чирикнет.
Теперь только бы по-хорошему, всем миром, порешить, что наше. Я так думаю, что, почитай, все у господ поотобрать придется.
Книги, вещи хорошие и даже музыку – всё отдадут. Кажную нитинку простые руки сучили. А что ихняя указка была, так ведь и кнут ихний. А за науку они со всего сполна свое получили, порадовались.
На море Каспийском остров есть небольшой. Волга намела. На острове для рыбалок господа бараки всякие устроили. Кругом и море, и реки, и гирла самые великие, и просторы легли – пораскинулись. А у рыбалок не продохнуть, только и воздуху, что дохлая рыбка пооставила, а уж господской заботушки на этот предмет не видать.
Серый наш солдат говорить не мастер. Привычки нет. Мы всё больше про начальство, а начальство-то позади: вот мы и выучены задницей гуторить, а язык-то наш словно на дегте вывалян, не отлипнет.
Очень было неудобно. Стал он вроде как прибиваться, стал нас, сукин сын, братцами звать. Это он, чтобы выбрали. Ну нет, эдакой-то об нашем брате одно узнавал, у кого зубы крепче, кулаку больно.
Я на начальство не обижался, что оно понимало. Как его учили. На взгляд-то будто и всему, а на разум – так ничему путному. Только и науки его было, как сапоги чужой рукой чистить да тою же рукой на войне со смертью грешить.
Ты только допусти господ – опять водку дадут. Плыви, мол, народ, по морю по винному от нашего от берега подальше.
Не обо всех так понимать нужно. Теперь каждый рад за свое постоять, никому не уступим.
Хуже не было холеры,
Как штабные кавалеры,
После революции
Так еще полютели.
Начал я, братцы, страх будто терять. Ты не смотри, что у меня Георгий, в бою страх ненастоящий. А вот как, бывало, после бою оглядишься – начальства страшно. Всегда на нем тебе обида, словно яблочко, спеет. Кто его знает, когда оно с ветки-то да на твою голову.
Как встали в ночи, все разом бежать, а от чего – не знаем. Прежде думалось: скажут, что когда надо, – брюхо там под пулю али спину на штык. А теперь начальству-то не до нас. Вот и бежишь, на себя-то не больно положишься без привычки.
Как немецкое начальство
Толстозадое
На российского солдата
Подосадовало.
У него лицо чисто чертов ток, глаза линючие, а дело говорит. Все, говорит, нужно к своим рукам прибрать, с войны уйти, начальство снять, а везде свой брат. И никому образованному не верить. Так и жить.
Враг-то нашими жилами пообмотан, не доторкнешь. Чужая жила – крепкая одежда.
У нас баринок был, земский наш. Какими бы словами его назвать – не придумаю. В самые последние дни, почитай, в зубы бил. Думаю, прибьют его насмерть. Такую гадюку средь хорошей жизни пустить грех: ужалит.
А будет такое, что не по силам неученому. Вот тут и придумывай: самим не справиться, а ученым верить никак не след. Им наша-то свобода только в басенках родня.
Куда барин – туды и ты. Просто ни на минутку от него не отбивайся. Не доглядишь – нору пророет, вся твоя изба – да тебе же на голову.
Баре редко животное томили. Промеж барами да животными наш брат рабочий на оттяжке стоял.
Первое дело – сладко ел, мягко спал, – ему желчь нечем кипятить было.
Весь я у него в кулаке: сожмет – изо всего моего семейства кровь выточит.
Вот есть такие философы – велят душу попрятать, обидой не обижаться, самим с собой удовольствие получать. Эдак хорошего не дождаться. И от думок таких только что хилеют, вроде как самому без бабы любовью призаняться.
* * *
Здорового не жди. Нет, как кто тебе на голову – ты того по шее. Пусть философы терпят, им в тепле да холе всякое перетерпится.
Нас до теперешнего не философы довели, мы их и не видывали. Немец нас войною довел. Смерти повидали, и на жизнь поглядеть захотелось. Вот и вышло.
Эх, малина-ягода,
Лесная, душистая,
Не на час, а на годы
Господ пообчистили.
Мы-то дикие люди, а ты бы, господин, походил бы по-нашему, по-дикому, с нищеты, голенький, да душу-то свою господскую через наше дикое-то житье пропустил бы, не такие бы еще грабежи да убийства устроил.
Мы добрые, мы вон и тех не бьем, что по нашему телу живому, словно по мосточку, на веселые бережка хаживали.
А вот как с людоедами будет со всякими, неужели Страшного суда ждать. Думаю, сами поразберем.
Не в такое, брат поручик,
Теперь времячко живем,
Чтобы всякий белоручка
Иссосал солдат живьем.
Порешили целой ротой
Офицеров на работы,
Чтоб не было опечатки,
Поскидайте-ка перчатки.
* * *
Кто как, иной за скота, другой за цацу считал. А какие мы есть настоящие, то им не по глазам было. Теперь очки понадевали, да поздно.
Теперь по-иному надо. Это кто под ногами, тот и в пятку зубами. А коль на ноги стал – добреть стал. Теперь господ попригнули, их и побережемся, а нам с горы-то виднее.
Так-то мы мягчим, мягчим, как бы не промазать дело. Как враги стакнутся, по старой путине толкнутся – тут костей не соберешь.
Ишь ты, дитятко беспомощное. Борода лопатой, а ума кот наплакал. Недаром вас, таких-то, начальство всё от зубов очищало: что это, мол, за спеленыши со зубами, – да и хрясь.
Уж и тот толк – переполоху большого понаделали, из перин вытрусили, косы да штучки разные пораскидали. С год сытая братия помнить будет, так и то дело.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































