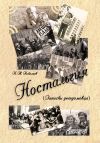Текст книги "Будущее ностальгии"

Автор книги: Светлана Бойм
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Глава 5
Рефлексирующая ностальгия: виртуальная реальность и коллективная память
Реставрация (от re-staure – вос-становление) означает возвращение к первоначальному стазису, к догреховному моменту. Прошлое для реставрирующих ностальгиков является значимым в настоящем; прошлое – это не отрезок времени, а идеальный снимок. Более того, прошлое не должно демонстрировать никаких признаков распада; оно должно быть свежеокрашенным в своем «оригинальном образе» и оставаться вечно молодым. Рефлексирующая ностальгия больше связана с историческим и индивидуальным временем, с невозвратностью прошлого и конечностью человеческого начала. Рефлексия предполагает новую гибкость, а не реставрацию стазиса. Здесь основное внимание уделяется не восстановлению того, что воспринимается как абсолютная истина, а размышлению об истории и времени. Перефразируя Набокова, представители данного типа ностальгирующих часто являются «любителями Времени, эпикурейцами длительности», которые сопротивляются давлению внешней эффектности и чувствуют восторг от самой ткани времени, не измеряемой часами и календарями[154]154
Nabokov V. On Time and Its Texture // Strong Opinions. New York: Vintage International, 1990. Р. 185–186.
[Закрыть].
Реставрирующая ностальгия пробуждает национальное прошлое и будущее; рефлексирующая ностальгия больше связана с индивидуальной и культурной памятью. Они могут пересекаться в своих базовых положениях, но они не совпадают в своих нарративах и сюжетах идентичности. Иными словами, они могут использовать одни и те же триггеры памяти и символы, все ту же «мадленку Пруста»[155]155
«Madeleine» – традиционное французское печенье «Мадлен», изготавливаемое, как правило, в форме морских гребешков и ракушек. Так называемая «мадленка Пруста» – универсальная метафора «воспоминаний о детстве», «вкуса детства», «ностальгии по детству», происходящая из французской литературы. Метафора связана со знаменитой сценой из романа Марселя Пруста «В сторону Свана», где герой обмакивает печенье в чай и погружается в глубокие воспоминания о детстве, занимающие добрую сотню страниц. – Примеч. пер.
[Закрыть], но они рассказывают об этом совершенно разные истории.
Ностальгия первого типа тяготеет к коллективным изобразительным символам и устной культуре. Ностальгия второго типа более ориентирована на индивидуальный нарратив, который основан на смаковании деталей и памятных знаков и который постоянно откладывает реальное возвращение на родину[156]156
Роман Якобсон предлагал различать два вида афазии, лингвистического расстройства «забывания» структуры языка. Первый полюс был метафорическим – транспозиция через смещение и замещение. Например, если пациента попросят назвать, что у него ассоциируется с красным флагом, он может сказать «Советский Союз». Пациент помнит символы, но не контексты. Второй полюс был метонимическим – память о контекстуальных, смежных деталях, которые не были символической заменой. Пациент мог, к примеру, помнить, что флаг, сделанный из бархата с золотой вышивкой, он обычно нес на демонстрации, а потом получал выходной и отправлялся в деревню, чтобы собирать грибы. Представленные здесь два вида ностальгии отражают афазию Якобсона: оба вида в итоге представляют собой побочные эффекты катастрофической интерференции и отчаянных попыток воссоздания нарратива утраченных воспоминаний. См.: Jakobson R. Two Types of Aphasia // Language in Literature. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987.
[Закрыть]. Если реставрирующая ностальгия заканчивается воссозданием символов и ритуалов дома и родины в попытке завоевать и «опространствить время» (spatialize time), рефлексирующая ностальгия склонна лелеять разрозненные осколки памяти и «овременять пространство» (temporalize space). Реставрирующая ностальгия воспринимает себя серьезно. Рефлексирующая ностальгия, напротив, может быть иронической и юмористической. Она показывает, что тоска и критическое мышление не противоречат друг другу, поскольку аффективные воспоминания не освобождают человека от сострадания, суждения или критической рефлексии.
Рефлексирующая ностальгия не претендует на восстановление мифического места, называемого домом; она «очарована дистанцией, а не самим референтом»[157]157
Stewart S. On Longing. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1985. Р. 145.
[Закрыть]. Этот тип ностальгического нарратива является ироничным, неубедительным и отрывочным. Ностальгик второго типа осознает разрыв между идентичностью и сходством; дом находится в руинах или, напротив, был только что отремонтирован и благоустроен до неузнаваемости. Это остранение и ощущение дистанции заставляет их рассказывать свою историю, создавать нарратив о взаимоотношениях между прошлым, настоящим и будущим. Благодаря такой тоске эти ностальгики обнаруживают, что прошлое – это не просто то, что больше не существует, но, цитируя Анри Бергсона[158]158
Анри Бергсон (Henri Bergson, 1859–1941) – французский философ, писатель, профессор и академик, классик интуитивизма и философии жизни, лауреат Нобелевской премии 1927 года. Его книга «Творческая эволюция», изданная в 1907 году, оказала огромное влияние на развитие мысли и художественного творчества в ХХ веке. – Примеч. пер.
[Закрыть], прошлое «может действовать и будет действовать, внедряя себя в ощущение настоящего, из которого оно заимствует жизненную силу»[159]159
Бергсон предложил следующую метафору: конус, который представляет собой осциллирующий переход между неопределенным множеством виртуальных образов-воспоминаний и текущей сенсорно-моторной реакцией. Бергсоновская длительность «определяется меньше последовательностью, чем сосуществованием». Bergson H. Matter and Memory / N. M. Paul and W. S. Palmer, transl. New York: Zone Books, 1996; Deleuze G. Bergsonism. New York: Zone Books, 1991. Р. 59–60.
[Закрыть]. Прошлое не переделывается под образ настоящего и не рассматривается как предчувствие какой-то современной катастрофы; скорее, прошлое открывает множество возможностей – нетелеологические возможности исторического развития. Нам не нужен компьютер, чтобы получить доступ к виртуальности нашего воображения: рефлексирующая ностальгия обладает способностью раскрывать множество различных слоев сознания[160]160
«Между срезом действия, где наше тело сжало свое прошлое в двигательные привычки, и срезом чистой памяти, где наш дух сохраняет во всех подробностях картину нашей истекшей жизни, мы можем, как нам кажется, заметить тысячи и тысячи различных срезов сознания, тысячи повторений, воспроизводящих целиком, но всякий раз по-другому, совокупность нашего пережитого опыта». Bergson. Matter and Memory. Р. 241.
[Закрыть].
Виртуальная реальность сознания, по определению Анри Бергсона, является модернистской концепцией, но она не опирается на технологию; напротив, речь идет о человеческой свободе и творчестве. Согласно Бергсону, человеческое творчество – это élan vital[161]161
Фр. «жизненный порыв», «энергия жизни». Одна из центральных категорий в философии Анри Бергсона. Это понятие также связано с ключевым для Бергсона термином «жизненный поток». Выражение «élan vital» получило распространение в рядах французской армии в годы Первой мировой войны. Французы подчеркивали, что жизненная энергия солдата важнее любого материального оружия. – Примеч. пер.
[Закрыть], который сопротивляется механическому повторению и предсказуемости, позволяет нам исследовать виртуальные реалии сознания. Для Марселя Пруста воспоминание – это непредсказуемое приключение в синкретическом восприятии, где слова и тактильные ощущения перекрываются. Названия мест открывают ментальные карты, и пространство сворачивается во время. «Определенное воспоминание есть лишь сожаление об определенном мгновении; и дома, дороги, аллеи столь же мимолетны, увы, как и годы»[162]162
Классический перевод А. А. Франковского. По изданию: Пруст М. В поисках утраченного времени: В сторону Свана: Роман. СПб.: Советский писатель, 1992. – Примеч. пер.
[Закрыть], – пишет Пруст в конце романа «В сторону Свана»[163]163
Proust M. Swann’s Way / С. K. Scott Moncrieff and Terence Kilmartin, transl. New York: Vintage International, 1989. Р. 462.
[Закрыть]. Что действительно имеет значение, так это литературная фуга воспоминаний, а не фактическое возвращение домой.
Ностальгирующая личность эпохи модерна осознает, что «цель одиссеи – это rendez-vous[164]164
Фр. «встреча», «свидание». – Примеч. пер.
[Закрыть] с самим собой»[165]165
Jankélévitch V. L’Irreversible et la nostalgie. Paris: Flammarion, 1974. Р. 302.
[Закрыть]. К примеру, по Хорхе Луису Борхесу[166]166
Хорхе Луис Борхес (Jorge Luis Borges, 1899–1986) – великий аргентинский писатель: мастер прозы, поэтического творчества, публицистики, филолог и литературный критик. «Всеобщая история бесчестия», «Вавилонская библиотека», «Новые расследования», «История ночи». Борхес сочетал в своих произведениях метафизику и тончайшее поэтическое начало, фантасмагорию, мистику и блистательный реализм. – Примеч. пер.
[Закрыть], Одиссей возвращается домой только для того, чтобы оглянуться на свое путешествие. В алькове своей верной царицы он начинает испытывать ностальгию по отношению к своему номадическому «я»: «Где тот человек, который в дни и ночи изгнания скитался по миру, словно пес, и говорил, что его имя – Никто?»[167]167
Ya en el amor del compartido lechoduerme la clara reina sobre el pechode su rey pero ¿dónde está aquel hombreque en los días y noches del destierroerraba por el mundo como un perroy decía que Nadie era su nombre?Borges J. L. Obras poéticas completas. Buenos Aires: Émecé, 1964.
[Закрыть] Возвращение домой не означает восстановление личности; оно не завершает путешествие в виртуальном пространстве воображения. Ностальгирующая личность эпохи модерна может страдать от тоски по утраченному дому и от самого утраченного дома одновременно[168]168
В тексте здесь используется игра слов «homesick – sick». – Примеч. пер.
[Закрыть].
Как видно на примере большинства историй, представленных в данной книге, ностальгическое рандеву с самим собой не всегда является частным делом. Добровольные и невольные воспоминания отдельного человека переплетаются с коллективными воспоминаниями. Во многих случаях зеркало рефлексирующей ностальгии искажается переживаниями коллективного опустошения и напоминает – невольно – модернистское произведение искусства. Боснийский поэт Семездин Мехмединович[169]169
Семездин Мехмединович (Semezdin Mehmedinović, р. 1960) – боснийский писатель, режиссер и редактор. Работал редактором журналов «Лика» и «Вальтер». В 1996 году после осады Сараево эмигрировал в США и проживает в Арлингтоне. Является автором множества стихотворений, ряда театральных постановок и книг, таких как «Soviet Computer» (2011), «Self-portrait With a Messenger Bag» (2012), «Window Book» (2014) и т. д.
[Закрыть] предлагает нам посмотреть в одно из таких разбитых зеркал из своего родного Сараево:
«Стоя у окна, я смотрю на разбитую витрину „Югобанка“. Я могу стоять так часами. Голубой застекленный фасад. Этажом выше на балкон выходит профессор эстетики; почесывая бороду, он поправляет свои очки. Я вижу его отражение в голубом фасаде банка, в треснувшем стекле, превращающем всю сцену в живую кубистскую картину солнечного дня»[170]170
Mehmedinovic S. Sarajevo Blues / Ammiel Alcalay, transl. San Francisco: City Lights Books, 1998. Р. 49.
[Закрыть].
В 1997 году я зашла в кафе в центре Любляны, неподалеку от знаменитого моста Сапожников, украшенного стилизованными колоннами, которые ничего не поддерживают. Внутреннее убранство было смутно знакомым и успокаивающим, выдержанным в стилистике 1960‐х годов. Музыкальное оформление обеспечивали песни «Битлз» и Радмилы Караклаич. Настенные полки были украшены китайскими будильниками, баночками от приправ «Вегета» (в СССР они считались дефицитом), а стены – плакатами с изображениями спутника и несчастных собачонок Белки и Стрелки, так и не вернувшихся на Землю. Здесь же размещалась увеличенная копия газеты, извещавшей о кончине маршала Тито. Взглянув на счет, я не поверила своим глазам. Местечко называлось бар «Ностальгия».
– Представить себе бар, похожий на этот, в Загребе или Белграде просто невозможно, – сказала хорватская подруга. – Ностальгия – там запрещенное слово.
– Отчего же? – поинтересовалась я. – Разве не ностальгия мучает власти Хорватии и Сербии?
– Ностальгия – плохое слово. Оно ассоциируется с бывшей Югославией. Ностальгия – это «Юго-ностальгия».
В «Ностальгии» было уютно. Само название – «snack-bar» – отсылало, вероятно, к тем мечтам, которым некогда предавались нынешние владельцы заведения, просматривая старые американские фильмы по югославскому телевидению. Кстати, американская версия бара «Ностальгия» в Америке никого бы не удивила: без труда можно представить модное местечко, украшенное светильниками 1950‐х годов, музыкальными автоматами и портретами Джеймса Дина. Таков американский опыт обращения с прошлым: надо превратить историю в набор забавных и понятных сувениров, очищенных от политики. Но более провокационно обращение к эмблемам разделенного прошлого, в особенности несшего в себе сегрегацию. Бар «Ностальгия» играет как раз с общим югославским прошлым, до сих пор остающимся культурным табу во многих частях бывшей Югославии. Националистические реставраторы традиции считают недопустимой именно эту несерьезность, применяемую к символической политике, смешение политического с обыденным.
Дубравка Угрешич, уроженка Загреба, объявляющая себя «человеком без национальности», пишет, что граждане бывшей Югославии, особенно проживающие ныне в Хорватии и Сербии, страдают от «конфискации памяти». Она имеет в виду своеобразную память о повседневности, общий свод эмоциональных вех, не поддающихся систематизации. В него входят и официальные символы, и множественные частицы и осколки прошлого: «стихотворные строки, образы, сцены, запахи, мелодии, слова». Эти мемориальные маркеры невозможно упорядочить: память такого рода состоит из разрозненных фрагментов, включая ужасные сцены войны. Псевдогреческое слово «ностальгия», имеющееся во всех новых языках страны – хорватском, сербском, боснийском, словенском, – сплавлено воедино со словом «Югославия», которое Милошевич конфисковал из общей памяти.
Исполненный чувства страха обычный гражданин бывшей Югославии, пытаясь объяснить простые вещи, немедленно увязает в паутине унизительных оговорок. «Да, Югославия, но бывшая Югославия, а не Югославия Милошевича…» «Да, ностальгия, возможно, это называется именно так, но это ностальгия не по Милошевичу, а по бывшей Югославии…» «По бывшей коммунистической Югославии?!» «Нет, не по государству и не по коммунизму…» «Тогда по чему именно?» «Видите ли, это нелегко объяснить…» «Может быть, вы говорите о ностальгии по какому-нибудь певцу – скажем, по Джордже Балашевичу?» «Да, и по певцу…» «Но ведь ваш Балашевич – серб, не так ли!?»[171]171
Ugrešić D. Confiscation of Memory // The Culture of Lies. University Park: Pennsylvania State University Press, 1998.
[Закрыть]
Лучше всего помнится то, что окрашено эмоцией. Более того, в эмоциональной топографии памяти персональные и исторические события тяготеют к слиянию друг с другом. По-видимому, единственным средством обсуждения коллективной памяти остается вымышленный диалог между рассеявшимися по миру согражданами, экспатриантами и изгнанниками. Пытаясь артикулировать эмоциональную топографию памяти, невольно становишься косноязычным; именно отсюда рождаются симптоматичные оговорки и культурные «непереводимости». Перекрученный синтаксис – часть ускользающей коллективной памяти.
Представление об общих социальных основах памяти коренится в понимании индивидуального человеческого сознания, которое пребывает в постоянном диалоге с другими людьми и культурными дискурсами. Эту идею развивали Лев Выготский и Михаил Бахтин, которые, рассуждая о человеческой психике, критиковали так называемый «солипсизм Фрейда»[172]172
Vygotsky L. Mind in Society. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. Психологи индивидуальной памяти, последователи Выготского, различают эпизодическую память, определяемую как «осознанное воспоминание лично пережитых событий» и семантическую память: знание, включающее факты и имена, «знание мира». Эта пара приблизительно соответствует разделению на «метонимический» и «метафорический» полюса у Якобсона. См.: Tulvig E. Episodic and Semantic Memory // E. Tulvig and W. Donaldson, eds. Organization of Memory. New York: Academic Press, 1972. Р. 381–403. По теме психологических и психоаналитических подходов к ностальгии см.: Phillips J. Distance, Absence and Nostalgia // Don Ihde and Hugh J. Silverman, eds. Descriptions. Albany: SUNY Press, 1985.
[Закрыть]. Выготский полагал, что людьми нас делает не «естественная память», замкнутая в индивидуальном восприятии, а воспоминания о культурных символах, которые позволяют генерировать смыслы без внешней стимуляции. Воспоминание нельзя обособлять от мышления. Я помню, следовательно, я существую; или же – я думаю, что помню, следовательно, я думаю.
Психическое пространство не стоит уподоблять одиночной камере. Британский психолог Дональд Винникотт предложил концепт «потенциального пространства», обозначающего место локализации культурного опыта и формируемого в раннем детстве. Первоначально это пространство игры ребенка с матерью. Культурный опыт нарабатывается именно здесь: он начинается с творческой жизни, впервые проявляющейся в игре[173]173
Winnicott D. W. Playing and Reality. London: Routledge, 1971. Р. 100.
[Закрыть]. Культура располагает потенциалом превращения из подавляющей и гомогенизирующей силы в пространство индивидуальной инициативы и творчества. Культура отнюдь не чужеродна человеческой природе; напротив, она ее часть. В конце концов, культура формирует контекст, в котором отношения развиваются не в непрерывности, а в неразрывности[174]174
В оригинальном тексте здесь присутствует игра слов «continuity» – «contiguity», то есть буквально, например «последовательность» – «сопредельность», также эти слова можно перевести как нюансные значения практически одного и того же понятия, в приложении к пространственным или временным характеристикам, а именно – «непрерывность» (континуальность) и «неразрывность» (целостность). Именно такая пара терминов представляется наилучшим вариантом для передачи в переводе своеобразной игры слов. – Примеч. пер.
[Закрыть]. Вероятно, в эпоху исторических катаклизмов и эмиграций теряются не прошлое и родина как таковые, но, скорее, та самая культурная интимность, которая разделяется с друзьями и соотечественниками и базируется не на нации или религии, а на избирательной близости.
Под коллективными воспоминаниями здесь будут пониматься общие вехи повседневной жизни. С их помощью формируется общая социальная основа индивидуальных воспоминаний. Это лишь складки веера памяти, а не предписания для образцового рассказа. Коллективная память, однако, не совпадает с памятью национальной, несмотря на пересечение цитат и общих мест. Национальная память пытается изготовить из общих воспоминаний повседневности единый телеологический сюжет. Пробелы и несоответствия латаются с помощью целостной и вдохновляющей истории о возродившейся идентичности. Вместо этого общая рамка коллективной или культурной памяти предлагает нам опорные точки индивидуальных воспоминаний, из которых могут произрастать самые разные нарративы. Они объединены определенным синтаксисом (а также общей интонацией), но никак не единой интригой. Так, газетный портрет Тито, висящий на стене в баре «Ностальгия», может отсылать как к концу послевоенной Югославии, так и к детской шалости бывшего югослава. Согласно Морису Хальбваксу, коллективная память предлагает зону стабильности и нормальности в потоке перемен, характеризующих современную жизнь[175]175
В отличие от «общих мест» в классической памяти, современные топосы сами по себе постоянно находятся в движении: «Социальные структуры памяти (Les cadres sociaux de la mémoire) <…> как те самые деревянные плоты, которые спускаются по водному пути настолько медленно, что можно легко переходить с одного на другой, но которые тем не менее не стоят на месте, а движутся вперед <…> Структуры памяти <…> существуют как в текущем времени, так и вне его. Являясь внешними и независимыми от течения времени, они коммуницируют с образами и конкретными воспоминаниями <…> это малая доля их стабильности и общности. Но эти структуры тем не менее отчасти в плену у хода времени». Halbwachs M. On Collective Memory / Lewis Coser, transl. and ed. Chicago: University of Chicago Press, 1992. Р. 182. Последние работы см.: Schama S. Landscape and Memory. New York: Knopf, 1995; и Burke P. History as Social Memory // Thomas Butler, ed. Memory: History, Culture and the Mind. Oxford; New York: Basil Blackwell, 1989. Р. 97–115.
[Закрыть]. Коллективные рамки памяти предстают в качестве защитных приспособлений в вихре современности; они выступают посредниками между настоящим и прошлым, между «я» и «другим».
Историки ностальгии Жан Старобинский и Майкл Рот утверждают, что в XX веке ностальгия была приватизирована и переведена во внутренний индивидуальный план[176]176
Roth M. Returning to Nostalgia // Suzanne Nash, ed. Home and Its Dislocation in Nineteenth-Century France. Albany: SUNY Press, 1993. Р. 25–45.
[Закрыть]. Тоска по дому съежилась до размеров тоски по собственному детству. Она интерпретировалась не столько как неприспособленность к прогрессу, сколько как «неприспособленность к взрослой жизни». Для Фрейда ностальгия была не столько болезненным состоянием, сколько фундаментальной структурой человеческого желания, связанной с влечением к смерти: «Обретение объекта – это всегда повторное открытие его»[177]177
Roth. Returning to Nostalgia. Р. 40.
[Закрыть].
Фрейд присваивает словарь ностальгии; для него единственным путем возвращения домой выступает анализ и вскрытие ранних детских травм.
С моей точки зрения, ностальгия остается посредником между коллективной и индивидуальной памятью. Коллективную память следует рассматривать в качестве игровой площадки, а не могилы для множества индивидуальных воспоминаний. Поворот, или скорее возврат, к исследованию коллективной памяти, совершенный современной критической мыслью в гуманитарных науках, представляет собой восстановление определенной концептуальной основы, активно обсуждавшейся на протяжении двух десятилетий, но потом почти забытой. Коллективная память – сложный и бессистемный концепт, который тем не менее позволяет описывать феноменологию человеческого опыта. Изучение коллективной памяти бросает вызов дисциплинарным границам и привлекает к себе не только научные, но и художественные работы. Оно вновь возвращает нас к размышлениям о «ментальном габитусе» (Эрвин Панофский и Жорж Лефевр), к «ментальности», определяемой как «то, что воспринимается и ощущается», как «поле интеллекта и эмоций». Оно отсылает нас и к культурному мифу, понимаемому как «возрождающийся нарратив, расцениваемый в данной культуре в качестве чего-то естественного и внешне независимого от исторического и политического контекста»[178]178
Коллективная память также служит источником культурного мифа у Ролана Барта – в его более позднем новом определении – где Барт больше не пытается «демистифицировать», а скорее подвергает рефлексии процессы означивания и неизбежности мифических общих мест, в которые сам исследователь мифологии бесконечно вовлечен.
[Закрыть]. Культурные мифы, следовательно, есть не выдумки, а разделяемые обществом предпосылки, позволяющие натурализовать и оживлять историю, снабжая ее своего рода интеллектуальным клеем.
И все же пока нет такой системы мысли или отрасли науки, которая снабдила бы нас полной картиной человеческой памяти. Толкование памяти, говоря словами Карло Гинзбурга, вполне может остаться «гипотетической наукой»[179]179
Ginzburg C. Clues, Myths and the Historical Method / John Tedeschi and Anne Tedeschi, transl. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1986.
[Закрыть]. Полному восстановлению поддаются только ложные воспоминания. От мнемонического искусства греков до Пруста память всегда зашифровывалась посредством следа, детали, синекдохи. Фрейд предложил поэтичное понятие «экранной памяти», контекстуального механизма, который скрывает «забытые сцены индивидуальной травмы или откровения». Экранные воспоминания сохраняют следы, контуры, домыслы, отвлекая внимание от центральной интриги, навязываемой аналитиком или интерпретатором памяти. Зачастую коллективные рамки функционируют подобно тем экранным образам, которые определяют контекст индивидуальных аффективных воспоминаний. В эпоху изгнания или исторического перелома вехи бывшей отчизны обретают эмоциональную значимость. Например, бывшие восточные немцы развернули кампанию за сохранение старых дорожных знаков с изображением Ампельмана, забавного человечка в смешной шляпе, которого пытались заменить на более прагматичные западногерманские образы. Раньше никто не уделял Ампельману особого внимания, но, исчезнув с городских улиц, он немедленно превратился в любимца нации.
Осознание рамок коллективной памяти приходит к человеку тогда, когда он обособляет себя от собственного сообщества или когда само сообщество пребывает в упадке. Коллективные рамки памяти вновь открываются в скорби. Фрейд различает скорбь и меланхолию. Скорбь связана с потерей любимого человека или заменившего его отвлеченного понятия, такого как отечество, свобода, идеал. Она преодолевается и проходит с течением времени. В состоянии скорби «уважение к реальности одерживает победу», даже если оно не может реализоваться немедленно. Что касается меланхолии, то предмет утраты в ней не определяется и не осознается так четко. Меланхолия не проходит по мере того, как отступает скорбь, поскольку она менее связана с внешним миром. Она ведет к постоянному копанию в себе или неустанному самобичеванию. «Меланхолия – это открытая рана, иссушающая эго до тех пор, пока оно не истощается полностью»[180]180
Freud S. Morning and Melancholia // General Psychological Theory. New York: Macmillan, 1963. Р. 164–180.
[Закрыть]. Рефлексирующая ностальгия содержит в себе элементы скорби и меланхолии. В то время как переживаемая в ней потеря никогда не осознается полностью, она имеет определенное отношение к утрате коллективных рамок памяти. Рефлексирующая ностальгия есть форма глубочайшей печали, в которой скорбь преодолевается не только посредством размышлений о своей горькой доле, но и через освобождение от стереотипов, игру и критическое мышление, выстраивающие новое будущее.
Бар «Ностальгия» ничего не восстанавливает. В бывшей Югославии такого кафе вообще не было. Да и такой страны тоже больше нет, и потому югославская народная культура может становиться либо самодовлеющим стилем, либо путешествием по волнам памяти. Местечко излучает ауру центральноевропейской культуры кафе и пропитано новым дендизмом молодого поколения, получающего удовольствие от вещиц эпохи Тито. Такова новая разновидность пространства, где играют с прошлым и настоящим. Бар деликатно высмеивает сон о великой родине, обращаясь к общим рамкам памяти последнего югославского поколения. Он не претендует на глубину коммеморации и предлагает лишь легкую городскую прогулку, подкрепляемую великолепными пирожными и прочими проецируемыми экранными реминисценциями[181]181
Авторизированный перевод с английского А. Захарова, по изданию «Неприкосновенный запас» № 89 (3/2013), ред. – с уточнением отдельных мест (с учетом контекста перевода всей книги целиком). – Примеч. пер.
[Закрыть].
Глава 6
Ностальгия и посткоммунистическая память
Я вспоминаю одну странную встречу, которая случилась в Москве в середине 1990‐х годов. Я оказалась у гостиницы «Россия», попивая дорогой апельсиновый сок вместе с имитатором Гитлера, так как мы оба дожидались начала наших интервью для телевидения. Имитатор Гитлера был скромным и спокойным мужчиной средних лет из Казахстана, который нашел прибыльную вакансию в Агентстве двойников, работая неполный рабочий день в качестве фюрера. Он сказал, что мог бы поучаствовать в пробах и на роль Ленина, но уже нашлось несколько превосходных двойников советского вождя, нанятых агентством. Двойник Гитлера рассказал мне про один любопытный случай. Когда он репетировал свою роль, то однажды вошел в немецкую пивную в Москве в полном обмундировании фюрера, надеясь заполучить несколько смешков и, возможно, бесплатное пиво. Реакция немцев удивила его; никто не осмеливался посмотреть в его сторону, и никто, казалось, не находил это забавным. Напротив, все повернулись к нему спиной, как будто он каким-то образом нарушил правила. «Ох уж эти немцы, – пожаловался мужчина. – У них совсем нет чувства юмора».
В то время мне показалось довольно комичным, что немцы так серьезно отнеслись к актеру-любителю из Казахстана и даже не угостили его пивом за все его старания. Человек не мог понять, почему немцы, говоря его словами, «протестуют против своей истории таким вот образом». У русских не возникало проблем с использованием образов Сталина и Ленина в комедийных кинофильмах, а в последнее время и с воссозданием некоторых памятников этим вождям в городах. «Это все наша история, – сказал он. – Теперь мы можем этим гордиться. Конечно, были определенные проблемы. Но у кого их нет?»
Со временем я ощущаю, что тоже утрачиваю чувство юмора, размышляя о запретах или об их отсутствии в нашем обращении с прошлым. Проблема, конечно же, заключается не в том, чтобы выдавать себя за вождей народов ради развлечения публики. Проблема в том, что такое «деидеологизированное» отношение стало новым стилем, почти что новым официальным дискурсом. Перестав быть деструктивным, он превратился в эстетическую норму, доминирующую моду; а как можно идти против моды, рискуя тем, что тебя сочтут лишенным чувства юмора – ведь в российском контексте это почти преступление?
В самом начале гласности была развернута критическая кампания против забвения тоталитарного прошлого и так называемой манкуртизации людей. Согласно старой казахской легенде, существовало племя жестоких воинов, которые зверски пытали своих пленников повязками из верблюжьей шкуры и превращали их в манкуртов – беззаботных рабов, людей без памяти[182]182
В соответствии с описанием Айтматова, шири – то есть кусок шкуры с шейной части только что убитого верблюда – надевали на голову жертвы, связывали, заковывали в колодки в особом положении и оставляли в пустыне на несколько дней. Неспособный сдвинуться с места и даже коснуться земли головой пленник – либо умирал, либо сходил с ума, теряя воспоминания о прошлом. – Примеч. пер.
[Закрыть]. Манкурт, описанный в романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится день» (1981)[183]183
Роман был впервые опубликован в 1980 году в журнале «Новый мир». Более поздние публикации выходили под другим названием – «Буранный полустанок». – Примеч. пер.
[Закрыть], стал метафорой homo sovieticus в эпоху гласности[184]184
По теме исторической памяти в эпоху гласности см.: Ferretti M. La memoria mutilata: la Russia ricorda. Milano: Corbaccio, 1993.
[Закрыть]. Десять лет спустя кажется, что эта борьба против манкуртизации уже стала историей, а манкурты – люди без памяти – снова впали в забвение. Более того, интеллектуалы эпохи гласности, с чувством моральной ответственности и страстной серьезностью, стали вымирающим видом и вышли из моды. Оглядываясь назад через десять лет после распада Советского Союза, понимаешь, что, несмотря на большие социальные преобразования, публикацию раскрывающих историю документов и давление личных воспоминаний, краткосрочная публичная рефлексия на тему коммунистического опыта и, в частности, государственных репрессий так и не привела к каким-либо институциональным изменениям. Суд над Коммунистической партией превратился в бюрократический фарс, а Комитет по установлению истины и примирению так и не появился – ни в каком виде. Едва ли можно всерьез говорить о признании коллективной травмы прошлого; но если это иногда и признавалось, то все пострадавшие представлялись как невинные жертвы или винтики в системе, действующие строго по приказу. Кампания по восстановлению памяти сменилась новым стремлением к выдуманному антиисторическому прошлому, эпохе стабильности и нормальной жизни. Эта массовая ностальгия – своего рода всенародный кризис среднего возраста; многие тоскуют по временам своего детства и своей юности, проецируя личные эмоциональные воспоминания на широкую историческую перспективу, внося свою лепту в коллективное избирательное забвение.
Ностальгия работает как обоюдоострый нож: она представляется эмоциональным противоядием политике и, таким образом, остается наилучшим политическим инструментом. В эпоху глобального недоверия, когда политика стала грязным словом, мудрые политики пытаются казаться аполитичными, чтобы достучаться до разочарованного и не всегда молчаливого большинства: они играют на саксофоне, как Клинтон, танцуют, как Ельцин, целуются, как Гор, выигрывают поединки в дзюдо и обожают собак, как Путин. Хотя отвращение к политике является глобальным явлением, в России массовая ностальгия конца 1990‐х годов схожа с поздней советской эпохой наличием абсолютного недоверия к каким-либо политическим институтам, стремлением к самоизоляции от общественной жизни и опорой на язык полунамеков, характерный для тесного межличностного общения. Что же позволяет обыденным советским мифам, привычкам и практикам сохраняться через много лет после краха марксистско-ленинской идеологии? Как именно связана ностальгия с началом и концом Советского Союза?
Основополагающее событие коммунистической истории XX столетия – Великая Октябрьская социалистическая революция – было радикально антиностальгическим, но в то же время оно стало первым постановочным действом коммунистической реставрации. Проблема заключалась в том, что реальный штурм Зимнего дворца, сопровождавшийся большим количеством мародерства и небольшим кровопролитием, остался очень плохо задокументированным. Это отсутствие документальных свидетельств и общественной памяти было сдобрено ресентиментом театральной реконструкции революционных событий. Массовые спектакли, такие как «Штурм Зимнего дворца», который представлял героические события Октября, и «Мистерия освобожденного труда»[185]185
«Гимн освобожденному труду» (другое название «Мистерия освобожденного труда») – агитационный фильм-экранизация массового действа 1 мая 1920 года в Петрограде, состоявшегося у здания бывшей фондовой биржи. Режиссеры: А. Кугель, С. Маслов, художники: М. Добужинский, Ю. Анненков. Производство: ПОФКО. Кинолента не сохранилась. – Примеч. пер.
[Закрыть] – советский агитфильм 1920 года, поставленный Александром Кугелем, в котором использовались около 10 000 участников массовки[186]186
Имеются сведения, что в реальности в массовке было задействовано не более 4000 человек. – Примеч. пер.
[Закрыть] и музыка Вагнера, гремевшая на Дворцовой площади, показали яркий путь к социалистической утопии. Это было тотальное произведение искусства, о котором даже Вагнер не мог и мечтать. Для 10 000 человек массовки, которые принимали участие в этом мероприятии, память о массовом действе вытеснила куда менее зрелищные воспоминания о фактических событиях октября 1917 года, которые мало кто тогда воспринимал как революцию. Это массовое зрелище стало первым советским ритуалом, который со временем выродился в демонстрацию Седьмого ноября, в которой советские люди участвовали в привычном добровольно-принудительном порядке в течение семидесяти лет.
После октябрьской революции советские лидеры совершили одну незаметную национализацию – национализацию времени[187]187
Hoskins G. A. Memory in a Totalitarian Society: The Case of the Soviet Union // Thomas Butler, ed. Memory, History, Culture and the Mind. Oxford; New York: Basil Blackwell, 1989. Р. 115.
[Закрыть]. Революция была представлена как последний акт мировой истории с окончательной победой коммунизма и «концом истории». Революционная деятельность, едва ли воспринимавшаяся как некий деструктивный модернистский эксперимент в сфере общественной свободы или непредсказуемости, подчинялась логике необходимости. Большинство случаев массовых революционных действий в 1917 и 1918 годах, от февральских демонстраций до кронштадтского восстания, входили в общественную атмосферу в отреставрированной форме, только в той мере, в какой они способствовали официальной телеологии Октября. Поэтому ностальгия, особенно в первые годы после революции, была не просто нехорошим словом, но контрреволюционной провокацией. Слово «ностальгия», очевидным образом, просто отсутствовало в революционной лексике. Ностальгия неизменно оказывалась опасным «атавизмом» буржуазного упадка, которому не было места в новом мире. Ранняя революционная идеология была всецело ориентированной в будущее, утопической и телеологической. Но это был также пример модернизма, заимствующего из доисторических времен; Маркс испытывал особую привязанность к «первобытному коммунизму», существовавшему в эпоху до капиталистической эксплуатации, а также к героям прошлого: Спартаку и Робин Гуду. Прошлое было переписано «научно» как предварявшее и легитимирующее революцию. Коммунистическая телеология была чрезвычайно мощной и опьяняющей; и ее утрата в посткоммунистическом мире для многих людей обернулась острой тоской по прошлому. Поэтому каждый из них теперь ищет замену идеологии, очередной убедительный сюжет русского пути, который поможет разобраться в хаосе настоящего. Либеральные реформаторы говорят о воссоединении с Западом, представляя советский период как кривую дорожку к модернизации; консерваторы хотят вернуться к дореволюционным временам – к Российской империи и ее традиционным ценностям; в то время как коммунисты ищут российско-советское пасторальное прошлое, представленное в мюзиклах, оставшихся от сталинской эпохи.
С 1920‐х годов официальный советский дискурс объединил риторику революции и реставрации. Несмотря на массовые разрушения, коллективизацию, голод на Украине и чистки, период 1930‐х годов был представлен в кино и официальном искусстве того времени как эпоха процветания, стабильности и нормальности. Правительство Сталина развернуло широкомасштабную кампанию «культурности» кухни, которая одновременно обучала правильным манерам за столом, семейным ценностям и сталинской идеологии в попытке создать единую культуру[188]188
Речь идет о внедрении в советскую жизнь в 1930‐е годы понятия «культурности». См.: Волков В. В. Концепция культурности, 1935–1938 годы: советская цивилизация и повседневность сталинского времени // Социологический журнал. 1996. № 1–2. Волков пишет: «Массы людей требовалось приучить к городскому образу жизни. <…> новый пролетариат считался идеологическим союзником режима и от него во многом зависел успех индустриализации <…> Чтобы дисциплинировать новое городское население, его необходимо было цивилизовать: превратить бывших крестьян в членов современного общества. <…> Когда в конце 1935 года в известной речи Сталина было официально санкционировано право на веселую зажиточную жизнь, именно понятие культурности стало отождествляться с высокими стандартами индивидуального потребления <…> скатерти – еще один нормативный элемент культурного обихода. Белая скатерть выступает как обобщенный показатель культурности и в то же время связывает диету, гигиену и правила поведения за столом». Статья, где приводятся основы рационального питания, заканчивается следующим поучением: «Если стол накрыт чистой скатертью, то обед кажется вкусным и хорошо усваивается. Культурно жить – это также значит культурно питаться». «Внедрение» скатертей в рабочих столовых сопровождалось и другими изменениями. Длинные сколоченные из досок столы и общие скамейки заменялись отдельными столиками на 4–6 человек и стульями. Это, в свою очередь, влияло на поведение за столом. Отдельный стол с белой скатертью, с вилками и ножами оказывал дисциплинирующее воздействие, заставлял людей следить за своими манерами. «За такой стол не сядешь с грязными руками». – Примеч. пер.
[Закрыть]. Вместо интернациональных аутсайдеров, таких как Робин Гуд, русские национальные герои – в основном цари – снова были в моде во всем своем великолепии. Александр Невский, Иван Грозный и Петр Великий были представлены как великие предшественники Сталина. На советской выставке достижений демонстрировалось невероятное шоу советских народов с пышными национальными костюмами, народной музыкой и полным собранием сочинений Ленина и Сталина, переведенных на все национальные языки. Создание советских национальностей, сопровождавшееся преследованием и переселением тех, кто не вписывался в эти рамки, – это еще одна версия выдуманных традиций XIX века с новым идеологическим флером. Опыт Второй мировой войны потребовал превратить советский патриотизм в подлинно массовое явление. В результате довоенный период, представленный в веселых мюзиклах, публичных торжествах и грандиозной градостроительной реконструкции, стал рассматриваться как основа советской традиции. Послевоенный период, особенно хрущевская оттепель, был в наибольшей степени ориентированным в будущее за всю советскую историю, судя по официальной и неофициальной культуре. Иностранные кинозвезды, которые приезжали в Советский Союз, такие как легендарная французская пара – Симона Синьоре и Ив Монтан, стали новыми героями молодежи. Хрущев пообещал, что поколение 1960‐х (мое поколение) будет жить при коммунизме и покорит космос[189]189
Знаменитая фраза «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» завершала Третью программу КПСС, представленную на XXII съезде партии, прошедшем с 17 по 31 октября 1961 года в новом здании Кремлевского Дворца съездов в Москве. Позднее заключительная фраза была изъята из программы. Никита Хрущев на съезде также обещал «построить коммунизм к 1980 году». – Примеч. пер.
[Закрыть]. Когда мы росли, казалось, что мы отправимся на Луну гораздо раньше, чем за границу. Для ностальгии попросту не было времени.
В 1968 году, в тот самый момент, когда советские танки шли на Прагу, наметился водораздел. К концу 1970‐х годов революционная космическая миссия была забыта самими советскими вождями. Так как после оттепели пришел застой, вернулась и ностальгия. Эпоха Брежнева и Андропова, период холодной войны, – остается спорной темой: для одних – это время стабильности и лучшей жизни, для других – время официозной коррупции, широкого распространения цинизма, деградации идеологии и развития элитных сетей и кланов. В 1968 году ученик средней школы Владимир Путин, вдохновленный популярным телевизионным многосерийным фильмом «Щит и меч», рассказывавшим о советских агентах, работавших в нацистской Германии, отправился в местное управление КГБ в Ленинграде и попросился на службу. Тридцать лет спустя президент России вспоминает эту историю с большой любовью, оставаясь верным мечтам своей юности. Именно в поздней советской эпохе можно обнаружить предпосылки к будущему развитию российской власти. Кажется, что ностальгия по брежневским временам, возникшая в 1990‐е годы, была частично основана на старых советских фильмах, которые в то время вновь появились на российском телевидении. Многие российские телезрители, уставшие от потрясений и утратившие иллюзии постсоветского десятилетия, настроились на определенную волну и вдруг стали верить, что эти фильмы отражают настоящую советскую жизнь; они как будто стали забывать о личном опыте жизни в СССР, а также о собственном отношении к просмотру таких фильмов двадцатью годами ранее – с гораздо большим скептицизмом и двусмысленностью.