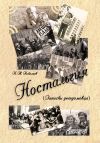Текст книги "Будущее ностальгии"

Автор книги: Светлана Бойм
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Несмотря на огромные различия между СССР и Восточной и Центральной Европой, можно говорить об одной общей черте – альтернативной интеллектуальной жизни в этих странах с 1960‐х по 1980‐е годы: развитии «контрпамяти»[190]190
Термин «контрпамять» был впервые введен в обиход французским философом-структуралистом Мишелем Фуко в работе «Ницше, генеалогия и история», опубликованной в 1971 году. Эта работа явилась первой в периоде его творчества, который принято именовать «генеалогией власти». Фуко в этот период исследовал типы господства и подчинения, возрождение субъектности, отношения между личностью и властью и т. д. – Примеч. пер.
[Закрыть], заложившей основу демократической оппозиции и, что отчасти спорно, возможно, являвшейся прототипом гражданского общества, которое уже начало формироваться при коммунистическом режиме. Контрпамять по большей части являлась устной памятью, передаваемой на словах между близкими друзьями и членами семьи, и распространялась на широкие круги общества через неофициальные каналы коммуникации. Альтернативное видение прошлого, настоящего и будущего редко обсуждалось открыто; скорее эта информация транслировалась через полунамеки, шутки и двойное кодирование. Это мог быть анекдот о Брежневе и Брижит Бардо, экземпляр самиздата «ГУЛАГа»[191]191
Сокращенное наименование художественно-исторического произведения Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», тайно написанного с 1958 по 1968 год и впервые частично опубликованного в Париже в 1973 году. Первая советская публикация книги состоялась только в 1989 году. До этого в СССР текст можно было достать исключительно в самиздатовской копии. – Примеч. пер.
[Закрыть] или «Лолиты» Набокова или семейная фотокарточка, на которой могли быть запечатлены дядя или тетя, сгинувшие в сталинских лагерях, – нечто подобное, как правило, и являлось свидетельством альтернативной версии исторических событий. Нередко контрпамять основывалась на поиске темных пятен в официозном историческом нарративе или даже темных пятен в своей собственной жизни. «Борьба человека с властью – это борьба памяти с забвением»[192]192
Знаменитый афоризм из «Книги смеха и забвения» – первого эмигрантского романа Милана Кундеры, вышедшего в Париже в 1979 году на французском языке. Фраза в переводе на русский Нины Шульгиной. – Примеч. пер.
[Закрыть], – эти слова Милана Кундеры могли бы служить девизом поколения послевоенных диссидентов и интеллектуалов по всей Восточной Европе с 1960‐х годов до конца 1980‐х[193]193
Kundera M. The Book of Laughter and Forgetting. New York: King Penguin, 1980. Р. 3. Современный разбор темы исторической памяти в Восточной и Центральной Европе см.: Rev I. Parallel Autopsies // Representations. 1995. No. 49. Р. 15–40.
[Закрыть]. Роман Кундеры «Книга смеха и забвения», опубликованный после изгнания автора во Францию, раскрыл некоторые из механизмов контрпамяти после 1968 года. В романе описывается, например, небрежный фотомонтаж исторического снимка, на котором был стерт один из лидеров партии, который попал в немилость; хотя он был вымаран из истории, его меховая шапка осталась на голове другого мерзнущего аппаратчика, Клемента Готвальда. Эта меховая шапка служила идеальным триггером контрпамяти, указывая на швы и пробелы в официальной истории. Практика контрпамяти не позволяла инакомыслящим интеллектуалам избежать ответственности; они должны были чутко следить за собственными соприкосновениями с режимом, который умудрялся проникать даже в самые личные любовные дела. У каждого в собственном прошлом был личный эквивалент забытой меховой шапки, которая компрометировала их настоящее, будь то любовные письма к заядлому сталинисту или танцы на демонстрациях в разгар чисток. Эти темные пятна не позволяли впадать в ностальгическую реставрацию прошлого.
Контрпамять была не просто сборником альтернативных фактов и текстов, но и альтернативным способом чтения[194]194
Здесь, вероятно, чтение стоит понимать в расширенной философской трактовке этого слова. Чтение – как этический акт. Например, в философии Ж. Деррида. – Примеч. пер.
[Закрыть], используя двусмысленность, иронию, двойное кодирование, частную интонацию, которая бросала вызов официальному бюрократическому и политическому дискурсу. Лидия Гинзбург[195]195
Лидия Яковлевна Гинзбург (1902–1990) – выдающийся советский писатель, историк, литературный критик и мемуарист. Гинзбург была хорошо знакома с классиками русской советской литературы и состояла со многими из них в многолетней переписке. Исследовала авангардную литературу, модернизм и новые приемы в прозе и поэзии. Многие из уникальных критических текстов и воспоминаний Лидии Гинзбург были впервые опубликованы только в поздние перестроечные годы. – Примеч. пер.
[Закрыть] пишет, что человека можно было узнавать по интонации, по тому способу, которым он воспроизводил официозные клише. Это были не литературные эксперименты, а инструменты выживания и основы критической рефлексии. Осознанная приверженность к сохранению контрпамяти обеспечивала интеллектуалу особую роль в обществе. Люди, практиковавшие поддержание контрпамяти, первыми раскрыли историю ГУЛАГа и сталинских репрессий. Контрпамять основывалась на идее «внутренней свободы», независимости от государственного контроля, которой можно было достичь даже в тюрьме.
Одна из особенностей контрпамяти, важная для понимания посткоммунистической ностальгии, заключается в том, что она исходила не из каких-либо институтов, а в значительной степени зависела от неформальных сообществ, личных связей и дружеских отношений. Недоверие к формальным институциям и ко всему, напоминающему официальный дискурс, сохранялось и после краха коммунизма. Этот способ общения – с недосказанностью и круговой порукой молчания – обернулся недоверием к новым институтам и политическим партиям, что в конечном счете привело к невозможности закрепить некоторые из достижений перестройки.
Либерализация прессы в конце 1980‐х годов началась сверху. Слово перестройка означает «реструктуризация» или ремонт, а не новое строительство. В то время как Горбачев объявил, что перестройка – это новая революция, публичные дебаты во время гласности и перестройки оказались предельно критическими по отношению к революционной риторике. Во время гласности каждый становился историком-любителем, ищущим черные дыры и пробелы истории. К прошлому было почти такое же эйфорическое отношение, как к будущему после революции, – и когда табу ниспровергались, прошлое менялось с каждым днем.
«Под портретом Сталина сидит красивая проститутка, курящая марихуану». Так можно описать типичную сцену из российского фильма конца 1980‐х годов. Радостно сосуществовали наркотики, секс и критические откровения о сталинизме – незавершенное дело первого этапа десталинизации конца 1950‐х годов. Отношение к прошлому едва ли было почтительным. Многие русские и восточно-европейские фильмы и произведения искусства того времени использовали различные формы контрпамяти, карнавала, китча и рефлексирующей ностальгии в целях совершения культурного экзорцизма, встряхивания исторических мифов, раскрытия механизмов соблазнения и массового гипноза, созависимости личной и официальной памяти[196]196
Boym S. Common Places: Mythologies of Everyday Life in Russia. Cambridge; London: Harvard University Press, 1994.
[Закрыть].
Тем не менее наступило поистине шоковое состояние, когда после перестройки и революций 1989 года в Восточной Европе стало ясно, что контрпамять не была общей и взаимно несогласованные практики критического анализа истории вскоре вышли из моды. Контрпамять больше не могла мобилизовать людей под общим флагом; теперь она оказалась разделенной и разнилась политически в диапазоне от социализма с человеческим лицом до ультраправого национализма и монархизма. Говоря словами Тони Джадта[197]197
Тони Джадт (Tony Judt, 1948–2010) – британский и американский историк, публицист, специалист по новейшей истории Европы, деятель левого движения. Выходец из еврейской семьи, Джадт начал с участия в марксистско-сионистском движении, в 1960‐е годы работал в кибуцах в Израиле. Позднее – жил и работал в США, занимаясь историческими исследованиями и работая над новыми концепциями левой (социал-демократической) идеологии. К числу его наиболее известных трудов относится книга «Postwar: A History of Europe since 1945» (Penguin Press, 2005), награжденная престижными премиями. – Примеч. пер.
[Закрыть], возникло «слишком много воспоминаний, слишком много прошлых событий, которые люди могут использовать, как правило, в качестве оружия против прошлого, принадлежащего кому-то другому»[198]198
Judt T. The Past Is Another Country: Myth and Memory in Post-War Europe // Daedalus. 1992. 21, 4 (Fall). Р. 99.
[Закрыть]. Постепенное снятие цензуры обернулось шквалом ранее неизвестных исторических документов и в то же время позволило темным течениям культуры начала XX века – с их многочисленными теориями заговора и историческими спекуляциями – выйти на поверхность.
У двух конкурирующих массовых движений, которые приобрели широкую известность в период перестройки, в названиях присутствует слово «память»: «Мемориал» и «Память». Общество «Память» было неоконсервативным движением, в основу идеологии которого легла скорбь по уничтоженной традиционной русской культуре[199]199
По большому счету некоторые идеи общества «Память» вполне безобидно пропагандировались в произведениях писателей-деревенщиков 1970‐х годов. Может показаться, что ностальгия по русской деревне должна была противоречить официальной советской идеологии, тем не менее советская власть не только терпела деятельность движения за национальное возрождение России, но даже поощряла его, начиная с поздней брежневской эпохи и далее. Аналогичным образом общество «Память» одновременно осуждалось КГБ и пользовалось его покровительством.
[Закрыть]. Ностальгия по разрушенному русскому национальному сообществу перерастала в порочные ксенофобские инвективы, которые вылились в чувство униженной гордости и народное негодование. Среди прочего члены общества «Память» пытались восстанавливать дореволюционную российскую правую культуру, такую как «Протоколы сионских мудрецов», и распространяли мифологическое и конспирологическое мировоззрение с единственным козлом отпущения – жидомасонским заговором, который было сподручно обвинять как в советских, так и в постсоветских проблемах, ругать как за тоталитаризм, так и за демократию. Предположительно поддерживаемое КГБ, общество «Память» развалилось в начале 1990‐х годов, в то время как многие их идеи проникли в мейнстрим[200]200
Официально организация существует до сих пор и является старейшим ультраправым объединением в постсоветской России. Датой основания считается 1980 год. В настоящий момент носит название НПФ «Память» (Национально-патриотический фронт «Память»). Из истории движения известно, что оно на протяжении почти всей своей истории носило раздробленный и слабо организованный характер, что объяснялось множеством конфликтов между идеологами различных ее частей и отделений. – Примеч. пер.
[Закрыть]. Кроме того, проникнув в сферу сленга, некоторые из экстремальных заявлений «Памяти» стали частью радикального эпатажа панков и молодежных групп 1990‐х годов (вероятно, имеется в виду знаменитая песня Егора Летова и группы «Гражданская оборона» «Общество „Память“», ставшая одной из наиболее популярных в среде панковской и рок-тусовки 1990‐х годов. В тексте песни, например, есть такие лозунги: «Общество „Память“ – святой наш отец нас поведет раздирать и колоть», «Мы призываем крестом и мечом! Вешай жидов и Россию спасай!» и т. д. Надо отметить, что автор и исполнитель песни Егор Летов поддерживал тесные отношения с одним из участников и идеологов «Памяти» Александром Дугиным, вместе с которым, а также с Сергеем Курехиным и Эдуардом Лимоновым они позднее организовали движение «НБП» (Национал-большевистская партия)[201]201
Егор Летов всегда подчеркивал глубоко иронический характер этой песни и исполнял ее, в том числе – по просьбам публики, во время гастролей в Израиле. – Примеч. пер.
[Закрыть].
В отличие от «Памяти», общество «Мемориал» было радикально антиностальгическим. Оно стало широким движением неофициальных объединений и социальных групп (начиная с 1960‐х годов), которые видели свою цель в восстановлении и увековечении памяти тех, кто сгинул в сталинских лагерях, – от известных политических лидеров и писателей (Бухарин, Мандельштам, Бабель, Мейерхольд) до простых людей. Движение, появившееся в конце 1960‐х, к 1990‐м годам насчитывало около 50 000 членов, «Мемориал» был примером общественной инициативы, которая отражала возникновение в советских условиях гражданского общества. Они боролись за открытие архивов и за то, чтобы сделать прошлое более прозрачным[202]202
Yaroshevski D. Political Participation and Public Memory: The Memorial Movement in the USSR, 1987–1989 // History and Memory. 1990. Vol. 2. No. 2 (Winter). Р. 5–32. Поэтому в первые дни перестройки «архивная историческая память» – то, что в западной исторической традиции воспринималось как само собой разумеющееся и критиковалось как способ объективации прошлого, – превратилась в фактор, подрывающий авторитет власти, и способствовала трансформации настоящего.
Общество официально зарегистрировано в России как некоммерческая организация, носящая название «Международное историко-просветительское правозащитное и благотворительное общество „Мемориал“». В его составе есть множество отделений в России и за рубежом, правозащитный центр (ПЦ «Мемориал»), архив, библиотека и т. д. В 2013 году организация оказалась под ударом в связи с принятием закона об «иностранных агентах»: ей был присвоен соответствующий статус. Такое решение было связано с тем, что организация имеет иностранные источники финансирования и занимается политической деятельностью. Новый статус усложнил работу организации, но не привел ни к ее ликвидации, ни к приостановке ее деятельности. – Примеч. пер.
[Закрыть].
«Бум памяти» периода перестройки, как представляется, сыграл не только культурную, но и прямую политическую роль. Это движение было в значительной степени ответственным за события августа 1991 года и массовое сопротивление консервативному перевороту в Москве и Санкт-Петербурге, в ходе которого была предпринята попытка сместить Горбачева и восстановить старый советский режим с помощью танков. Свергнутые памятники главе КГБ Феликсу Дзержинскому и множество разрушенных типовых статуй Ленина на всем протяжении бывшего Советского Союза стали символами народного гнева. Так что это стало неожиданностью, когда всего шесть лет спустя памятники партийным лидерам, которые когда-то лежали на траве в московском парке в качестве напоминания о событиях августа 1991 года, были снова подняты, отретушированы и очищены, демонстрируя новое пасторальное видение советского прошлого. Упущенный потенциал политической трансформации страны уступил дорогу массовой ностальгии.
В середине 1990‐х годов многие демократически ориентированные журналисты подняли тревогу по поводу новой волны нерефлексирующей ностальгии в средствах массовой информации и общественном дискурсе. Наталья Иванова писала, что настоящее превратилось в «носто-ящее»; другие отмечали, что массовая ностальгия и настороженное отношение к будущему стали причиной свертывания экономических и политических реформ. «Приватизация ностальгии» шла рука об руку с экономической приватизацией, превращая личную ностальгию по временам чьей-то золотой юности 1970‐х годов в общественно-политический инструмент[203]203
Шендерович В. Приватизация ностальгии // Московские новости. 1996. 31 марта. С. 16.
[Закрыть]. Российский социолог культуры Даниил Дондурей[204]204
Даниил Борисович Дондурей (1947–2017) – советский и российский искусствовед, исследователь кино, культуролог, историк и правозащитник. Главный редактор влиятельного журнала «Искусство кино». – Примеч. пер.
[Закрыть] в 1997 году выдвинул интересную гипотезу о том, что новые власти недвусмысленно поощряют эпидемию ностальгии по поводу советского стиля, чтобы отвлечь внимание населения от своих швейцарских банковских счетов и непрозрачных способов управления экономикой страны. Что же касается реформаторов, то они не смогли сделать достаточно хороший пиар своих идей и проектов, которые, на самом деле, никогда не имели шансов на надлежащее осуществление[205]205
Даниил Дондурей, интервью с автором, Москва, июль 1997 года. Дондурей являлся главным редактором издания «Искусство кино».
[Закрыть]. По мнению Дондурея, сплав достижений постсоветской эпохи с ностальгией по советским и досоветским временам был поставлен на службу бывшим советским элитам, которые перелицевались, превратившись в новый российский истеблишмент. В то время как общественное порицание обрушивалось на молодых реформаторов – новичков в правительстве, – старая номенклатура унаследовала большую часть богатства страны, так, будто это происходило в соответствии с каким-то непреложным законом природы[206]206
Очевидно, что ностальгия 1990‐х годов по режиму Брежнева – нечто большее чем просто занятное явление, существующее на низовом уровне; она обрела поддержку широкого круга политиков: в диапазоне от Зюганова до Лужкова. Это, возможно, отчасти связано с тем, что большинство советских политических и бюрократических институтов остались практически неизменными в постсоветский период; опираясь на элитные неформальные связи, они препятствовали прямыми и косвенными средствами добросовестному проведению экономических и правовых реформ. Если в других странах Восточной Европы или бывшей ГДР часто говорят о чрезмерности актов возмездия и люстрации, в ходе которой бывшие активные члены партии и агенты государственной безопасности снимались с правительственных постов, в России даже дискуссии о минимальном возмездии и признании ответственности за прошлое замалчивались с начала 1990‐х годов и рьяно назывались охотой на ведьм.
[Закрыть].
Ностальгия стала защитным механизмом против ускоренного ритма перемен и экономической шоковой терапии. Некоторые утверждают, что экономические реформаторы начала 1990‐х годов слишком быстро свернули широкую демократическую и социальную повестку в экономике, обратившись в слепую веру и поверив в спасительную миссию свободного рынка. Вместо трудоемкого развития демократических институтов и улучшения социальных условий для населения – как западные правительства, так и радикальные реформаторы в России в значительной степени впали в экономический детерминизм, рассматривая рынок как единственно возможную панацею для страны и двигатель прогресса как таковой. Казалось, что потерянная революционная телеология, которая давала цель и смысл окружающему хаосу перехода, снова была найдена, только на этот раз она была не марксистско-ленинской, а капиталистической. Но они едва ли являются главными виновниками произошедшего. К полной их неожиданности, так называемый свободный рынок в России приобрел сомнительного партнера в лице искусного аппаратчика советской эпохи, в чьих интересах оказалось развертывание рыночной экономики в тени сильного государства, которое мало интересовалось демократической социальной повесткой.
То, что в реальности стояло за социально-экономическими преобразованиями в России в 1990‐х годах, как-то ускользнуло от современников и, вероятно, озадачит будущих историков[207]207
Весьма осторожный намек автора на реальные процессы передела капитала и ресурсов в первые постсоветские годы. Как известно, в результате стремительной, спорной и часто непрозрачной приватизации бывшей советской государственной собственности ключевые ресурсы оказались в руках узкой группы лиц, часть из которых на сегодняшний день составляют правящую элиту России. Присвоение ресурсов и производств происходило при активном участии политиков и бизнесменов из Европы и США, которые в настоящий момент продолжают быть совладельцами и теневыми хозяевами ряда крупнейших российских активов. – Примеч. пер.
[Закрыть]. Постсоветская Россия была одним из самых противоречивых, захватывающих и спорных мест в мире, где радикальная свобода, непредсказуемость и социальные эксперименты сочетались с фатализмом, выживанием советских политических институтов, возрождением религии и традиционных ценностей. Культурная жизнь в России перестала быть централизованной и утратила разделение на официальную и неофициальную; она находилась в постоянном кризисе, ускорялась, трансформировалась и иногда воспалялась, как и само общество. Тем не менее при изучении прессы, средств массовой информации и публичного дискурса можно заметить постепенный сдвиг, который произошел где-то к середине 1990‐х годов. Внезапно слово «старый» стало популярным и коммерчески выгодным, куда эффективнее влияя на продажи товаров, чем слово «новый». Одним из бестселлеров на российском рынке был CD-сборник «Старые песни о главном», а одна из самых популярных телевизионных программ называлась «Старая квартира». Слово «старый» в данном случае относится к антиисторическому образу старых добрых лет, когда все были молодыми – за некоторое время до больших перемен.
Советская популярная культура 1970‐х и 1980‐х годов была пронизана мечтами о бегстве; в российской поп-культуре 1990‐х появилось много историй о возвращении, как правило, из‐за рубежа. Как будто основная сюжетная психологическая драма русских персонажей непременно требует какого-то геополитического фона. Встреча между Россией и Западом часто заканчивается «возвращением блудного сына», будь то стареющий эмигрант или интердевочка, которая возвращается на родину после многочисленных злоключений за границей. Фигура иностранца в литературе и фильмах часто используется для того, чтобы переосмыслить местную культуру, чтобы дать ей альтернативную перспективу. Сегодня образ эмигранта используется, чтобы позволить уроженцу снова влюбиться в свою родину, чтобы вновь открыть наслаждение чем-то очень давно знакомым. Исследования недавно опубликованной русской эмигрантской литературы XX века часто касались ностальгии эмигрантов по России. Порой художники и писатели, которые так никогда и не вернулись назад, такие как Набоков и Бродский, превращались в народном сознании в блудных сыновей, которыми они, на самом деле, отказывались быть. Действительно, российская граница была теперь открытой, но в основном – для ностальгических поездок туда и обратно.
В популярных рок-песнях начала 1990‐х годов страна ностальгии – это не Россия, а Америка: «Гудбай Америка, о-о-о, где я не буду никогда»[208]208
Строчка из популярной песни группы «Наутилус Помпилиус» «Последнее письмо (Гудбай, Америка)», написанной Вячеславом Бутусовым в 1985 году. – Примеч. пер.
[Закрыть]. Это – эмоциональное прощание с Америкой неофициального советского воображения. Эта особая форма американской мечты закончилась; Америка оказалась утраченной родиной, которой, на самом деле, никогда не было, и певец никогда не посетит ее снова, кроме как в песне. Это была русская версия «Back in the USSR», прощание с контркультурной мечтой времен холодной войны. Теперь можно было слушать эту песню десятилетней давности с ностальгией; она все еще сохраняла меланхоличные следы популярного романа с Америкой, которые начали быстро испаряться, когда американская поп-культура проникла в Россию.
В период перехода от перестройки к реставрации конца 1990‐х годов мы наблюдаем парадоксальное изменение отношений с Западом, которое, по-видимому, обратно пропорционально уровню доступности западных товаров. Перестройка сопровождалась бумом памяти, иронической и рефлексирующей ностальгией в искусстве и оживленными дискуссиями о прошлом в прессе; последнее сопровождалось популярной ностальгией либо по былой славе страны, либо как минимум по стабильности и нормальности, которые предшествовали эпохе больших перемен. Во время перестройки битвы памяти были в большей степени внутренними, порой радикальными, направленными против основ советской мифологии, например против Октябрьской революции. Запад все еще считался мифическим конструктом альтернативных мечтаний времен позднего коммунизма, а в общественных дискуссиях больше внимания уделялось «демократизации», нежели экономике. Популярным лозунгом перестройки была «деидеологизация», которая представлялась как практика экзорцизма по отношению к последним остаткам советского марксизма, а также – как критика любой политизации повседневной жизни.
Если культура перестройки была в целом прозападной – хотя, на самом деле, очень мало было известно о реальной жизни на Западе и экономике свободного рынка, – культура реставрации более критична по отношению к Западу и является более патриотической и в то же время гораздо больше связана с глобальным языком и коммерческой культурой. Во время фактического столкновения с «глобальной культурой» (часто в виде популярной развлекательной продукции третьего сорта) Запад стал деромантизироваться, и разочарование часто было взаимным. Деидеологизированное обращение с русской и советской историей стало привычным, а не контркультурным, что привело к новому принятию национального прошлого. Ностальгия варьировалась от крайних форм национального патриотизма до простого стремления к нормальной и стабильной повседневной жизни.
На фоне повышенного интереса к прошлому устремления в будущее начали сокращаться. Недавнее социологическое исследование, проведенное непосредственно перед финансовым кризисом в августе 1998 года по заказу Московского сберегательного банка, показало, что «горизонт ожиданий» и пространство будущего у вполне состоятельных москвичей оказались ýже и короче, чем когда-либо ранее[209]209
Я благодарна доктору Екатерине Антонюк за то, что она поделилась со мной результатами своих исследований.
[Закрыть]. Именно поэтому так мало людей сберегли свои денежные средства в «западной манере». В середине 1990‐х многие сознательные москвичи инвестировали в невероятные финансовые схемы-пирамиды с подозрительно соблазнительными именами, такими как «Чара»[210]210
«Чара-банк», являвшийся частью финансового холдинга «Чара», был основан супругами Владимиром Радчуком и Мариной Францевой. Банк функционировал с 31 декабря 1992 года до 14 марта 1996 года, принимая вклады под высокие проценты, в последней стадии превратившись в финансовую пирамиду с огромными долгами в более чем 100 миллиардов рублей. Считается, что средства через сторонние компании выводились за границу. Жертвами обмана стали десятки тысяч вкладчиков, в том числе ряд деятелей медицины и культуры – работников театра и кино, художников. Последнее произошло благодаря тому, что Радчук – сын одного из чиновников Госкино и Францева – дочь известного кардиохирурга воспользовались влиянием родителей в среде творческой интеллигенции и ведущих медиков. Владимир Радчук погиб в 1994 году, а его супруга после длительного нахождения в розыске оказалась за решеткой. – Примеч. пер.
[Закрыть], которые обещали нереалистично счастливое капиталистическое будущее – почти такое же яркое, как коммунистическое[211]211
Я благодарна московскому историку и критику доктору Андрею Зорину за то, что он любезно предоставил мне свою инвестиционную экспертизу.
[Закрыть]. Название «Чара» – больше подходящее для легкого летучего парфюма, чем для сберегательных облигаций – казалось, намекало на то, что предприятие, на самом деле, соблазняет, а не делает бизнес. У многих возобладал принцип Carpe diem[212]212
Лат. – «живи сегодняшним днем», «живи настоящим». – Примеч. пер.
[Закрыть]; вместо того чтобы сегодня сэкономить то, что можно будет потратить завтра, люди тратят сегодня то, что они могут потратить сегодня, как будто завтра не наступит. Мудрейшие граждане в это время следуют старому принципу – «надежнее держать деньги в банке» – игра слов, где подразумевается, что последнее слово означает банку (копилку), а не финансово-кредитное учреждение. Таким образом, из территории завтрашнего дня Россия превратилась в страну сегодняшнего дня, мечтающую о дне вчерашнем.
В середине 1990‐х годов в России появились гибридные формы ностальгии, которые интегрировали глобальную культуру в местный контекст. Иностранцы часто жаловались, что культура бума памяти слишком русская, слишком нагружена намеками и локальными аллюзиями, с трудным синтаксисом и сложностью, непереводимой на другой язык. Новая культура, несомненно, являясь антизападной, была гораздо более понятной, более сопоставимой с практиками нового национального подъема в других частях света. Я бы назвала ее «глокальной» (glocal), поскольку это культура, которая использует глобальный язык для выражения локального колорита. В этом отношении посткоммунистическая ностальгия похожа на аналог культуры XIX века, которая использовала обобщенный язык романтизма для универсальной валидации каждой конкретной вещи. Коммерческая массовая ностальгия поставила новые технологии и принципы тиражирования на службу ретроградным идеям. Русская ностальгия предполагалась не только для нужд внутреннего, но и для внешнего – туристического потребления и, следовательно, должна быть легко воспринимаемой и конвертируемой.
Одним из патриотических деяний мэра Москвы стало создание первой российской фастфуд-сети. Лужков предложил «здоровую альтернативу Макдоналдсу – традиционное русское бистро». Название, конечно, не случайное. «Bistro» – одно из немногих русских слов, проникших в европейские языки, означает «быстро». Считается, что именно это слово выкрикивали русские солдаты-победители в Париже в 1814 году, когда они прошли маршем по Франции после победы над Наполеоном и нуждались в быстром питании. Французы адаптировались к вкусам солдат и создали форму кафе, которая позже была заново открыта в России. Впрочем, в стилистике русского бистро не так уж много отсылок к традициям; оно в большей степени американское, нежели французское, но важно то, что пироги с капустой являются домашними и очень вкусными, что доказывает – российский фастфуд вовсе не является результатом путаницы в терминологии[213]213
Накануне кризиса августа 1998 года я узнала, что в Москве появилось несколько новых ресторанов национальной кухни. Сначала я посетила украинский «Шинок», где насладилась дружелюбием официантов в национальных костюмах, которые говорили на нескольких языках. В центре ресторана находится типичный украинский дворик, в котором есть корова и крестьянка в типичной одежде. Через несколько дней я побывала в грузинском ресторане «Тифлис» и вновь любовалась услужливыми официантами и типичным грузинским двориком с козой и селянкой. Оба ресторана были просто отличными и с гордостью демонстрировали свое происхождение. Притом что оба они были совершенно не советскими, они скорее напомнили мне о «народной кухне» в том виде, в каком она существует на Западе. Возможно, это вовсе не ностальгия, а вполне здравый прагматичный и вкусный вариант локальной идентичности в глобальном контексте.
[Закрыть].
Глокальная ностальгия заметна и в новом российском кино, которое испытывает на себе влияние глобального языка Голливуда, с русскими завихрениями. Голливудское кино часто смешивает любовь и политику: любовь универсальна, а политика – начало разделяющее и, по сути, локальное. Действительно, большая любовь помогает сделать политику более понятной. Таким образом, Октябрьская революция вышла на американский киноэкран вместе с любовной историей Джона Рида, Вторая мировая война разворачивается на фоне событий «Английского пациента»[214]214
«The English Patient», «Английский пациент» – драма англо-американского производства 1996 года, описывающая историю пациента военного госпиталя, пережившего авиакатастрофу в пустыне Сахара. Режиссер: Энтони Мингелла (Anthony Minghella). – Примеч. пер.
[Закрыть], и этот список продолжается. Для нового российского эпического кино, в союзе любви и политики, политика держится очень уверенно. Обладатель премии «Оскар» режиссер Никита Михалков часто усиливает драматизм своих политических и геополитических опусов любовными историями, включая их в захватывающие сценарии реставрирующей ностальгии. Кинокартина «Утомленные солнцем»[215]215
Фильм 1994 года, совместного российско-французского производства. Ретродрама режиссера Н. С. Михалкова о жизни в среде советской элиты в середине 1930‐х годов, о репрессиях по отношению к старым большевиками и бывшим командирам революционной Красной армии. – Примеч. пер.
[Закрыть] представляет собой ностальгическое видение советской жизни 1930‐х годов, где русские дворяне и советские комиссары живут счастливо в чеховской загородной усадьбе – сепия с оттенками красного. Герой Гражданской войны, мужественный комиссар Красной армии (эту роль исполняет сам режиссер), женат на русской дворянке Марии, у них прекрасная дочь, которая мечтает стать самым лучшим юным пионером и любит товарища Сталина. Брак представителей двух элит – русской и советской – оборачивается пасторалью зарождения советской аристократии. Идиллию нарушает только что вернувшийся эмигрант, который одновременно является агентом НКВД и бывшим возлюбленным Марии. Таким образом, представители советской элиты изображаются как жертвы советского режима, причастные не к репрессиям, а лишь к созданию идеализированного образа хорошей жизни. Фильм отражает личный бэкграунд режиссера, намеченный несколькими реставрирующими штрихами; в то время как его мать действительно была русской аристократкой, его отец вовсе не был жертвой сталинизма, а, на самом деле, являлся создателем государственного гимна Советского Союза: «Нас вырастил Сталин – на верность народу, На труд и на подвиги нас вдохновил!» Эти слова, написанные в конце 1930‐х годов Сергеем Михалковым[216]216
Гимн был создан в 1943 году и утвержден в 1944‐м. Авторы текста: С. В. Михалков и Эль-Регистан, музыки: А. В. Александров. В первоначальном варианте гимн исполнялся до 1956 года, с 1956-го по 1977‐й исполнялся без слов, с 1977 по 1991 год – с новой версией текста без упоминания имени Иосифа Сталина. – Примеч. пер.
[Закрыть], впоследствии были вычеркнуты из текста за сталинизм.
Режиссер выступал в качестве актера во многих своих фильмах, играя роль аутсайдера и двойного агента в советскую эпоху, но в своих новых эпических фильмах он переходит от исполнения роли героического большевистского комиссара к роли самого царя. «Сибирский цирюльник» изображает еще более идеализированную родину русского царя Александра III. История любви между русским офицером по имени Толстой и американской женщиной Джейн (Джулия Ормонд) изначально обречена, в соответствии с идеологическим замыслом режиссера. Джейн – деловая женщина-феминистка – femme fatale, которая приезжает в Россию, чтобы соблазнить генерала и получить разрешение на то, чтобы американский бизнесмен вырубил русский лес. «Сибирский цирюльник» Михалкова, используя глобальный язык голливудского кино, выводит на передний план национальный мезальянс. В фильме любовь ничего не решает; американцы и русские, как предполагается в фильме, никогда не смогут понять друг друга. Это происходит в диапазоне от незначительных жизненных моментов, таких как неправильное произношение Джейн слова «сани» как «сони» (несомненно, насмешка над западным капитализмом), – до любви и смерти. Их ценности – диаметрально противоположны: русские ценят коллективный дух, американцы предпочитают индивидуализм; русские заботятся о любви, в то время как американцы о бизнесе; русские выбирают честь, даже если речь идет о лжи, тогда как американцы говорят правду, даже когда это причиняет боль. «Сибирский цирюльник», безусловно, самая дорогая история неудавшейся любви в европейском кино – фильм стоил 45 миллионов долларов и стал третьим самым дорогим европейским фильмом за последние пять лет. Фильм начинается с фанфар и демонстрации огромного портрета царя Александра III – Михалкова на белом коне.
Язык киноленты преимущественно английский, хотя режиссер, исполняя роль царя для своих зрителей, сделал русскую звуковую дорожку для всего фильма. В то время как Михалков – москвич, его родной город предстает в фильме таким, будто его заснял иностранец, пребывающий в восторге от русской экзотики. В какой-то момент сталинская высотка появляется на фоне пейзажа, который должен выглядеть как Россия XIX века, – упс, небольшой анахронизм, но стилистически приемлемый. Несколько российских историков обратили внимание на множество вопиющих ошибок фильма[217]217
Соколов Н. Славься, Великая Россия: Михалков как историк // Итоги. 1999. 9 марта. № 10 (145). С. 48–49. Соколов убедительно демонстрирует, что Михалков смешивает исторические ссылки, соединяя детали России эпохи царя Николая I и сталинских времен.
[Закрыть]. Как и голливудские коллеги-режиссеры, Михалков был больше занят костюмами, нежели историей. Фильм обязан быть конвертируемой валютой, поэтому Михалков должен обязательно сочетать правильные ингредиенты глокализма: немного патриотизма, немного карнавала, немного любви, капелька слез[218]218
Фильм должен был стать призывом к национальному примирению людей и элиты, исполненным в евразийском духе. Вместо этого открытие фильма вызвало конфликт режиссера с представителями прессы. Критики назвали это «твердо-валютным патриотизмом» и «шестисотым Мерседесом, претендующим на роль лубка» (традиционный дешевый популярный печатный листок). Михалков, в свою очередь, излил яд на свободную прессу, заставив одного из журналистов предположить, что если Михалков станет президентом, то журналисты станут первыми политическими заключенными. Гладильщиков Ю. Первый блокбастер Российской империи // Итоги. 1999. 9 марта. № 10 (145). С. 42–47.
[Закрыть].
Реставрирующая ностальгия глокального типа характерна не только для дорогих эпических фильмов, но и для новой контркультуры русской молодежи. Во время бомбардировок НАТО в Югославии российские хакеры временно отключили сайт НАТО, заменив страницу на изображение Бивиса и Баттхеда и надпись «From Russia with Love». Таким образом, послание национальной гордости и враждебности по отношению к НАТО было написано на глобальном языке, что демонстрирует – воцарение компьютерной культуры не является решением международного конфликта.
Новые движения ультралевых и ультраправых (очень маленькие, но симптоматические) питаются одним и тем же борщом из глобального и локального. В отличие от Западной Германии, где денацификация[219]219
Нем. Entnazifizierung – очищение немецкого и австрийского общества от влияния идеологии национал-социализма, включавшее люстрацию и уничтожение материальных следов и наследия нацизма. – Примеч. пер.
[Закрыть] в 1960‐е годы стала частью контркультуры и молодежной культуры, в России представители первого постсоветского поколения осваивают «нацификацию» и инстинктивно восстают против дискуссий периода перестройки, которую они называют «дерьмократией». Скинхеды и члены групп Лимонова и Дугина тянутся к праворадикальным поп-культурам минувшего десятилетия, нацистской атрибутике, жестким национал-большевистским выступлениям, ксенофобскому шикованию расистскими и антисемитскими оскорблениями и панк-стрижкам (хотя последние уже выходят из моды). Ультралевые группы в Санкт-Петербурге, в основном представленные студентами, такие как «Рабочая борьба», ненавидят культуру яппи и выступают за возвращение к МММ – троице Маркса, Маркузе и Мао. Радикальная молодежь из Московского университета часто посещает Хошиминский клуб (почти как неофициальное ленинградское кафе «Сайгон» в предыдущую эпоху)[220]220
Соколов М. Воспитание после ГУЛАГа // Сеанс. 1997. № 15. С. 100–102.
[Закрыть]. История для них – поп-культура. Среди прочего они считают, что ГУЛАГа не существовало, что ГУЛАГ также был пропагандой журналистов времен перестройки, распространяющих «дем. вирус». Молодые русские восстанавливают мечты чужой молодежи, имитируют чужие фантазии. Их герои, от Мао до Джерри Рубина[221]221
Джерри Рубин (Jerry Rubin, 1938–1994) – американский общественный деятель, бизнесмен, лидер антивоенного движения 1960–1970‐х годов и леворадикального движения Йиппи. – Примеч. пер.
[Закрыть], в основном иностранцы. Они любят как песню «Back in the USSR», так и современное русское техно. Их ностальгия по 1968 году застыла в истории без советских танков в Праге, но с баррикадами на улицах Парижа, как показывают по телевизору.
К концу 1990‐х годов капиталистическая телеология сменилась на национальную. Новый модернизатор и вестернизатор России был уже не американским генеральным директором, а российским царем Петром Великим. Наиболее часто цитируемыми строками на российском телевидении летом 2000 года были пророческие слова Петра Великого: «Россия станет великой державой». Лозунг помогал продавать все – от сигарет «Петр Первый» до новой внутренней и международной политики.
Но ностальгия по режиму советского прошлого серьезно пострадала в августе 2000 года во время трагической аварии российской атомной подводной лодки «Курск». Казалось, что вся нация внезапно разделила опыт медленной смерти; он оказался катарсическим, даже если он и не оказался политически взрывоопасным. В ту неделю в августе большинство россиян следили за судьбой моряков в редкий момент национального единства и разделяли беспомощность моряков и тех, кто не мог их спасти, оставаясь на берегу. Незнакомцы обсуждали на улицах каждую новость и слухи о пострадавших, отказ от иностранной помощи, бездействие Путина и безразличие генералов. Вся огромная страна разделяла чувство клаустрофобии и единения перед лицом катастрофы. «Мы все живем на советской подводной лодке» – таким был общий рефрен.
Освещение этого события в СМИ – за пределами государственных телеканалов – было переполнено интервью с родственниками и друзьями тех, кто находился на борту «Курска»; все это, как и прямые беседы со зрителями и слушателями, – усиливало чувство беспомощности и гнева. Затрагивая вопрос бездействия властей, журналисты старались не расценивать гибель «Курска» как политическое событие. Как выяснилось, живая человеческая история смогла нащупать политический нерв общества куда быстрее, чем раскрытие любого компрометирующего политического откровения. Действительно, ощущавшееся в полной мере безразличие к судьбам людей, проявленное военным руководством, и неспособность президента выразить какие-либо человеческие эмоции, которая проявляла подлинную личину бывшего советского офицера госбезопасности, – все это фактически мобилизовало народ. Сокрытие фактов в советском стиле оказалось уже не эпизодом из ностальгического сериала про шпионов, и оно не было благополучно отброшено в прошлое, что является необходимым предварительным условием для возникновения ностальгии. Ностальгия основывается на темпоральной и пространственной дистанции. Гибель «Курска» позволила испытать сверхъестественную единовременность советского прошлого и постсоветского настоящего и ощутить ужасающую близость смерти. Перевод стрелок со стороны российских чиновников был направлен на то, чтобы избежать самокритики и саморефлексии. Враг должен был прийти извне. Военное руководство настаивало на том, что произошло столкновение «Курска» с иностранной подводной лодкой, несмотря на доказательства обратного; военные обвиняли средства массовой информации в отсутствии патриотизма, превращая российских журналистов во внутренних врагов, иностранных агентов[222]222
2 сентября 2000 года вышел очередной выпуск «Авторской программы Сергея Доренко» на телеканале «ОРТ». В этой программе аналитик представил, фактически, подробный документальный фильм о гибели АПЛ «Курск». Вина за произошедшее была возложена лично на В. В. Путина. Это был последний выпуск передачи. Программа была закрыта, а Доренко потерял свое место и влияние на телевидении. Выпад против Путина лично до сих пор связывают с влиянием Б. А. Березовского, в значительной мере контролировавшего на тот момент телеканал «ОРТ» и якобы использовавшего яркий талант тележурналиста Доренко в качестве средства давления на российское общественное мнение и президента. – Примеч. пер.
[Закрыть].
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!