Читать книгу "Колодезь"
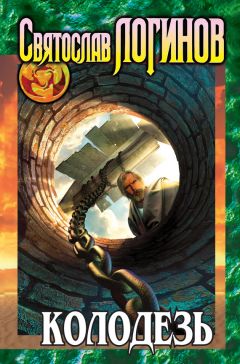
Автор книги: Святослав Логинов
Жанр: Историческое фэнтези, Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
Впереди серой стеной поднялся камыш. Лето ещё в начале, а здесь камыши уже отцвели, шуршат на ветру пышными метёлками. Сначала Семён не понял: откуда в сухой степи этакая прорва камыша, а потом догадался – дороги дальше нет, морской берег это. Хотя тоже, одно название, что берег – моря не видать, сколько глаз берёт – всюду камыши. Стебли на косую сажень подымаются, человека среди них и не заметишь, с головой хоронит.
Зачавкала под лаптями солёная вода, сочно затрещал ломаемый камыш, и мигом исчезли из виду и люди, и кони, и повозки. Теперь их ни стрельцы, ни казаки, ни сам царь морской не найдёт. Болотистые черни на сто вёрст тянутся, от Ахтубы-реки до самого Яика.
На сухой песчаной полосе остановились, стали ждать. Три дня с места не страгивались, и от того бездельного ожидания даже Семёну заплохело. Похилилось былое бесчувствие, заскорбела душа. Начал молиться горячо за странствующих и путешествующих и во узах томящихся: особо богоматери и святой заступнице Анастасии Узорешительнице.
Не дошла молитва. На четвёртый день Едигей велел соль с телег снимать и волочь мешки в глубь камышей. Сквозь черни ломились версты полторы: когда по колено в воде, когда по брюхо, а где и посуху. Наконец выползли к открытому месту. Дохнул в лицо лазоревый простор, закружил с непривычки голову, ослепил брызжущими бликами. Море – это тебе не речка, не мельничий пруд, море много казистее.
Невдалеке от берега под прикрытием малого островка ожидал корабль. Прежде Семён только рыбацкие лодки видал да угловатые дощаники, что поперёк Волги бродят, а тут узрел настоящее торговое судно. Обводами кругло, а днище плоско, чтобы на мелких местах камни не цеплять.
Первый раз Семён встретил торговую гилянскую бусу и сразу понял свою судьбу. Не видать ему больше родного села и немилой жены, а плыть за море в бусурманские страны, в тяжкую неволю.
С бусы лодку спустили, приняли соль. Пленников татаре погнали за останними мешками. Шли потные и злые, облепленные слепнями. По черням бродить – это не блины на Масленую отведывать. Устали мужики, устали и татаре. Камышами идучи, широко растянулись, потеряли друг друга из виду. Да и глаза натрудились за пленниками надзирать.
И тут Семён понял: сейчас или никогда. Улучил минуту, шагнул в сторону и залёг в камышах. Стража мимо прошлёпала – не заметили. Очутился Семён на воле, по шею в солёной воде, зажатый меж морем и степью, где рыскали Едигеевы сыщики.
День Семён хоронился в чернях. Трудно было: кругом вода, а пить нечего – горько. Кто ж мог помыслить, что столько этой соли треклятой по миру раскидано? И харчей Семён не припас: хоть улитку морскую жуй с голодухи.
За ночь Семён хотел уйти подальше от татарского табора, но вместо того едва не утоп в подвернувшейся яме. А под утро вспугнул выводок диких свиней. Свиньи всполошились и шум на всё море подняли. Кабы не тьма, точно словил бы его татарский князишко. Но сейчас свиньи чесанули в одну сторону, а Семён – в другую. И чем они тут только живы, дьяволы тьмочисленные? Где пить берут? Или из моря пьют, а потом ходят засоленными, как ветчина, что и солонины с них готовить не надо, а можно прямо в бочонок гнетить? Да нет вроде, свинья как свинья, дома, в Саповом бору, такие же водятся.
Семён вернулся и осторожно пошёл по просеке, проломленной вспугнутым кабаньём. Так или иначе, но не могут же звери век в солёной воде сидеть? В степь полевые свиньи не ходят, волки их там живо поприедят. Значит, удастся выйти к какому ни есть, но сухому и скрытому месту. А может, и к родничку след выведет, к водопойной речушке.
Солнце ещё не показывалось, но уже разукрасило небеса густым брусным цветом, тростник высветился чёрными полосами. Небо порозовело, рассветный ветерок качнул метёлками камыша, смутно прошелестев по черням. Первый яркий луч кольнул глаза, закружил пляску света и теней. Человеку, скрытому в болотной траве, и без того дальше носа ничего не разобрать, а тут и вовсе неудобьсказуемое буйство началось. Кто и умеет ходить в камышах – всё одно закружит.
Семён упорно ломился по кабаньей дорожке, и впрямь нелёгкая вынесла его на сухой островок. Чёрные и жёлтые полосы обезумело качались перед воспалённым взором, и потому Семён сначала разглядел лишь серую тушку заваленного подсвинка и долго не мог понять, отчего тот лежит на боку и почему не убегает, созывая на Семёнову голову Едигеевых ловцов.
А потом зверь, замерший над задранной свинкой, приподнял верхнюю губу, обнажив вершковые зубы, и плотоядный рык пригнул к земле испуганные черни.
Семёна словно дубинкой по затылку тяпнули. Так и замер на полушаге, не видя в полосатом безумии полосатого охотника. Одна пасть висит в воздухе, и пронзительные жёлтые глаза мерцают над ней.
– Чур меня, – забормотал Семён, пятясь от призрака. – Сгинь, нечистый…
Зверь раздражённо хлестнул хвостом, и Семён наконец разглядел хищника, по-котовьи припавшего к земле. Вот только длины в страшном котище было аршина четыре, не меньше.
Зверь лютый, о котором на Руси всего и памяти осталось, что в скоморошинах! А тут, значит, схоронился зверь, рыщет по прохожую душу, искайяй, кого поглотити. Семён глянул в жёлтые с прорезью глаза и ощутил себя мышом перед котофеевой мордой. Но лютовище не торопилось прыгать, лишь гнало непрошеного гостя от лакомой поросятины.
Семён, оступаясь, пятился прочь от страшного места и, даже когда камыши скрыли пирующего тигра, не осмелился повернуться и задать стрекача. Так и бежал рачьим манером, покуда не вломился прямо в руки посланным на поимку татарам.
Когда татары неожиданно насели на него, Семён с перепугу взревел истошно, а увидав людские хари, чуть целоваться не полез. Не думал даже, что не удался побег, до того счастлив был зверя лютого избегнуть. Безропотно позволил связать себя и только твердил, указывая на камыши:
– Там… там… барс, зверь лютый…
Кибитники не поняли, что бормочет беглец, но решили проверить. Один погнал Семёна к лагерю, а двое других, приготовив арканы, отправились по Семёновым следам, искать своей гибели.
Семёна тем временем притащили к судну. Остальные полоняне уже сидели на палубе, ожидая решения судьбы. Семёна повалили на доски и набили на шею деревянную рогатку, прикрутив к ней обе руки.
Заполоскал на ветру парус, гортанно закричали мореходы, и русский берег остался позади. Полоса камышей быстро потускнела, неразличимая глазом, и если бы не островки, маячившие то тут, то там, так и вовсе бы память о земле пропала, словно вернулись Ноевы времена, когда один Арарат из вод торчал.
Тихоходная буса, по-утиному кланяясь, резала волны. Никто из корабельщиков ни малейшего внимания не обращал на пленников, и даже горбоносый охранник сидел, привалившись к борту, и, положа кривую саблю на колени, смурно глядел в голубеющую даль.
И тут Игнашка Жариков взвыл по-звериному и одним прыжком сиганул в воду.
Чернобородые персы заметались по кораблю, стражник ужасно замахал саблей, кто-то схватился за руль, кто-то попытался спустить парус, но капитан заорал, требуя повиновения, и сумятица улеглась.
Игнашка, широко взмахивая руками, саженками плыл прочь. Капитан вынес наверх лук, наложил стрелу, прицелился. Стрела плеснула у самой головы пловца, разошёлся одинокий круг, и ничего не стало.
– Сгубили паренька, антихристы… – простонал дядя Савёл. – Даже если и не попал, всё равно потонет.
– Это ещё как поглядеть, – возразил Митрий Павлов. – Может, он просто нырнул. Жариковы – они умеют, это же панинские мужики, у них озеро большое…
Семён тоскливо глядел, стараясь увидать среди пенящихся волн Игнашкину голову. Смутно было на душе, хоть сам следом прыгай. Одна беда – рогатка не пускает, да и без неё никуда бы Семён не доплыл. Речка Упрейка – это тебе не Панинское озеро: долговские жители народ сухопутный.
Раздосадованный купец велел со зла набить колодки на всех рабов, хотя уже ясно было, что больше никто в море сигать не станет. Так в колодках и отвезли бедолаг через Хвалынское море в торговый город Дербент.
Первый чужеземный город, который довелось повидать Семёну. Не таким представлялся он в детстве, когда так славно пелось, подыгрывая себе на брылясах:
Ах, Дербень, Дербень, Калуга,
Дербень, Калуга моя!
Тула, Тула первернула,
Тула родина моя…
Где она ныне – Тула, родина моя?
Чудился Дербень-город гудошным, скоморошным, балалаечным местом, а оказался пыльным, словно выцветшим от нестерпимого зноя, и недобрым к русским полонянам.
Город тянулся поперёк узкой береговой полосы, да не просто город, а стена преогромная, без конца и краю. С одной стороны уходила стена к горам, теряясь вдали, а другой падала в море, и там из воды торчали притопленные башни, словно дербентский владыка берёгся вооруженного набега хамсы и стерляди. На ближайшем холме городилась цитадель – большая крепость Нарын-Кала, неуютно уставившаяся пушками и на русскую сторону, и к непокорным горам, и на собственный посад, не раз баловавший возмущениями.
Прежде Семён каменного воинского строения не знавал, так дербентская стена страховидной показалась, где такую воинской силой одолеть!.. Видать, могуч кизилбашский шах, поболее тишайшего царя. Потом уже, побродивши по свету, понял Семён, что крепость была прежде сильна, а ныне по малолюдству не защитна, стены поветшали и, зане случись воинское сидение, против тюфяков и единорогов не устоят.
Но пока ещё не всё ушло в предание, и, как прежде, говорливо шумел людный дербентский базар, равно привечая и кумыка, и гордого лезгина из недальнего аула, и кубачинца – мастера золотых дел, и спесивого хорасанца, и темнолицего индуса в белой чалме. Торговали нефтью, шёлком, седельной сбруей, камкой и узорчатым товаром, что на Русь идёт, а всего больше – людьми. Этим промыслом Дербень-город издавна славен. Русских купцов в Дербенте много, по всему базару ходят, а в невольничьих рядах не бывают. Где ещё лихим людям ясырь брать, как не в России? Каждый второй поставленный на продажу – русич, смотреть на горемык – душу рвёт, а из полона выкупать – мошне накладно. Вот и обходят стороной.
На невольничьем рынке пленников быстро расхватали: товар ходкий. Это только в родных краях Ивашек лукошками продают – пучок за пятачок, а на чужбине русский мужик ценится.
Семёна, а вместе с ним и Василия купил дербентский сала-уздень Фархад Нариман-оглы. Был Фархад-ага толст и добродушен, в жаркий полдень любил посидеть в тенёчке у тонко нарезанной дыни и порассуждать о неизреченной мудрости Аллаха. Двое новых невольников, разбиравших к тому времени по пяти слов, молча слушали: Семён хмуро, Василий – с готовностью кивая на каждое понятое слово.
Иной раз оказывалось, что хозяин не просто думает вслух, а велит что-то сделать, рабы же по тупоумию своему продолжают стоять и слушать. Тогда бек начинал злиться и пронзительно кричал:
– Динара!..
Из дома выскакивала Дунька, тоже русская полонянка, но схваченная ещё во младенчестве, и толмачила новичкам господские приказания.
Дуньке шёл пятнадцатый год, у неё были серые глаза и нос с конопушками. Татарский наряд дико смотрелся с её русацким видом, казалось, будто Дунька наряжена к святкам и сейчас запоёт коляду.
При первом же знакомстве Дунька рассказала, что она христианка, православная и, несмотря на это, ходит у хозяйки в любимицах. Фатьма и впрямь выделяла Дуньку среди прочих служанок. Другие рабыни и полы драют, и бельё моют, и на сыроварне готовят солёный овечий сыр. А Дунька вечно при Фатьме, щеголяет в юбке из крашеной кутии и монистах, позванивающих старинными греческими драхмами с изображением бабы-копейщицы и глазастых ночных сов.
Вечерами Дунька часто забегала к землякам, с которыми хоть поговорить могла на полузабытом родном наречии. Болтала ни о чём, делилась куцыми девичьими мечтами:
– Фатьма обещала меня никому не продавать, а когда время подойдёт, замуж выдать: за своего, за русского, чтобы христианин был.
Васька при этих словах приосанивался, вид принимал гордый и неприступный, а Семён продолжал сидеть, как сидел: не о нём речь идёт, он человек женатый.
– Вот хоть бы и за тебя, Сёма. Возьмёшь меня в жёны?
– Есть у меня жена, дома осталась.
– А-а… – огорчилась Дунька. – Красивая небось?
– Я в этом не понимаю. Меня малолетком женили, никто и не спросил.
– Ну так и плюнь на неё, всё равно домой уже не попасть. А здесь бы ага нам дом подарил, как люди бы жили.
– Фу ты, бесстыжая! – не выдержал Васька. – Прямо при людях женатому мужику на шею виснешь! Бога побойся, распустёха!
– Это ты, что ли, в люди метишь? – не осталась в долгу Дунька. – Сначала сопли втяни, губошлёп! А ты, Сёма, его не слушай. Коли не любишь жену, так и не думай о ней. Это на Руси двум жёнам не бывать, а тут закон другой, тут и десять можно.
– Неладно ты шутишь, Дуня, – тихо сказал Семён, и Дунька сразу погасла, словно водой кто плеснул.
Через месячишко, когда рабы худо-бедно, но стали сказанное понимать, Фархад-ага разделил их, направив каждого на свою работу. Услужливого Василия оставил при себе на всякие посылки по делам торговым да служебным. Уздень знал, что в тайных делах иноземец надёжней, у него ни родных здесь, ни близких, ему никого не жалко. А Семёна, хмурого да непокорливого, определил в пастухи. Семён, услыхав хозяйское распоряжение, промолчал, хоть и удивился: пастушье дело нехитрое, знакомое с малолетства, вот только здоровому парню заниматься им не с руки, это промысел стариковский да младенческий, неспешная работа под рожок и сопелку.
Недоразумение разъяснилось, когда Семёну вручили посох с железным жалом, ржавую саблю и привели трёх преогромных лохматых овчарок, каждая из которых с лёгкостью задавит волка, не говоря уже о пришлом человечишке. Оказывается, Семён был должен не столько пасти овец, сколько хранить их от набегов кюрали. В горных аулах довольно всякого сброду живёт, и чужие овцы всем пригодятся.
Под житьё Семёну отвели старый пастуший балаган. Хоть и не весть какая хоромина, а всё-таки свой угол, где можно голову притулить. С утра Семён выгонял овец в горы, поздним вечером приводил в загон. К полудню на пастбище появлялись работницы и принимались доить маток. Дивно было смотреть на такое Семёну… не коров доят, не коз, а овец. Хотя, если подумать, тоже скотина не хуже иной. А волокнистый овечий сыр Семёну так даже по вкусу пришёлся.
Недели через две вместо одной из старых татарок на склон заявилась Дунька.
– Здорово, пастушонок! – звонко крикнула она и, поставив на землю горшок, как ни в чём не бывало принялась за дойку.
– Ты чего? – спросил Семён. – В немилость попала?
– Вот ещё! – фыркнула Дунька. – Сама отпросилась. Надоело в доме, хуже горькой редьки. Куда ни ткнись – всюду Васька, заединщик твой. Ходит гоголем, надутый, что рыбий пузырь. Проходу от него нет. Я-ста такой, мы-ста сякой. А тут хорошо… – Дунька набрала на ладонь зачуток молока, растёрла по лицу. – Молоком умоюсь, веснушки пропадут, стану белая да красивая, глядишь, и ты в меня влюбишься.
Семён стоял, кусая губы.
– Не люба тебе чернавка, да? – спросила Дунька.
– Не в том дело, Дуняша, – тихо сказал Семён, – я ведь уже говорил: женатый я. Меня отец девяти лет окрутил.
– Так и что с того? На Руси так, а здесь по-другому. Места тут Магометовы, и обычаи Магометовы. Был бы дома, так и дело другое, а здесь никакого греха нет, чтобы две жены иметь. И обо мне подумай, что же мне, за Ваську выходить?.. Когда я на него и смотреть-то не могу. А так – продаст хозяин на сторону, в наложницы, думаешь, сладко? Уже приценивались, армянин один из Джульфы: толстый, глазки масленые… цену хозяину давал, я еле уговорила Фатьму, чтобы она меня не отпускала… Соглашайся, Сёма. Я бы тебя жалела, ухичила во всём…
Семён повернулся и, волоча посох, пошёл к сбившимся в кучу яркам. Смутно было на душе и нездорово. С чего так получается: человек предполагает одно, а судьба располагает по-своему? Мечтал иноком стать, а тебя в блудодеи пишут. И, главное, силы нет противостать. Говоришь: «Нет», – а в самой душе надрывно тянет: «Да-а!..» Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, боже, твоею благодатию.
Семён поднял посох и с силой ткнул жалом в ногу, разом просадив сапог и ступню.
* * *
Думал облегчение найти, а сыскал только больший искус.
Третий день Семён лежит в балагане с распухшей ногой, а Дунька рядом – ухаживает. О своём молчит, но и без слов всё ясней ясного. Фатьма тоже Дуньку жалеет, к себе ни разу не позвала. Дунька все дела переделает, пригорюнится, сядет в уголке, глядит оттуда мокрыми глазами.
Семёну и самому невесело. Рад бы в рай, да грехи не пускают.
Дощатая дверь отворилась, вошёл Фархад-ага. Оглядел домишко, мизинцем выдворил Дуньку за дверь. Вздохнув, опустился на кошму.
– Как твоя нога, Шамон?
– Благодарение Аллаху, получше, – ответил Семён, и сам подивился, как легко сказалось ему по-азербайджански и как просто соскользнуло с языка имя чужого бога.
– Мне стало ведомо, что у тебя есть некоторые затруднения, – продолжил Фархад. – Трудно быть христианином, ещё труднее исполнять христианский закон. Если бы ты принял истинную веру, твои дела было бы легко устроить. Кадий Шараф мой близкий приятель, он развёл бы тебя с прежней женой, не взяв никакой платы.
Семён покачал головой.
– Я родился христианином и с божьей помощью христианином умру.
– Я мог бы понудить тебя, – сказал Фархад задумчиво, – но мусульманин по принуждению – лишь наполовину мусульманин. К тому же я чту мудрейшего Ал-Газали, который учил: «Не мучайте тварей Аллаха, потому что Аллах дал их вам в собственность, а если бы захотел, то отдал бы вас в их собственность». Когда живёшь у самой границы, эту мысль не стоит забывать. А что касается Динары, то подумай хорошенько. Древний мудрец сказал: «Рука, отделённая от тела, лишь по названию рука». Я к тому добавлю: «Мужчина, отделённый от женщины, лишь по названию мужчина». Неволить тебя не буду. Выздоравливай, Шамон. А когда встанешь, то придёшь и сообщишь нам своё решение.
Фархад ушёл, оставив Семёна в вящем смущении.
Как быть? Может, плюнуть да согласиться? Он не девка, с него не убудет. Оно, конечно, грех немалый, так ведь не согрешишь – не покаешься, не покаешься – не спасёшься. А с шемаханской рабой жить – не с чужой женой блудовать, такой грех отмолить можно…
Семён покачал головой. Ох, силён лукавый, любит душу мутить! Фроська, какая ни есть паршивая, а супруга законная, и второй не бывать…
Одна – только у попа жена, шепнул искуситель, и Семёна от этих мыслей ажно передёрнуло, – и хоть в Стоглавце записано со слов Григория Богослова, будто лишь первый брак – закон, а уже второй – прощение, третий – законопреступник и четвёртый – нечестие, понеже свинское есть житие, так Грозному царю и четвёртый брак в закон был. А у тебя и вовсе не брак, жёнка-то на Туле осталась, а Дуньку тебе дают для сласти телесной. Отец себе такого не возбранял.
Вспомянул Семён отца – как ожгло всего. Мигом искус пропал, твёрдо решил Семён в душе своей: не бывать такому блядству.
А через неделю, когда подошёл срок, согласился взять Дуньку за себя.
У персов свадеб не играют. Аллаху дела нет, кто с кем в постель повалился. Богатеи, само собой, пиры устраивают, гостей созывают, хвалятся казной, нарядами. А чтобы в церковь пойти, хоть бы и в свою мечеть – этого не бывает. Тем более никакой свадьбы не положено рабу подневольному.
Хозяин привёл Дуньку, сказал:
– Вот тебе жена. Живите счастливо, Аллах вас не оставит, – и ушёл, прикрыв дверь пастушьего балагана.
Дунька сидела куклой в красном невестином платье, руки сложила на коленях, замерла перед Семёном, словно кура перед мясницким ножом. А у Семёна и самого захолонуло внутри, сробел хуже мальчишки.
Потом подошёл, Дуньку по волосам погладил:
– Вот оно как, Дуняша.
Та судорожно кивнула:
– Да, и подруги нет, косу переплести некому. Но это ничего, я сама переплету.
Путаясь дрожащими пальцами, принялась распускать толстую косу. И когда волосы свободно рассыпались по плечам, Семёна вдруг охватила нетерпеливая дрожь. Уже ни о чём не думая, он принялся стаскивать с девушки свадебное платье. Дунька глядела испуганно, чуть слышно шептала:
– Погоди, это же не так надо…
Чёрта ль в том, что не так! По правилам невеста сама должна раздеться и с мужа сапоги снять… но какие правила могут быть в чужедальнем нерусском краю, да ещё когда кровь гулко стучит в висках?
Дунька послушно опрокинулась на постель, покорно застонала под Семёновой тяжестью. Плакала, а сама обнимала его. Мужняя жена как-никак, понимать должно…
Потом, когда Семён отпустил её, Дунька вдруг улыбнулась всей зарёванной мордашкой, прижалась к Семёну, прошептала в ухо:
– Сёмушка, суженый мой…
Вот где Семёну худо стало. Прежде после телесной истомы тоже гадостно становилось, но тогда он Фроську ненавидел, а теперь – себя.
…Не убий, не укради, не прелюбы сотвори…
* * *
Вскоре Семён привык и уже не мучился совестью. Спокойно ложился, спокойно вставал. С Дунькой был ласков – зачем обижать девку? – но за жену не считал. Так поблядовать – Христос простит, а двоежёнство – грех смертный.
Вот Дунька была счастлива: честно замуж вышла, честно с мужем живёт. Невольнице такая удача редко выпадает. Большинство сначала в наложницы попадает, а уж потом, искудившись, собственную жизнь устраивает. Какая это жизнь, всем ведомо: косы драны, морда бита и пенять не на кого.
Пастуший балаган тем временем нечувствительно изменился, из старой развалины, где не только ветер, но и нескромный взгляд проходил меж плохо слепленных камней, обратившись в жилой дом. Дунька где-то глины нарыла, замазала трещины, накалила в костре известкового камня, побелила стены снаружи и изнутри, натаскала от доброй Фатьмы горшков да казанчиков, тряпок каких-то, и дом стал смотреться пригоже.
Семёну такое дело не понравилось, слишком уж по-семейному устраивалась Дунька, словно и впрямь законная супруга. Уют и Семёна затягивал, звал успокоиться. Семён в душе бунтовал, хотя снаружи ничего не выказывал, лишь жилище своё называл по-местному: саклей, в то время как Дунька величала балаган избой.
Давно, едва сойдя с корабля, Семён принялся лелеять в душе мысль о побеге. Оно, конечно, путь не близкий – округ моря ходить через горный гребень, но всё-таки посуху, а не морем, которого Семён, раз увидавши, побаивался. Он и теперь прежних дум не оставил, но уже не столько планы сметил, сколько просто ласкался мыслью, как уйдёт в родные края. Тёплый Дунькин бок и негневливый хозяин – не чета дедилинскому приказчику! – неприметно приращивали холопа к новому месту. К тому же, походив со стадом, спознал Семён, что есть такое горная круча и каковы речки, бегущие с камня.
А тут ещё другая незадача: прежде Семён мог запасец в дорогу собрать – сыру, лаваш, сушёного мяса; а теперь в доме хозяйка, от неё приготовлений не скроешь, и какой ни будь Дунька дурёхой, а сразу поймёт, куда намылился суженый и что ждёт после этого её саму.
Куда ни кинь, со всех сторон окрутил добрейший Фархад-ага Семёна, и не арканом связал, а тонкой шелковинкой. Только и остаётся вечерами бить поклоны перед образом Спаса нерукотворного: спаси, помилуй, ослобони!.. Так ведь иконку тоже Дуняша принесла: статочное ли дело, просить у неродного благословения беды хозяйке?! Нет в жизни пути, для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева?
Так жаловался Семён, а сам жил в довольстве и тепле, как запечный таракан. Господь тем временем жалобы слушал и дело вершил по-своему.
* * *
Лето всё набирало да набирало силу. Жарынь стояла такая, какой в Туле Семёну видывать не приходилось. А дождя не было. Семён сначала думал, что беда подошла, засухой господь посетил, но Дунька разъяснила, что в чёртовом горном краю так и положено: стечёт талая вода, и новой до осени не жди. Дожди только у моря бывают, а дальше тучам хода нет, цепляются за горы. Потому здесь и хлеб не родится, один только ячмень да полба.
Каждый день Семён со своей отарой уходил всё выше в горы, где ещё не вполне выгорела трава и овцы могли нагуливать тело. Семён радовался тишине и горной прохладе и вовсе не думал, что с каждой ходкой всё ближе ущелья, скрывающие разбойные аулы, а горы на то и есть горы – злая земля, подъятая дыбом, – что не стихает там великая рознь и брань. Всякий нуцал или уцмий, владычествующий тремя деревнями, считает себя государем и, укрытый ущельями, никоторой боязни себе не имеет. А воинскую славу видит в угоне чужого скота.
Семён так и не разобрался, кому приглянулись узденевы овечки – каратинцам, ахвакам, прозванным за дурной нрав квеша-ахвак, или вовсе каким-нибудь бохлихцам, которых пересчитать по пальцам можно и разуваться для того не потребуется. Но на Семёна у них силы достало. Пятеро мужиков: чёрные кучерявые бороды, чёрные кучерявые папахи и чёрные валяные бурки – выскочили из колючих зарослей держи-дерева, зарубили бросившихся наперерез собак и, не обращая внимания на Семёна, словно хозяева погнали овец дальше в гору.
– Эй-эй! – неумно заорал Семён и, размахивая ржавой саблей, ринулся за похитителями.
Кюрали ужасно удивились, очевидно, рабу в таких случаях полагалось молчать и не вмешиваться. Всё же один разбойник повернул и пошёл на Семёна, неслышно ступая по камням ногами, обутыми в мягкие чувяки. За саблю он взялся, когда Семён уже размахнулся что было мочи, собираясь рубануть сплеча. И рубанул. Но сабля вывернулась из руки и брякнула где-то в стороне. А чернобородый весело смеялся, скаля белоснежные зубы, и то ли просто держал клинок на отмахе, то ли примерялся, как ловчей разделать Семёна на куски, чтобы способней было вечерять тонконогим, вечно голодным шакалам.
Страха Семён не чуял, не та пора подпёрла, чтобы пужаться, прежде себя надо было выручать. Семён отшагнул назад, словно споткнувшись, пал на карачки и уже с земли метнул в обидчика камень, благо что валялось их всюду преизрядно и было из чего выбирать. Сильно бросил и метко: не отшатнись белозубый – как есть опрастал бы ему камень всю улыбку. А так лишь по щеке мазнул, расквасив ухо и заставив горца ощериться и злобно взвыть.
Тут уже приходилось заботиться не об овцах, а о той шкуре, что всего дороже. Будь кругом ровное место, только бы тати его и видели, такого стрекача задал Семён. Но нога попала на щебёночную осыпь, и Семён закувыркался вниз, рёбрами проверяя, прочен ли горный хрящ.
Может, и вправду известковый камень дрествянику не чета, но Семёну и такого с лихвой хватило. Когда в глазах прояснело, Семён увидал, что надёжно связан, а вокруг сгрудились кюрали. Один, с распухшей скулой, всё ещё хватался за оружие, а другие уговаривали его на непонятном горском языке. Из всех разговоров Семён уразумел лишь многажды повторяемое слово «бакшиш».
Слово это любому понятно и всякую рану целит. Белозубый успокоился, Семёна поставили на ноги, пинком указали путь, не позволив и оглянуться на места, к которым присох сердцем, хоть и не хотел себе в том сознаться.
В ауле Семёна два дня выдерживали в смрадной яме, а потом погнали дальше в горы. Семён и плакать забыл, пяля глаза на чудеса, что вздыбились окрест. Видать, весел был господь, когда сию землю творил. Не иначе как из хмельного озорства перекосил всю округу, а на бугры да ухабы с пьяной щедростью понасыпал всяких диковин. Там – река с высокого камня прыгает, там – редкий овощ, словно сорная трава, растёт. Семо – пропасть, овамо – стена. Солнце голову печёт, а на горной верхушке – снег. Толикими чудесами лезгинский край славен.
Когда на перевал влезли, Семёну уже не до погляденья стало: ноги сбил и озяб не по-летнему. Хвала всевышнему, путь долу повернул, снова теплом запахло. Новый край открылся: грузинские либо же иверийские земли, из коих и ворон домой костей не занашивал.
Там Семёна и продали вдругорядь.
Грузины народ христианский, хоть и говорят по-своему, и молятся тоже не по-русски. За то им от бога наказание: жить под бусурманами и платить дань то ыспаганскому падишаху, то салтану турецкой земли. Казалось бы, Семёну от того ни прибытков, ни убыли ждать не приходится… ан, вышло по-иному.
Бывало, во младенчестве мать Сёмушку стращала: «Гляди, баловник, баб-яга придёт – отдам тебя. Она таких, как ты, любит – враз к себе утащит». И вот явилась бука наяву, оборотившись сухопарым турком в красной феске с кисточкой. Прибыл в ленный край страшный бааб-ага: отбирать христианских мальцов для султанской службы. Хватали отроков с восьми до осьмнадцати лет, хотя не брезговали и малолетком, а порой загребали и старших. От Абхазии до Кахетии стон стоял в православных домах. Кто только мог, старался откупиться чужими душами, и потому молодой парень и часа на невольничьем рынке не простоял.
Заметить чужую тугу средь собственных бед Семён не мог, и уж верно облегчения ему это не дало бы. Видел лишь, что купил его у абреков знатный грузин с тоскливыми глазами и тут же передал турку в обмен на бумажный свиток с печатью на узорном снурке. Заплачено за Семёна было семьдесят маммуди – целое состояние, так что впору возгордиться. А Семён стоял тусклый и не интересовался знать, в какую прорву деньжищ его оценили.
Новые владельцы прикрутили Семёна вместе с десятком таких же бедолаг к общему ярму и погнали дальше на юг – в туретчину. Добро, что хоть малышей не забили в колодки, а оставили бежать на длинном поводке, словно собак на сворке.
Охраны было всего – сам бааб-ага на коне да четверо пеших воинов с тяжёлыми пищалями и кривыми турецкими сабельками. Не охрана, а сущие слёзы, но на обоз никто не посягнул, даром что в горных краях и последний оборванец с ножищем бегает, словно Кудеяр-разбойник. Петь, да плясать, да ножичками помахивать – это они мастера, а детей выручить побоялись, робость осилила или умненькая мысль, что случись что с караваном – бааб-ага вернётся с большой силой и возьмёт своё вдесятеро. Тогда уже о своих сыновьях рыдать придётся.
Так и шли турки по стране, будто отару овец перегоняли. Носатые грузинки выбегали навстречу колодникам, причитали по-своему, совали пресный лаваш, капающие рассолом лепёшечки сулгуни, медовые соты, мелкие монетки. Стража дозволяла.
Пока шли через Курдистан, Семён и турецкую речь начал помалу разбирать. Дело нехитрое – турецкий говор от шемхальского разнится не сильно. А вот грузинского языка так и не превзошёл, остались слова тарабарскими: тумба-кви, тумба-ква, тумба-квили-капитоли-капитодзе.
В анатолийские земли добирались два месяца, дома за это время, поди, осень наступила. Однако всякому пути конец бывает – однажды замаячили впереди купола и минареты пленного Царьграда. Бааб-ага от радости, что в срок добрели и никого дорогой не потеряли, песню завёл.









































