Читать книгу "Колодезь"
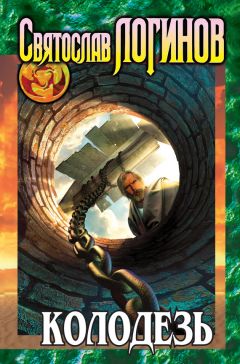
Автор книги: Святослав Логинов
Жанр: Историческое фэнтези, Фэнтези
сообщить о неприемлемом содержимом
* * *
Город оказался преогромным – ни допрежь, ни потом Семёну ничего схожего с Царьградом видеть не привелось. Говорят, древний Вавилон ещё побольше был, но ему господь за гордость людскую языки помешал, отчего народы врозь разбрелись. И по всему видать, второму Риму та же судьба уготована. Гомон на улицах стоит неудобьсказуемый, и каждый человечишко по-своему балаболит.
Обоз остановился в церкви. Семён уже к такому привык и не вздрагивал, лишь мрачнел и тайком крестился на те места, где прежде святые образа висели.
Турки икон не имеют и не понимают. Всякую красоту им заменяет бестолковый узор. А вместо святого креста ставят на куполе рогатый месяц. Тут уж и глупый поймёт, кому они там молятся. А с тем собором, куда привёл колодников бааб-ага, бесермене и вовсе непотребство совершили; Семён глянул, так зашёлся от испуга, хотя, казалось, ничто его больше удивить не может. Превратили нехристи святую церковь в солдатский стан – по стенам развешали свои турецкие знамёна и волосяные бунчуки, в алтаре поставили козлы с ружьями. А ведь когда-то большой монастырь был, женский… курился под куполом ладан, монашки пели согласно, бывало, сам патриарх служил, благо что Святая София от монастыря через площадь высится и идти недалёко. А ныне – в Софии мечеть, в Ирине – казарма, и, попущением божиим, никоего отмщения богохульцам нет: не погубил еси их со всеми беззаконьеми, но человеколюбствовал обычно. Аминь.
В монастыре Святой Ирины пленников разделили. Младших увели куда-то, тех, кто постарше – оставили. Приковали к колоннам в правом притворе, заставив прежде раздеться донага. Скорбно было в церкви растелешаться, ну да уж она всё равно осквернена. А голым на людях Семён уже стоять привык – раба покупают, что лошадь или корову: всего осмотрят и ощупают, во всякое место взгляд кинут.
В скором времени объявился рядом старичок в чалме, что средь турок редкость, и богатом халате. Семён решил, что оценщик. При старике – писец со свитком и чернильницей. Старичок к Семёну первому подошёл, поцокал языком, побарабанил сухими пальчиками по Семеновой груди, потом спросил, как пленника зовут и велел записать в свиток. Спросил, откуда Семён родом и кто его родители – тоже велел записать. Потом о вере спросил. Семён мотнул головой на грудь, где на снурке качался крестик, домашний ещё. Старичок и здесь остался доволен, однако крестик снял, спрятал в карман и сказал ласково:
– Теперь будешь мусульманином.
– Не буду, – ответил Семён по-турецки и добавил уже на родном языке: – Коня на водопой привести нетрудно, а ты его пить заставь, когда он сам не хочет.
Старичок на чужую речь и ухом не покосил, принялся Семёна ощупывать, как уже на двух невольничьх рынках было. Семён терпел. Смолчал, даже когда старик в причинное место полез, и оказалось, что зря смолчал. Старикашка жесткими пальцами оттянул Семёну крайнюю плоть, тут же в правой его руке невесть откуда возник медный ножичек, чуть похожий на крошечный серп, и в одно мгновение Семёнов уд лишился покрывавшей его кожи.
Семён взревел, лягаться принялся – да уж поздно. Старикашка бодро отпрыгнул, а Семёновой яростью пуще того остался доволен. Из смирного барана хорошего воина не выйдет. Лишь когда Семён пророка Магомета назвал засранцем и вонючей свиньёй, старичок погрозил пальцем и предупредил, что в следующий раз Семёна за такие слова посадят на кол.
Остальных новобранцев обрезали не скрываясь. Кто-то бился и плакал, большинство смирилось, понимая, что сила солому ломит.
Когда Семён перебесился и затих, его отвязали и, бросив вместо одежды бумазейный плат, заперли в подвале.
После такого надругательства самая жизнь поганой показалась. Кабы не грех – тут бы и умер. Как теперь быть, ежели тебя силком в чужую веру перекрестили? Не понудили даже, а попросту взяли и, не спросивши, обрезали, как скотину бессловесную холостят.
Вскоре в узилище к Семёну другой старичок спустился, но уже не из духовного звания, а из коруджи – ветеранов янычарского корпуса. Уселся напротив мечущегося на войлоке пленника и принялся поучать: как-де Семёну в жизни повезло да потрафило, какая честь несказанная быть рабом Высокой Порты. На себя указывал, твердил о каком-то очаге, сыном которого и он был, и Семён будет. Семён к тому времени вполне истомился от телесной боли и душевных невзгод, твёрдо положив в душе, что жить не станет. Самому себя порешить – грех, но и жизни такой не надо. Потому соблазнительные речи слушал спокойно, помня, что рабу господню не подобает свариться. Всё равно ведь, что бы там ни талдычил коруджи, всякая душа прилежит господу, даже если и не сумела сохранить себя в целости, попав под бесчестный нож. Потому на все уговоры Семён ответил кротко:
– Отойди, окаянный, а то зашибу, неловко будет.
По-русски сказал, но то ли старичку язык был знаком, то ли без слов понял, однако искуситель поднялся с пяток и ушёл, больше Семёна в этот день не потревожив. Семён, обернув плат вокруг больных чресел, трое дни просидел в подвале. Ни пищи, ни еды принимать не хотел, но уже к концу первого дня понял, что никто его и не собирается ни кормить, ни поить. На второй день Семён смирился с голодной смертью, просветлел духом. Пел из псалтиря: «…даждь ми тело нескверное, сердце чистое, ум бодр, разум незаблудный…» На третий день затосковал и, когда толстый турок принёс наконец-то глоток воды и пресный хлебец – фодлу, Семён мигом опростал посудину и умял хлеб. Молодая жизнь всегда своё возьмёт.
Потом уже полоняник узнал, что никто его не испытывал и уморить не хотел, просто после обрезания полагается поститься и воды пить нельзя, покуда грешный уд не подживёт. Место такое – нагноится рана, ничем не залечишь.
Мальчиков, что с Семёном шли, турки тоже попортили, но всё-таки не так жестоко. Дали младенцам сладкой халвы, замешанной на маке и конопле, и обрезали сонных. Потом и детям пост был и сухоядение. Таков закон шариата.
Малышей, подлечив немного, раздали на воспитание в турецкие семьи, чтобы там их воспитали в преданности Магометову закону, а заодно приучили терпеливо переносить лишения. Мальчиков запрещалось учить ремеслу и грамоте, но зато разрешалось наказывать и нагружать чёрной работой по хозяйству. С теми, кто постарше, так не поступишь – разбегутся или избалуются. Этих собирали вместе и направляли на тяжёлые работы под присмотром старых янычар – коруджи. Никакому ремеслу также не учили, понимали турки, что человек, имеющий в руках ремесло, не станет сражаться за два аспра в день. Часть аджеми огланов работали перевозчиками на Гелиоспонте, но большинство, и Семён в их числе, произведены были в бостанжи.
Слово это, ежели на русский перетолмачить, значит – садовник. Вот только сады у турецкого султана не те, что в родных краях. Турецкие мужики столового оброка не знают, платят только подати. Легче им от этого не бывало, мытари и одними податями умеют душу вынимать. Зато для прокормления двора лучшие земли в Анатолии и Восточной Румелии отданы под султанские бостаны. Поскольку Семёна взяли в рекруты в Анатолии, то попал он под власть Румелийского аги – на запад от Мраморного моря.
Жили бостанжи, ясное дело, не в городе, но и здесь под казармы был испоганен монастырь, на этот раз мужской, освящённый во имя Сёмкиного покровителя – святого Симеона Столпника. Над входом в храм, где поганые арсенал устроили, до сего дня можно было видеть лик святого старца, чудно выложенный цветными камушками. Всякий камушек приложен ко своему месту, отчего не только лик святого виден, но и ладони, сложенные для молитвы, а кругом – малое окошечко и весь столп, на котором страстотерпец простоял пятнадцать лет, умоляя господа о прощении чужих грехов, ибо сам был воистину безгрешен.
Хоть и опозорен храм, но Семён преклонил колена и на образ перекрестился, за что был немедля бит лозой на глазах всего булука. Семён даже рад был претерпеть за веру. Ревнуя вере, подобно блаженному Симеону, принялся раны на спине нарочно растравлять и подставлять мухам, чтобы черви завелись и гноили грешную плоть во славу божью. Но и этого не позволило рачительное начальство. Едва язва начала загнивать, явился лекарь и, применив едкий отц, а затем приложивши мирру и алоэ, не дал Семёну приять мученическую кончину. Не хватило Семёну апафии, а по-русски – юродства. Молодая жизнь в который раз душу переборола. Только и есть утешения, что Христос тоже желчью и отцем на кресте мучим был.
Поднявшись с одра, Семён обнаружил, что образ святого заступника густо замазан краской, так что ни лика, ни столпа разглядеть не можно. Горько стало на душе, но всякое непокорство уже изныло, и Семён стал вести себя подобно всем огланам.
Четыре дня в неделю огланы работали на казённых угодьях. Убирали с полей камни – земля турецкая камениста! – окапывали деревья, под палящим солнцем носили коромыслом воду, мотыжили и боронили, бросали в землю семена и собирали урожай. Жизнь эта от обычного мужицкого бытья разнилась не сильно, если бы по вечерам и утром перед началом работы огланов под гром литавры не выстраивали на молитву. Хвала Аллаху прескверному, что хоть поначалу самих не заставляли молитвы орать. Турки молятся не по-своему, а по-арабски, так Семён прикинулся тупоумным и такое вместо арабских слов выговаривал, что его оставили в покое и велели во время намаза помалкивать. Когда мулла в пятницу между молитвами принимался читать Коран, разъясняя избранные аяты по-турецки, то и здесь Семён глядел смурно и на все вопросы отвечал одним словом: «бельмес». Слово это означает, что слушающий ни бельмеса не понял.
Пятница, суббота и воскресенье ничуть не напоминали крестьянскую жизнь. Один из этих дней проводили на плацу, в воскресный день отправлялись на стрельбище – талимхане. В пятницу до очумения простаивали на мусульманской молитве и внимали поучениям, а вечером тех, кого однорукий чорваджи Исмагил ибн Рашид хвалил за прилежание к воинской учёбе, отпускали в город, не дав, впрочем, с собой ни единого аспра.
Исмагил был странным человеком, каким только и ходить в старших офицерах. Из-за увечья он уже не мог воевать и давно должен был стать коруджи и жить на мизерное содержание, но, видно, даже турецкие паши понимали, что хоть кто-то среди начальствующих должен не только о своей мошне заботиться, но и о войске. Потому и держали на службе калеку и даже наградили почётным званием яябаши.
Исмагил ибн Рашид не только сам не крал, но и другим воровать не позволял. Однорукого боялись все – от кятиба, заведующего канцелярией, до последнего капуджи, стоящего на воротах. Под единственной дланью грозного яябаши вырастали настоящие воины, йолдаши, и немалое их число с гордостью носило широкий кушак, какой позволено носить только тем, кто отличился в боях. Сказать по правде, не так много оставалось в Высокой Порте школ аджеми огланов, где готовили солдат, а не пожирателей казны, храбрых в мирное время и немедленно заболевавших перед началом всякого похода. Саплама – недостойный быть янычаром, слово это звучало в устах ибн Рашида как самое гнусное ругательство.
С самого возникновения пешее янычарское войско было и вооружено и обучено лучше прочих. Когда-то стреляли дети очага из луков, сохранив с тех пор йай – денежное пособие на покупку тетивы, а едва в туретчине объявились пищали, как новое войско стали обучать огненному бою. Фитильные ружья сменились кремнёвыми, и вновь четыре булука немедля перевооружились. Лишь кривой ятаган на боку и дурацкая войлочная шапка, сшитая, как говорят, неким юродствующим абдаллой из рукава собственного халата, оставались неизменными.
Посреди монастырского двора между кельями и собором стоял под навесом преогромный бронзовый котёл. В этом котле по пятницам варили на весь орт баранину. А сверх того, котёл был у янычар заместо знамени. Днём и ночью его охраняли двое ахджи, вооружённых булавами, отлитыми в виде поварёшки. Очаг, на котором помещался котёл, был тем самым очагом, сыном которого Семён отныне числился. Получить еду из полкового котла считалось у янычар чем-то вроде присяги. В праздники котёл выволакивали в город, носили по улицам, оглушительно гремели, ударяя по котлу медными половниками, и, как рассказывали, могли насмерть забить тяжёлыми поварёшками неосторожного прохожего, заступившего дорогу процессии. Такого язычества Семён понять не мог. А впрочем, бусурмане от поганых мало чем рознятся. И то им на укоризну, а не в похвалу.
Семёна в город не отпускали долго, больше года начальство не могло поверить, что новобранец по совести стал мусульманином. Потом вроде поверили, хотя в Коране прямо сказано, что мусульманин по принуждению как бы и не мусульманин вовсе.
От более удачливых товарищей Семён знал, что есть множество способов раздобыть в городе деньги или просто, не заплатив ни обола, получить сладкую еду, питьё, порцию гашиша или ласки продажной красавицы. Нельзя сказать, будто ничто из этих соблазнов Семёна не привлекало, но впервые попав в город, никакими советами Семён не воспользовался, а просто бродил оглушённый, стараясь понять, что же это в мире делается. Такой содом вокруг стоял, что впору уши затыкать и бежать сломя голову. Ну прямо будто в самую серёдку скоморошьего хоровода попал: тут и коза, и медведи, и домра, и бубенцы, и пение, и гремение, и на головах хождение. Никто по улицам чинно не идёт – все торопятся, никто тихо не говорит – орут как оглашенные. Речь кругом и турецкая, и арабская, и чагатская, и армянская, а всего больше – греческая. Тут сколь на разум крепок ни будь, а голова кругом пойдёт. В булук Семён вернулся к вечеру, одуревший и ничего в царьградском житье не понявший. А ведь мечтал найти на базаре русских торговцев, помощи просить, а при случае тут же бежать на Русь прямо из Стамбула.
Семён не мог знать, что, попадись ему на базаре редкий русский гость или просто вздумай Семён очертя голову ринуться в бега, тут бы и конец ему настал. Неприметный старичок в серой кабатейке весь день следовал за гуляющим огланом, а потом доложил по начальству, что молодой оглан ну ни в чём-таки предосудительном не замечен, хоть живым на небо бери. Такая святость тоже подозрительна, куда больше белюкбаши был бы доволен, узнав, что Семён приставал к гетеркам из весёлого квартала или, притворившись бывалым ясакчи, старался слупить с торговца сластями немного казинаков или рахат-лукума. Наказывать Семёна было не за что, но в следующий раз он попал в город очень не скоро, месяца четыре прошло, а может, и больше.
К тому времени Семён стал одним из лучших огланов в булуке, так что его не только стрельбе учили и сабельной рубке, но и на коне скакать. А это значит, положило начальство глаз на толкового парня, и, ежели в бою себя храбрым покажет, то повышения такому ждать не долго. Хотя, как говорят, с тех пор как султан позволил янычарам жениться, густами и ахджи в булуках обычно становились потомственные янычары – кулоглу. А Семён, хоть и глаз имеет верный, и руку твёрдую, и в фортификации понимает больше других, но вот мулла к нему с подозрением относится и шпионы доносят что-то невнятное.
Наконец дошла очередь Семёна ещёжды идти в отгул. Но в ту самую пятницу, как нарочно, лопнуло терпение у муллы, и он строго приказал в следующий раз на молитве не молчать, и чтобы не просто гудели молящиеся, словно жук-скарабей, а вопили слова чётко и проникновенно. Было над чем призадуматься гундосливым, заикам и немногим упрямцам. Даже во время работы в поле бедолаги учили тарабарские слова: «Ям ялит валам якуллаху!..» Семёну ничего учить было не надо, наслушавшись Корана, он за полгода и арабскую речь начал разбирать. Но молиться Аллаху не желал, хотя и понимал, что скорее всего разменял в эту пятницу последнюю неделю горемычной жизни.
С таким вот настроением и отправился молодой оглан в Царьград вторично.
Как и в прошлый раз, Семён не искал дешёвых развлечений, не задерживался поглазеть на китайские тени и не оглядывался на визгливые выкрики Карагёза. Однако, научившись кой-чему, не мечтал и скрыться из города. Румелия велика, до христианских земель немалый крюк – тридцать три раза поймать успеют. Сегодня Семён хотел лишь одного – отыскать христианский храм, помолиться напоследок, а, может быть, если повезёт, то исповедоваться и получить пастырское благословение на мученическую кончину. Русского попа, ясное дело, сыскать не получится, но, в крайнем случае, сойдёт и греческий. Греческий язык господу угоден, поп Никанор как-то рассказывал, что после воскрешения распятый Христос на жидов разгневался и с тех пор, являясь верующим, говорил не по-еврейски, а эллинскими словами. Одно беда – греческого языка Семён выучить не успел; знал пару слов – и всё. Ну да авось выручит пресвятая богородица.
Готовясь к исповеди, Семён прежде целый день постился, а с утра, хотя ещё неясно было, отпустят ли его в город, постарался уединиться и прочесть в уме покаянный канон, не весь, ясное дело, а что с младых ногтей зазубрил.
Семён знал, что и после турецкого завоевания в городе сохранился целый греческий квартал. Там, в Фанаре, на берегу Золотого Рога, должно уцелела какая ни на есть церквушка – не всё же поганые в мечети обратили.
Город Константинополь велик и шумен, но скучен. Два преужасных разорения – одно крестоносными папистами, а второе султаном Мухаммедом Фатихом – уничтожили дивные красоты былого Царьграда. От казны в городе ничего не возводится, только старое переделывается, простой народ, зная алчность сатрапов и помня о частых пожарах, строится поплоше и абы как. Глядя на них, и знатные османы, угодные Аллаху и султанскому сердцу, тоже не спешат возводить палаты, живут в простых домах, единственно украшая их изнутри. К какому дворцу ни подойди, на улицу смотрит простая стена с узкими окошечками, забранными крепкой деревянной решёткой. Стена вымазана извёсткой, решётка – охряной вапой. Вот и все красоты: ни наличников, ни резных петухов, ни расписных ставенок, ни конька на крыше.
Греческий город от турецкого ничем не отличался, только шуму поменьше. Побаиваются людишки, что коснётся излишний шум ушей ясакчи, поставленных для охранения христианских подданных Высокой Порты. А так – те же глухие заборы выше человеческого роста да гладкие стены с узкими бойницами окошек, хотя пленные греки давно уже потеряли способность ко всякой самообороне.
Здесь, почти у самой городской стены, Семён отыскал-таки божий храм. Он бы и мимо прошёл, если бы не раздались из-за высоченного дувала размеренные удары клепалом в деревянную доску. Семён уже знал, что в большинстве церквей османы колокола поснимали, и верующих призывает к молитве не кампаны, а колотушка. Поэтому Семён решительно свернул и, отворив незапертые ворота, прошёл к храму.
Судя по всему, был здесь не просто храм, а ещё один монастырь. Позади церковного строения лепились кельи и ещё какие-то постройки, поповский дом среди них выделялся свежей постройкой и гляделся пригожей, чем всё остальное. А вот церквушка оказалась убогой, не чета тем, что были отняты и опоганены турками. Даже куполишка какого ни на есть над ней не возвышалось, только крест на крыше. Ни мозаик цветных не было, ни ганчевых колонн, ни каменной резьбы. Лишь в одном месте в стену вмазаны три барельефа, вынутых, должно полагать, из развалин иного, более древнего, строения. На двух камнях резьба духовная, а на третьем просто изображён молодой парень с факелом в руке, а христианская то картина или языческая – понять не можно. Но всё же хоть и сомнительная, но то была церковь. Крест превыше всего возвышается, родной, православный.
Семён поднялся на паперть, сломил с головы кече, хоть это строго возбранялось уставом, и вошёл в божий храм, где не бывал года, считай, четыре.
Служба уже давно началась, все, кто хотел исповедоваться, пришли заранее и успели получить разрешение грехов. Семёну оставалось ждать и надеяться, что батюшка снизойдёт к невольничьей скудостии и согласится выслушать исповедь во внеурочное время.
Народ внутри собрался пёстрый: и богатые греки в одеяниях до пят, и рвань несусветная. Но сказать, чтобы много было этого народу, – тоже нельзя. Служили, ясное дело, по-гречески, так что Семён ничего почти не мог понять и за службой не следил. Хотя напевы многие узнавал и готов был подтянуть клиросным певчим, особенно когда началась катавасия и хоры сошлись перед амвоном. Однако прихожане молились молча, и Семён тоже промолчал. В чужой монастырь со своим уставом не ходят.
На Семёна особого внимания не обратили, хотя он был одет в шальвары и цветной доломан с бумазейным кушаком. Видно, немалое количество греков по разным причинам переряжалось турками и такой наряд никого на улицах Фанара не удивлял.
Семён пристроился сбоку перед образом скорбящей богоматери. Христос, конечно, за всех людей радел, а всё к богородице обращаться вернее. Господь к человечей немощи редко склоняется, а матерь божья, рассказывают, всю Русь пешком исходила, во всякой деревеньке пригорюнилась, в каждой бедной избе всплакнула. Кого ещё просить о милости, как не её, заступницу?
Службу в церкви вёл немолодой священник в богатом праздничном облачении и белом клобуке модного кроя – видом как бы мазанная труба с распятием на макушке. Лицо священнослужителя казалось отсутствующим, и хотя Семён многого не понимал, но почудилось ему, что чинопоследование нарушается, а иные молитвы и вовсе пропущены. Всякому можно видеть, что к службе греческий поп не радел.
«Нашего бы благочинного сюда, – невольно пожалел Семён, – он бы здешнего батюшку за нерадение посмирял. А может, и не посмирял бы… вон у этого наряды какие, и риза, и подризник шёлковые. А ну как окажется кто из архиереев? Тут ведь запросто можно встретить и епископа, и архимандрита; не село всё-таки, а стольный город. Церквушка, конечно, убогая, а облачение поповское так и переливается…»
Думая так, Семён кривил душой. Как и многие домы в Царьграде, убогой церковка казалась только снаружи, а внутри была убрана изрядно, оклады на иконах серебряные с цветным каменьем, пол мраморами выложен, стены хитро изукрашены малярами, а иконы, даже на глаз видать, – греческого письма. Хотя, какими им ещё быть в греческой церкви-то? У колонн, справа и слева от амвона, на невеликих возвышениях стоят два не то кресла, не то трона. Особенно тот, что справа, – точнёхонько трон, царю сидеть не стыдно. Со всех сторон перламутровым ракушечником обделан, дорогой мамонтовой костью и листовым золотом. А может, и не листом, а просто вызолочен – со стороны так просто не разобрать.
Священник тем временем службу завершил и, не выйдя к верующим, скрылся. Семён крякнул с досады и пошёл искать дьякона или на худой конец пономаря, чтобы у них разузнать, где теперь искать батюшку и не согласится ли он в неуказанное время исповедь принять.
Выйдя во двор, расправил кече, нахлобучил на лоб, огляделся по сторонам. Позади церкви и ещё дальше, за кельями возле хозяйственных построек, Семён сыскал-таки дьякона. Хотя на лбу у пожилого грека не написано, что он дьякон, но давно известно, что какую должность человек исполняет, на того он и похож. Приказной обязательно тощ и искривлён, словно худое деревце, побитое ветрами, думный боярин зычен голосом и чревом вперёд выпирает. Поп бывает со всячинкой, а дьякон всегда краснолиц, и борода у него растёт широким просяным веником. Вот и этот гречанин был точь-в-точь как дьяконы на Руси.
Дьяконы в церквах самые рачительные хозяева, вроде как экономы в католических монастырях. Краснолицый грек не был исключением. Повернувшись к Семёну спиной, он распекал уныло кивавшего на каждое слово человечка. Конечно, Семён не мог знать, что говорит краснорожий, но что он устраивает разнос, было ясно без слов. Мир всюду одинаков, да и поповка не сильно разнится.
Семён покашлял, чтобы привлечь к себе внимание, и спросил:
– Ваше степенство, как бы мне с батюшкой повидаться? Я понимаю, что не в срок пришёл, но уж очень занужбилось.
Дьяк обернулся и едва не подпрыгнул, уставившись на Семёново кече.
– Слушаю посланца великого султана, – пробормотал он по-турецки.
Тьфу ты, пропасть! Семён и думать забыл, что православный священнослужитель, коего он так долго искал, может не владеть русским языком! Какой же он, к ядрене-фене, православный после этого? И по-каковски прикажете с ним разговаривать, если по-гречески Семён десяток слов понимает, и те по рассказам инородцев-огланов, а в турецком слова «поп» то ли вовсе нет, то ли никто не удосужился за три года его при Семёне произнесть.
– Хозяина видеть хочу, – произнёс Семён таки по-бусурмански. – Говорить надо.
В конце чуть не добавил по привычке: «бисмалла», – но вовремя язык прикусил. То-то бы подивились греки на этакого христианина! Воистину, язык мой – враг мой.
– Сию минуту, я доложу, – неожиданно тоненьким голосом ответствовал дьяк и действительно побежал, разметая дворовый сор полами подрясника.
Семён пожал плечами и остался на месте, ожидая результатов своего ходатайства.
* * *
Всесвятейший кир Парфений, милостию божию архиепископ Константинопольский, Нового Рима и вселенский патриарх, окончил тягостную службу и скрылся во внутренние покои, которые принято было именовать кельей. Служки, сняв с патриарха облачение, удалились, и первосвященный наконец смог остаться один. Теперь впереди были немногие и оттого особо драгоценные часы отдыха, которые можно провести достойно философа: наедине с чашей вина и свитком Овидия. «Не возлагай же надежд на красу ненадёжного тела – как бы ты ни был красив, что-то имей за душой».
Непросто в наш последний век быть мудрецом, и не знаешь, кого более опасаться: цезаря-иноверца или единоверцев, ежеминутно умышляющих против тебя. Один неправильный шаг – и не помогут ни знание древних философов, ни софистические рассуждения, ни богословские тонкости, пониманием которых, кажется, можно уязвить всякого оппонента. Увы, в человеческих делах громче всего звучит звонкий голос золота, а патриаршья казна вновь, в который уже раз, пуста.
Кир Парфений вздохнул и распечатал крошечную амфору с густым хиосским вином. Увы тебе, Эллада, приют мудрецов, нигде больше, кроме острова Хиос, не делают настоящих амфор и настоящего вина. Во всём упадок и разорение, и, как сказал Аристотель об испорченных людях, ни у кого не согласуется то, что они должны делать, с тем, что они делают.
Первосвященный придвинул кубок тончайшего венецианского стекла и наклонил над ним амфору.
В дверь неделикатно громко постучали, на пороге объявился протодьякон Мелетий, управляющий патриаршим подворьем.
– Там!.. – задыхаясь выговорил он. – Там пришёл янычар. Требует ваше святейшество!
Холодом продрало патриарха Парфения от этих слов. Нет для православного пастыря горше муки, чем в собственной убогой келье ежеминутно ждать, что вспомнят о нём власти и вновь потребуют чего-то – скорей всего денег, которых и без того не хватает, а быть может, и самой жизни. Но в любом случае беды начинаются с того, что на монастырском подворье объявляется янычар, посланный великим везиром, или румелийским агой, а то и самим султаном.
– З-зови… – через силу выдавил кир Парфений.
Ждать во дворе Семёну пришлось недолго. Дьякон, к которому он обратился с просьбишкой, объявился назад через минуту и пригласил Семёна в палаты. Другого слова, чтобы назвать священнический дом, у Семёна не нашлось. Куда до этакой роскоши хатёнке попа Никанора, да хоть бы и богатой усадьбе Фархад-аги. Убогое снаружи строение внутри поражало взгляд. Полы мраморные, двери точёные, на стенах бархаты. В тёмных комнатах свечи горят в серебряных подсвечниках. Дворец, да и только… царский терем! А он сюда припёрся за наставлением в вере и отпущением грехов.
Семёна ввели в полутёмную комнату, где в деревянном кресле с прямой спинкой восседал священник. Вместо иерейского облачения на нём была монашеская ряса, но тоже не простая, а лилового шёлка, радующего глаз и тело.
На этот раз Семён не повторил ошибки, сразу заговорил по-турецки:
– Прошу прощения, ата, но у меня не было иного времени, чтобы обратиться к вам. Я не турок, я славянин, из России. Турки взяли меня в своё войско, насильно обрезали, но я остался православным…
Кир Парфений молча слушал излияния опасного гостя. Значит, это не посланец султана… Ну конечно, посланец должен быть в ранге куллукчи и носить парчовый пояс. В таком случае, дело обстоит гораздо опаснее, нежели новое повеление властей. Это провокация. Знать бы, кем подослан настырный янычар…
– …нет больше силы терпеть мусульманство. Благословите, отче, на подвиг. Лучше мученическая смерть, чем такая жизнь. Даже среди бывших еретиков есть примеры для подражания, не признающие Магомета, а из православных ни один не осмелился восстать. Благословите на подвиг, отче, горю послужить вере.
«…если это человек шейхульислама, – спешно соображал Парфений, – то за попытку совращения в христианство обрезанного янычара меня наверняка сместят с престола, а возможно, будет и нечто худшее. Гнать немедля! Но если это человек Павликия, – антифоном пришла другая мысль, – то жди бед на соборе».
– …со следующей пятницы каждому велено вслух непригожую молитву читать, а я не хочу. Грешен, до сих пор притворялся, будто Аллаха чту, но более притворства не желаю… – Семён говорил, исповедуясь скорее самому себе, нежели разодетому в шелка монаху. Не виделось в монахе святости, земным и грешным пахло от него – не миром и ладаном, а киимоном и сладким вином.
«…гнать! – твёрдо решил Парфений. – А если ошибся, то на соборе скажу, будто испугался гонений не на себя, а на всю церковь. Мол, если янычар обратно в церковное лоно принимать, то недолго дождаться и церковных погромов… А вдруг, – пришло в голову новое соображение, – всё, что рассказывает незваный гость, – правда? Тогда тем более – гнать! Одно дело, когда везир задумал получить с церкви новые подношения, совсем иное, ежели ему донесут, что в одном из булуков произошли смутительные дела».
– Не вовремя ты пришёл, сын мой, – произнёс кир Парфений по-болгарски, желая проверить, вправду ли перед ним славянин. Так ли, этак, но болгарскую речь все славяне понимают. – Служба окончена, я устал… К тому же такие решения трудно принять, не вознеся молитвы и не обдумавши всё как следует. Приходи завтра с утра, я велю принять тебя и дам ответ твоим сомнениям.
– Кто ж меня завтра из казармы выпустит? – воскликнул Семён. – Я и сегодня-то чудом здесь очутился!
– Я ли виновен, что ты явился в неуказанный час? – вопросом на вопрос ответил монах. – Ступай и приходи, когда велено.









































