Текст книги "Жизнь Фридриха Ницше"
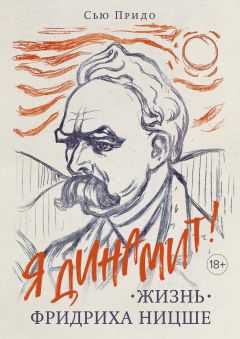
Автор книги: Сью Придо
Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Во время долгих прогулок Ницше с маэстро по горам вокруг Трибшена они обсуждали идею постановки «Кольца» в рамках возрождения Антестерий – ежегодного четырехдневного празднества в честь Диониса. Под ними искрились в лучах солнца воды Люцернского озера, где Козима и дети плавали с лебедями. Козима в своем раздувающемся белом купальном костюме и сама была похожа на лебедя, что отметил один из членов важной писательской группы, которая тем летом совершила паломничество в Трибшен из Парижа.
Хотя в 1861 году парижская постановка «Тангейзера» окончилась сокрушительным провалом, она все же оказала значительное влияние на французский авангард. Символистские и декадентские движения обратили большое внимание на статью Бодлера «Вагнер и “Тангейзер” в Париже» [11] в контексте открытого продвижения в опере идеи о борьбе и взаимной зависимости сексуальности и духовности, а также замечательного технического достижения Вагнером синестетического синтеза слов и музыки в своей Gesamtkunstwerk.
И вот в Трибшен прибыли три ревностных парижских вагнерианца: Катюль Мендес, поэт-декадент, драматург, романист и основатель литературного журнала La revue fantaisiste, его жена Жюдит Готье и Вилье де Лиль-Адан, основатель движения «парнасцев», которое предпочло романтизму возрождение неоклассицизма. Парнасцы не добились особого успеха – их затмило гораздо более успешное символистское движение.
Вилье де Лиль-Адан, человек хрупкого сложения, прибыл в Трибшен в подбитых ватой «гамлетовских» узких штанах, которые он носил, чтобы продемонстрировать красивые ноги. Катюлю Мендесу подобные меры не требовались: часто его называли самым красивым мужчиной своего поколения. Его именовали светловолосым Христом, но нрав его был жестоким, извращенным и деструктивным; Мопассан дал ему прозвище «лилия в моче» [12].
Жюдит Готье было чуть за двадцать, она была дочерью поэта и критика Теофиля Готье. Она одевалась с исключительным вкусом в истинно парнасском духе, отказавшись от корсетов и кринолина в пользу свободной одежды в античном стиле, не стеснявшей ее полноты. Инициатором поездки была именно Жюдит. Из-за алкоголизма Катюль не мог считаться надежным источником заработка, и Жюдит превратилась в журналистку и успешную писательницу, автора популярных любовных романов, действие которых происходило на таинственном Востоке (где Жюдит никогда не была). Целью визита Жюдит в Трибшен было написание яркого очерка о Вагнере в домашней обстановке, который затем можно было бы опубликовать во Франции.
Жюдит была богиней инстинктов и дионисийской чувственности: высокая, темноволосая, бледная, необычайно театральная, «с полной фигурой и беззаботностью, характерными для восточной женщины. Ее легко было представить на тигровой шкуре с кальяном в руках», – говорил провансальский поэт Теодор Обанель, который считал ее поэзию «дьявольски туманной», но вот ее саму – «великолепной», а ее искусственный ориентализм – совершенно неотразимым. Она постоянно влюблялась в мужчин гораздо старше себя – например, уже побывала любовницей Виктора Гюго, который был на одиннадцать лет старше Вагнера. Жюдит прекрасно знала, какой эффект производит, томно опуская веки, опушенные длинными ресницами, чувственно вдыхая наполненный крепкими ароматами воздух Трибшена и поглаживая мягкие, скользкие ткани, которые Вагнер так любил. Катюль Мендес сообщал: «Не один раз, явившись утром, мы заставали его [Вагнера] в том самом костюме, который впоследствии ему часто приписывали легенды: халат и тапочки из золотистого атласа, украшенные парчовыми цветами жемчужного цвета (он страстно любил блестящие ткани, горящие пламенем или ниспадающие великолепными волнами). В салоне и в его кабинете в избытке было шелков и бархата – ткани лежали просто кучами или висели без особого декоративного смысла – просто ради красоты и для того, чтобы своей теплотой вдохновлять поэта» [13].
Когда Жюдит вернулась в Париж, Вагнер писал ей письма, начиная их с обращения «Возлюбленная Полнота». Часто он прилагал списки необходимых мягких тканей и тяжелых запахов, которые оба они обожали. Она отправляла покупки на другой адрес, чтобы Козима ничего не узнала. Очарование Вагнера и его музыки стало для Жюдит религией, экстатическим состоянием благодати, как и для Козимы. Обе не стеснялись самоуничижаться и гиперболизировать свое восхищение маэстро: «Звуки, которые он создает, – солнце моей жизни!» – и так далее. Но две эти поклонницы были совершенно разными. Козима никогда не забывала о корсете. Граф Гарри Кесслер говорил, что она «состоит из костей и силы воли… как Иоанн Креститель у Донателло», а ее дантист отмечал, что она поразительным образом игнорировала препятствия, стоящие между нею и целью [14]. В отличие от свободного дионисийства Жюдит контроль Козимы над Вагнером был аполлоническим, чисто интеллектуальным, часто наставительным. Тем летом, как свидетельствует дневник Козимы, она поставила перед собой задачу прочитать вместе с ним вслух большинство пьес Шекспира и сыграть фортепианные дуэты Бетховена и Гайдна. Она была хорошей пианисткой и трезвым критиком. Вагнер боялся ее суждений, как дитя. Когда она отказывала ему в сексе, он бился в истерике.
Хотя Вагнер и Жюдит не стали любовниками, инстинктам Козимы не требовалось формальной измены. Тем временем ее рассудочные, платонические и совершенно безупречные отношения с Ницше только крепли. К сожалению, всю переписку с Ницше она сожгла, так что остается полагаться на ее дневник, который она вела не для себя, но как будущий публичный источник просвещения и воспитания детей и потомков.
Во время визита Жюдит Готье Ницше описывается в дневнике просто как хорошо образованный, культурный и приятный человек. Сама Жюдит Готье и ее сопровождающие именуются «людьми Мендеса».
После возвращения в Париж Жюдит написала статью о Вагнере в домашней обстановке, которая сделала бы честь любому современному таблоиду. Козима была поражена таким вторжением в личную жизнь и той вульгарностью, с которой Жюдит описывала мелкие повседневные детали их частной жизни.
В перерывах между сочинительством Вагнер брал собак и отправлялся на горную прогулку или же ездил в любимую антикварную лавку в Люцерне. Когда маэстро не было дома, Ницше разрешалось играть на его фортепиано. Он играл хорошо даже для такого окружения, к тому же более эмоционально, чем Вагнер, которого всегда больше беспокоили технические детали. Ницше во время игры погружался в какое-то состояние транса, которое вызывало у Козимы (бывшей все же дочерью Листа) приступы галлюцинаторного возбуждения.
Чем дольше и чем лихорадочнее он играл, тем больше ее сковывало «ощущение страха и дрожи». Она отмечала, что игра Ницше пробуждала в ней все демоническое. И для Козимы, и для Ницше музыка была царством божественного экстаза. Повседневность, по ее убеждению, после этого внезапно становилась невыносимой. Пока Вагнера не было, они несколько раз пытались связаться с миром духов: экзальтированная игра Ницше на фортепиано была прелюдией к вызову оккультных сил [15].
На Рождество 1869 года Ницше снова пригласили в Трибшен. Он был единственным посторонним, единственным гостем. Такого Рождества у него еще не было.
Вагнер и Козима соблюдали сложные рождественские ритуалы. Козима была ревностной католичкой, а Вагнер – известным атеистом, но год за годом они объединяли усилия ради детей. В сочельник они воссоздавали старинную немецкую историю о святом Николае, приносящем дары, и Кнехте Рупрехте, грозящем выпороть или похитить шаловливых и непослушных детей.
Ницше помог Козиме устроить сцену для постановки ритуального действа. Они вместе украсили елку. Когда все было готово, няня Гермина побежала к детям, чтобы сообщить, что слышала такой рев! Затем появился Вагнер в костюме Кнехта Рупрехта. Он ревел изо всех сил и сеял панику. Постепенно детей успокоили подарками – орехами, на золочение которых Козима потратила большую часть декабря. Появился младенец Христос, что отвлекло детей от загадочного исчезновения отца. Наступила тишина, и в таинственной атмосфере младенец Христос поманил их к себе на галерею по темной лестнице. Все домочадцы последовали молчаливой процессией. Наконец они дошли до елки, чудесно освещенной свечами. Произошел обмен подарками, и Козима помолилась вместе с детьми.
Следующая неделя, судя по всему, была отмечена высшим счастьем и наибольшей интимностью между Ницше и Козимой. Ее дневник обрывается на 26 декабря и возобновляется лишь 3 января записью о том, что она позабыла о дневнике на целую неделю, большую часть которой провела вместе с профессором Ницше; вчера же он уехал.
18 июля 1870 года брак Козимы с фон Бюловом наконец-то удалось расторгнуть. Ницше был приглашен свидетелем на ее свадьбу с Вагнером, которая состоялась в протестантской церкви Люцерна 25 августа, но не смог присутствовать. К тому времени разразилась война между Германией и Францией, как и опасались Ницше и Якоб Буркхардт.
Когда Франция Наполеона III 10 июля 1870 года объявила войну бисмарковской Пруссии, Ницше был в Базеле и лежал в постели с растяжением лодыжки. За ним ухаживала его сестра Элизабет. Естественным было бы отправить ее обратно к матери в Наумбург, но это оказалось и небезопасно, и невозможно в условиях хаоса, последовавшего сразу за объявлением войны.
«19 июля была объявлена война, – писала Элизабет, – и с того времени в Базеле начался совершенно невероятный переполох. Откуда-то так и посыпались французские и немецкие путешественники, спешившие присоединиться к своим полкам. В течение недели прибывающим толпам было почти невозможно найти в Базеле хоть какой-то приют на ночь. Железнодорожные вокзалы каждой ночью были переполнены, а те, кому не под силу было выносить удушливый воздух, нанимали на всю ночь пролетки» [16].
Ницше вместе с Элизабет нанес краткий визит в Трибшен, после чего они направились к горе Аксенштейн. Там они остановились в большом отеле. Обдумывая свое будущее, он написал статью «Дионисийское мировоззрение» (Die dionysische Weltanschauung), где применил философию Шопенгауэра к духу древнегреческой трагедии, а кроме того, набросал несколько черновиков письма президенту образовательного совета Базеля: «Учитывая текущее состояние дел в Германии, вы не будете удивлены моей просьбой отставить меня от своих обязанностей ради возвращения на родину. Именно это я и прошу вас устроить, договорившись о моем отсутствии в последние недели летнего семестра с досточтимым образовательным советом Базеля. Мое здоровье сейчас настолько улучшилось, что я могу без опасений послужить своим соотечественникам либо как солдат, либо как сотрудник санитарной службы… перед лицом ужасных стонов моей родины, призывающей всех немцев выполнять свои обязанности немцев, вынужден признаться, что выполняю свои обязательства перед Базельским университетом с болезненной неохотой… И хотел бы я посмотреть на швейцарца, который с радостью оставался бы на своем посту в подобных обстоятельствах…» Последнее предложение из чистового письма было вычеркнуто [17].
9 августа он написал Козиме, рассказывая о своем намерении отправиться на войну. Она в тот же день ответила, что, по ее мнению, отправляться добровольцем еще слишком рано, а сотня добрых сигар, например, будет армии более полезна, чем присутствие дилетанта. Это был образец ее обычной живости реакции, которая заставляла Ницше и Вагнера боготворить ее и падать к ее ногам.
Университетские власти отпустили его лишь на том условии, что поскольку он уже практически является гражданином Швейцарии, то не вернется в свой полк, а останется нонкомбатантом и вступит в санитарную службу.
12 августа Ницше поехал в город Эрланген для обучения медицинской работе в большой местной больнице. Его двухнедельный курс обучения не успел закончиться, как ему пришлось заниматься мертвыми и тяжело раненными – умирающими детьми и взрослыми.
29 августа, через четыре дня после свадьбы Козимы и Вагнера, Ницше совершил одиннадцатичасовой марш-бросок, чтобы забрать раненых с поля битвы при Вёрте, где немцы добились важной победы дорогой ценой. Почти десять тысяч немцев полегли на поле боя рядом с восемью тысячами французских солдат.
Он писал матери об ужасном поле, «усеянном бесчисленными скорбными останками и переполненном мертвыми телами»:
«Сегодня мы едем в Аньо, завтра – в Нанси и вообще следуем за Южной армией… В течение нескольких ближайших недель твои письма не смогут до меня доходить, потому что мы двигаемся быстро, а почта – чрезвычайно медленно. О ходе войны мы тут ничего не знаем: газеты не выходят. Враждебное местное население, похоже, только привыкает к новому положению дел. Впрочем, за малейший ущерб нашей армии им грозит смертная казнь. Во всех деревнях, которые мы проезжаем, бесконечные больницы. Вскоре я дам о себе знать; не тревожься за меня» [18].
2 сентября Ницше оказывал помощь раненым в санитарном поезде на пути из Арс-сюр-Мозель в Карлсруэ. Поездка длилась три дня и две ночи, о чем он 11 сентября написал Вагнеру:
«Lieber und verehrter Meister [любимый и глубокоуважаемый маэстро]: итак, ваш дом достроен и тщательно укреплен перед лицом бури. Хоть я и был далеко, но не переставая думал об этом событии и призывал на вас благословения, так что я очень рад известию, переданному мне вашей женой, которую я искренне люблю, что в итоге эти празднества [свадьбу и крестины Зигфрида] удалось организовать быстрее, чем мы думали, когда я в последний раз был у вас.
Вы знаете, каким потоком унесло меня от вас и что именно не позволило мне стать свидетелем этих священных и долгожданных событий. Моя работа в качестве санитара временно подошла к концу – к сожалению, из-за болезни. Многие мои задачи и обязанности привели меня под Мец [в то время осажденный]. В Арс-сюр-Мозель мы забрали раненых и вернулись с ними в Германию… Я отвечал за ужасный вагон для скота, в котором шестеро были совсем плохи: я заботился о них, перевязывал, следил за ними один в течение всей поездки… В двух случаях мне пришлось диагностировать гангрену… Только я сдал своих раненых в госпиталь в Карлсруэ, как у меня самого начались явные признаки болезни. Я с трудом достиг Эрлангена, где отчитался о своих действиях. Затем я отправился в постель, где и нахожусь до сих пор. Хороший врач определил у меня, во‑первых, сильнейшую дизентерию, а во‑вторых, дифтерию… Итак, после всего четырех недель, когда я старался направлять усилия во благо мира, я вернулся к тому, с чего начал, – какое ужасное состояние!»
В течение первой критической недели в Эрлангене Ницше был на грани смерти. Его лечили клизмами с нитратом серебра, опиумом и дубильной кислотой – в то время это было обычное лечение, которое навсегда разрушало внутренние органы пациента. Через неделю его жизнь была вне опасности, и его отправили к матери и Элизабет, которые все еще проживали в том же доме в Наумбурге. Из-за ужасных болей и постоянной рвоты он стал самостоятельно принимать лекарства, которые временно облегчали симптомы, но в долгосрочной перспективе только вредили. Эта дурная привычка осталась с ним на всю жизнь. Высказывались предположения, что у Ницше после ухода за ранеными в санитарном вагоне развились не только дифтерия и дизентерия, но и сифилис. Проверить это попросту невозможно, как и вопрос о том, был ли у Ницше вообще сифилис.
Выздоравливая, он погрузился в подготовку лекций и семинаров для грядущего семестра, а в письмах друзьям не затрагивал тяжелых воспоминаний с поля боя, которые наверняка преследовали его денно и нощно. Ницше страдал от расстройства кишечника, разлития желчи, бессонницы, рвоты, геморроя, постоянно чувствовал привкус крови во рту и видел ночные кошмары о том, что происходило на полях сражений. В отличие от Вагнера и Козимы, которые едва ли не каждое утро поверяли друг другу свои сны, после чего Козима прилежно заносила их в дневник, Ницше не оставил потомству воспоминаний о своих сновидениях. Однако после этого он все чаще выражает яростное неприятие милитаризма и филистерства вообще и в бисмарковской Пруссии в особенности.
«Какие враги нашей веры [культуры] растут из кровавой почвы этой войны! Я готов к худшему и в то же время уверен, что среди страданий и ужасов расцветут ночные цветы познания» [19].
Винить во всем нужно было «роковую, антикультурную Пруссию»: вместо того чтобы возрождать творческий дух Древней Греции, Бисмарк превращал страну в Рим – филистерскую, жестокую, материалистическую машину массовых убийств и всяческих грубостей.
Ницше был возмущен кровожадностью и циничной жестокостью пруссаков, умышленно моривших французов голодом во время осады Парижа, которая продлилась с сентября, когда он заболел, до января следующего года.
Его негодование по поводу зверств войны распространялось, впрочем, не только на действия Пруссии. Стоило сформировать новое французское правительство, как против него восстала Парижская коммуна, действовавшая по отношению к собственным согражданам ничуть не лучше пруссаков. Она приступила к кровавым массовым убийствам, вырезая духовенство, заключенных и просто невинных прохожих. Была объявлена и война культуре. Памятники сбрасывали с пьедестала и уничтожали. Музеи и дворцы Парижа, в том числе Тюильри, грабились и сжигались новыми Геростратами. В базельских газетах появилось ошибочное сообщение о том, что разрушен и Лувр. Заслышав такие жуткие новости о сознательном культурном геноциде, Буркхардт и Ницше выбежали на улицу в поисках друг друга. Встретившись, они обнялись, не в силах проронить ни слова от горя.
«Когда я узнал о пожаре в Париже, то в продолжение нескольких дней чувствовал себя совершенно уничтоженным, я терзался в слезах и сомнениях, – писал Ницше, – вся научная жизнь, творческое и художническое существование показались мне абсурдом, коль скоро одного дня оказывается достаточно, чтобы истребить прекраснейшие произведения, даже целые периоды искусства. Я пытался утешаться искренним убеждением в метафизической ценности искусства, которое из-за этих бедняг не могло больше присутствовать в нашем мире, но зато продолжало выполнять более высокую миссию. Но сколь бы ни было велико мое горе, я был не в состоянии бросить камень в тех святотатцев: они для меня – лишь носители нашей всеобщей вины, о которой стоит всерьез задуматься!» [17]17
Пер. И. А. Эбаноидзе.
[Закрыть] [20]
Наступили Святки, и его снова пригласили в Трибшен. В глазах хозяев он вырос, превратившись в философа-воина, но его военный опыт стал пропастью между ними и гостем. Ницше укрепился в своем панъевропеизме, в то время как Вагнер и Козима были полны мстительного ура-национализма. Вагнер даже отказывался читать письма, написанные ему по-французски.
Рождественским утром ароматный воздух дома огласили восхитительные звуки. Вагнер тайно провел на лестницу Ганса Рихтера и оркестр из пятнадцати человек. Они сыграли «Идиллию Зигфрида» – тогда она еще не имела названия, а дочери Козимы прозвали ее «лестничной музыкой».
«Теперь я могу умереть», – воскликнула Козима, услышав ее. «Тогда мне будет проще умереть, чем жить» [21], – ответил он.
Такой обмен репликами был типичным для утомительно возвышенного стиля, в котором неизменно велись диалоги в Трибшене, часто сопровождавшиеся всхлипываниями и просто слезами. Рождественская интерлюдия продолжилась для Козимы в том же утрированном ключе: она писала, что «Идиллия Зигфрида» словно перенесла ее в мир, где сбываются сны. Она пребывала в эйфории, чувствовала, как размываются границы, не отдавала отчета в своем материальном существовании, испытывала наивысшее счастье, была на седьмом небе блаженства, как будто достигла установленной Шопенгауэром цели – разрушить границы между волей и представлением.
Козиму обрадовал полученный от Ницше на день рождения подарок – рукопись «Рождения идеи трагического», одного из первых черновиков «Рождения трагедии». По вечерам Вагнер вслух читал отрывки. Они с Козимой хвалили работу, считая ее совершенной и очень ценной.
Вагнер и Козима решили не дарить подарков на Рождество в знак уважения к тем, кто все еще испытывал нужду из-за войны. Ницше об этом не предупредили, и он приехал с эссе для Козимы и разной мелочью для детей. Для Вагнера он выбрал копию великой гравюры Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол», которая с момента своего создания в 1513 году служила важным националистическим символом немецкой веры и немецкой храбрости перед лицом опасностей. Вагнер принял подарок с большим удовольствием. Для него немецкий рыцарь был символичен вдвойне: композитор видел в нем себя самого и своего героя Зигфрида, который по сюжету «Кольца нибелунга» отправляется спасать мир. Вагнеровский выход на музыкальную арену был основан на музыке будущего: рыцарь должен был обновить дух немецкой культуры, которая, освободившись от филистерства и мультикультурализма, однажды, как Зигфрид, будет призвана, чтобы уничтожить драконов заимствованной культуры. Подарок, таким образом, был тщательно продуман.
Ницше остался на восемь дней и снова был единственным гостем. Однажды вечером он прочитал свою статью о дионисийском начале, после чего состоялось обсуждение. Другим вечером Вагнер читал либретто «Нюрнбергских мейстерзингеров». Козима записала, что они с Ницше ощутили самые возвышенные чувства, когда Ганс Рихтер только для них двоих сыграл музыку из «Тристана и Изольды». Они обсудили сравнительные достоинства Э. Т. А. Гофмана и Эдгара Аллана По и сообща признали глубину идеи смотреть на реальный мир как на спектр, что, по словам Шопенгауэра, свидетельствует о способности к философии. Однажды стояла такая холодная погода, что Ницше был просто счастлив, когда вся семья по-домашнему вторглась в его «Комнату для размышлений» – Denkstube. Это было самое теплое помещение в доме. Они читали и разговаривали вполголоса, чтобы не отрывать профессора от работы, – это наверняка ему очень льстило.
В канун нового, 1871 года он уехал обратно в Базель. Ницше наконец принял решение, что делать с потерей интереса к филологии и растущим интересом к философии. В январе он написал еще одно длинное письмо к президенту образовательного совета [22], обратившись к нему с необычным предложением – перевести его на кафедру философии, которая как раз освободилась. Его же место на кафедре филологии мог занять его друг Эрвин Роде. Роде и Ницше вместе учились у Ричля в Бонне и Лейпциге, но поскольку у Ницше не было должного философского образования, а Роде был всего лишь приват-доцентом (приглашенным лектором) в Кильском университете, то руководство не восприняло такое предложение всерьез. При мысли о необходимости вернуться к преподаванию филологии Ницше впал в какую-то духовную нарколепсию. Весь январь он чувствовал себя плохо. Врачи настаивали на полноценном отдыхе в теплом климате. К нему приехала сестра. Для поправки здоровья они отправились в Итальянские Альпы. «В первый день, – писала Элизабет, – мы добрались только до Флюлена, потому что дилижанс, движение которого было задержано сильнейшими снегопадами на целых две недели, мог возобновить регулярное сообщение лишь на следующий день. В отеле мы встретили Мадзини, который под вымышленным именем мистера Брауна путешествовал в компании какого-то молодого человека». Джузеппе Мадзини был товарищем Гарибальди. Он был приговорен к смерти в своей стране и большую часть изгнания проводил, пытаясь придумать, как сделать из Италии объединенную республику. Как и многие республиканцы и анархисты со всего мира, Мадзини нашел убежище в Лондоне, откуда планировал вторжение в Италию и ее захват всеми политическими эмигрантами. Пламенная обычно революционерка Джейн Карлайл поспешила отказаться от идеи под предлогом склонности к морской болезни, но больше никто не возразил. Планировали отправиться из Англии на воздушных шарах – практичный способ управлять ими был как раз изобретен. Мадзини не без оснований полагал, что подобная кампания повергнет в ужас Бурбонов, тиранящих Италию [23].
«Этот благородный беглец, – продолжала Элизабет, – сгорбленный годами и печалью, вынужденный возвращаться в любимое отечество лишь тайно и под чужим именем, показался мне удивительно занятной фигурой. Все путешествие через Сен-Готард в небольших санях всего лишь на два человека прошло при такой дивной погоде, что мрачный пейзаж и зимняя бело-сине-золотая палитра показались нам невыразимо прекрасными. Интеллектуальное товарищество Мадзини, который охотно присоединялся к нам обоим на всех остановках, а также инцидент, который ужаснул нас, когда мы спускались по зигзагообразной дороге, ведущей с ошеломительных высот Сен-Готарда в долину Тремола, как будто на крыльях (маленькие сани, ехавшие прямо перед нами, вместе с пассажирами, кучером и лошадью упали в 60-метровую пропасть. К счастью, благодаря глубокому мягкому снегу никто не пострадал), – благодаря всему этому поездка приобрела особенное и незабываемое очарование. Следующая фраза из Гёте, которую Мадзини постоянно цитировал со своим иностранным акцентом молодому сопровождающему, стала с тех пор любимым жизненным принципом для меня и брата: Sich des Halben zu entwöhnen und im Ganzen, Vollen, Schönen resolut zu leben [ «Отринь компромиссы и живи безбоязненно полной и прекрасной жизнью»]. Прощальные слова Мадзини очень нас тронули. Он спросил, куда мы направляемся. Я ответила: “В Лугано, который, по всем приметам, подобен раю”. Он улыбнулся, вздохнул и сказал: “Молодым рай повсюду”» [24].
12 февраля они достигли Лугано, где угодили в объятья одного из самых характерных буржуазных гранд-отелей, напоминающего волшебную гору эллинизма. Элизабет отмечала даже самых незначительных знаменитостей, среди которых особенно выделяла графа фон Мольтке, брата великого фельдмаршала. Там их ожидали салонные игры, театральные представления, концерты и приятнейшие экскурсии на расположенную неподалеку гору Бре, с которой открывался великолепный обзор. Двадцатисемилетний холостяк и профессор, Ницше пользовался большой популярностью и обратился в светского льва. Он незамедлительно залез на гору Бре выше, чем остальные. Вынув из кармана томик «Фауста», он стал читать из него вслух, пока они «осматривали величественный весенний ландшафт и поражались невероятным богатствам мира». «Наконец он выронил книгу и своим мелодичным голосом начал рассуждать о том, что только что прочел и что мы все увидели, как если бы мы, отринув нашу пустую северную узость и мелочность, доросли до более высоких чувств и целей и теперь, расправив крылья и расхрабрившись, набравшись энергии, могли теперь двинуться на самый верх, навстречу солнцу» [25].
К сожалению, фон Мольтке во время прогулки к озеру простудился. «К ужасному огорчению всей нашей группы, он скончался, – писала Элизабет, но общей ее жизнерадостности это почти не омрачило. – Какими счастливыми и безоблачными были те три недели в Лугано: вокруг нас царил запах фиалок, солнечный свет, прекрасный аромат гор и весны! Я до сих пор помню, как мы шутили и смеялись; мы были так беззаботны, что даже приняли участие в карнавальных празднествах. В четвертое воскресенье Великого поста один итальянский дворянин пригласил нас в Понте-Треза. Когда я сейчас вспоминаю, как мы, немцы из Hôtel du Parc [26], танцевали друг с другом и с итальянцами на местной рыночной площади (у меня перед глазами до сих пор предстает Фриц, весело отплясывающий в хороводе), все это кажется мне каким-то бесконечным счастливым карнавалом».
Пока Элизабет рссказывала о веселых крестьянских танцах, ее брат писал свою первую книгу – «Рождение трагедии из духа музыки», где излагал выводы, к которым он пришел за годы нефилологического осмысления происхождения и цели греческой трагедии и ее неизменной важности для настоящего и будущего культуры.









































