Текст книги "Дагиды"
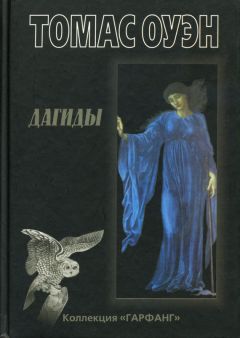
Автор книги: Томас Оуэн
Жанр: Зарубежное фэнтези, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Тогда Фела покинула наблюдательный пост и спустилась в сад. Сердце мужа больше не билось. Он лежал раскинув руки, перемазанный кровью и землей, словно труп, забытый на поле битвы.
Черная курица взялась поклевывать почву, где кровь свернулась маленькими катышками, напоминающими зерна сливового цвета. Ей это, видимо, доставляло удовольствие – ее круглые глазки блестели. Наблюдающие за ней глаза Фелы также блестели.
Женщина присела и поманила ее. Курица прыгнула к ней на колени. Одной рукой лаская птицу, она расстегнула платье и прижала это нежное и теплое существо к своей обнаженной груди. Когда она ощутила биение другого сердца против своего, движения ее ласкающих пальцев усилились, убыстрились.
И тогда случилось нечто удивительное, осмос и трансмутация одновременно.
Черная курица вошла, абсорбировалась в Фелу, растаяла в ней, вернулась в некотором смысле в первородную материю.
И пока длилось молчаливое перевоплощение, зрачки Фелы остановились, обведенные вспыхивающим золотым кольцом, словно глаза ясновидящей Ее шея удлинилась, вздулась плавным закруглением, потом приняла обычный вид. Женщина глубоко вздохнула несколько раз. Действо свершилось.
На груди, в ложбинке, застряло несколько черных перышков. Она деловито отряхнулась и застегнула платье.
Эльна, 1940
Каким чудом ты нашел меня, папа?
Рей Брэдбери
Странная авантюра. Май 1940-го. Переполненный Брюгге напоминал какую-то гротескную ярмарку под ярким солнцем. Беспорядочные колонны бороздили город во всех направлениях. Автомобили самые причудливые, экипажи самые немыслимые, телеги, нагруженные скарбом, скрипели, гудели, громыхали, теснились в людской толчее. Каждый думал сугубо и только о себе. После нескольких дней колебаний и топтания на месте беженцы решили двинуться в глубь страны и, разумеется, не могли найти подходящего выхода или выезда из города. Солдаты побежденной армии бродили маленькими группами, искали ночлег и провиант, тщетно ожидая, что кто-нибудь ими займется. Большие черные грузовики планомерно пересекали старый город. Там в несколько рядов, выпрямив спины и стараясь удержаться в одной позе, сидели молодые немецкие солдаты с винтовками между колен. Некоторые машины, повинуясь какому-то таинственному приказу, сворачивали в сторону каналов, где солдаты устраивали нечто вроде бивуака. На главной площади под бесстрастным взором старинной каланчи разноцветная и лихорадочная толпа осаждала террасу кафе. Туристическое любопытство, видимо, нельзя рассеять за несколько дней. Посетите Брюгге, его церкви, музеи! Вторжение иностранной армии! По городу реяли слухи самые дикие! Киноактриса Бетти Штокфельд, выступая по английскому радио, рекомендовала держаться достойно. Браво, детка! Иногда самолеты рокотали на малой высоте, и каждый беженец инстинктивно втягивал голову в плечи.
Известие о капитуляции бельгийской армии, настигшее нас двумя днями ранее в Остенде, ошарашило и вместе с тем утешило. Нам было приказано передислоцироваться в Остаккер, что близ Гента. Мы повиновались, ничего не понимая. Никто, впрочем, ничего не понимал. Что с нами будет? Говорили о демобилизации, о возвращении к родным пенатам. «Оставаться в строю, – гласила инструкция. – Самовольный уход расценивается как дезертирство».
Меня связывали весьма приятельские отношения с неким Аккерманом – командиром батальона резервистов. Это был высокий худощавый человек – молчаливый, корректный, неопределенного возраста и убежденный фаталист.
С самого начала кампании нас порядком измотала вынужденная бессонница, и теперь, когда наши люди разместились в казарме, корпусной генерал разрешил нам квартировать у друзей в Брюгге.
Мы с Аккерманом совсем недавно познакомились, но вполне сблизились благодаря идиотическим передрягам войны. Теперь мы, как два заброшенных мальчугана, шлялись по улицам в поисках ночлега. Это оказалось совсем нелегким делом в старом перенаселенном городе при невероятной дезорганизации. Мои друзья уехали куда-то к французской границе. Их дом, битком набитый беженцами, был недоступен. Приходилось стучаться куда попало в поисках неизвестных благодетелей.
Но удача нам не улыбалась. Побежденные, если они не раненые, как правило, сочувствия не вызывают. Разозленные бесчисленными отказами, мы решились на последнюю попытку. Мы шли по набережной и остановились у примечательного старого дома – узкого и высокого, с готическими окнами. В ответ на наш звонок дверь немедленно открылась, словно кого-то ждали, и перед нами предстал старик с рыжеватой реденькой бородкой, с физиономией скучной и недоверчивой.
– Мы бы хотели чего-нибудь поесть и переночевать.
– Исключено.
Дверь уже было захлопнулась, когда неожиданно позади нас послышались шаги и появилась молоденькая девушка, не ах какая красавица, но симпатичная. Она сказала «пардон», проскользнула между Аккерманом и мной и вошла в дом, причем, моментально оценив ситуацию, принялась мило просить за нас.
– Исключено, – твердил старик.
Тут раздался спокойный, размеренный голос командира резервистов:
– А я прошу вас и к тому же настаиваю.
Уж не знаю, какой магнетизм излучала его персона, но я сразу почувствовал, что партия выиграна и что мой компаньон навсегда останется загадкой для меня. Командир прибавил более дружелюбно:
– Не волнуйтесь, мы хорошо заплатим.
– Значит, вы не с целью реквизиции?
– Будьте спокойны.
Это в момент изменило дело. Мы с готовностью приняли извинения касательно совсем простой еды.
Мы пили чай в маленькой комнате, заставленной громоздкой мебелью, где царил запах плесени и табака. Хлеба было вволю, к тому же нам, сверх всяких . ожиданий, выдали несколько ломтиков холодной свиной печени. Девушка накрыла стол и тут же удалилась. Аккерман рассматривал ее с почти невежливым интересом, что меня весьма удивил о, поскольку я предполагал в нем человека, стоящего выше подобных пустяков. Но я ничего не сказал, продолжая пить чай и поджидать хозяина, который вскоре появился.
– Я провожу вас в ваши комнаты.
Он зажег свечу, проворчав, что «они» отключили электричество и теперь на лестнице темно. Мы принялись медленно подниматься по спиралевидной каменной лестнице, держась за толстый канат, который спускался откуда-то сверху.
От пламени свечи на стенах, затянутых старой драпировкой, плясали фантастические тени. Наш хозяин – тщедушный, мрачный, со своей рыжевато-седой бородкой – весьма напоминал шекспировского Шейлока. Можно было подумать, что мы находимся в башне замка и, Господи, так далеко от ужасной реальности.
Я глянул в узкое оконце – настоящая бойница – и увидел неподвижную барку на черной воде канала. Какая тишина и какая вневременность!
Наш гид открыл какую-то дверь на крохотной лестничной площадке:
– Вот. Здесь будет спать резервный начальник. Пламя свечи колыхнулось, потом побледнело в маленькой круглой комнате, сплошь заставленной мебелью, где свет, рассеиваясь через окно цвета бутылочного стекла, создавал эффект аквариума.
Угловатая массивная мебель занимала почти все пространство комнаты, которую, вероятно, не часто проветривали. Я различил большую кровать с балдахином, ночной столик с потрескавшейся мраморной плитой, солидное пружинное кресло, пахнущее старой кожей.
– Простыней здесь нет, – обратился к нам Шейлок, пощипывая характерную свою бороденку. – Но, я полагаю, вы на это и не рассчитывали.
Аккерман что-то проворчал, достал свечу из кармана, поискал, где ее укрепить, и в конце концов нашел пустую бутылку в углу.
– Так будет лучше.
– Осторожней с огнем в доме, – нахмурился старик.
– Доброй ночи, командир, – поклонился я своему приятелю. – Если вас навестит ревенант, срочно вызовите меня.
– Идиот!
Я поспешил на лестницу вслед за Шейлоком, который вовсе не был расположен к болтовне. Через минуту он ввел меня в огромное и пустое помещение. Контраст с комнатой командира поразительный. Широкий белый камин занимал середину стены. В темном углу чуть выделялась маленькая, низенькая, почти детская кровать. Никакой мебели, даже стульев. Под потолком всю комнату опоясывала странная фреска примерно в полметра шириной, живописные мотивы коей возбудили во мне какие-то ассоциации с Древним Египтом: на ней изображались персонажи загадочные и стилизованные, символические фигуры, эзотерические знаки. Я хотел расспросить хозяина, но Шейлок уже выходил на лестницу. – Прощайте, офицер!
Я смотрел, как он спускается по лестнице, словно ввинчиваясь в глубокое подземелье, – огонек, медленно уменьшаясь, вскорости пропал совсем. Я остался один среди еще не сгустившейся ночи – высокие готические окна пропускали неверный сумеречный свет, которого едва доставало на комнату, огромную, как зал трибунала. Внизу я увидел немецких солдат в очереди у походной кухни. Они ждали терпеливо с котелками в руках, смеялись, шутили. Это была площадка близ канала, окруженная скамейками. На том берегу возвышалось мрачное серое здание – окна украшали причудливые выпуклые стекла светло-сиреневого цвета.
Солдаты отходили, устраиваясь с котелками на скамейках либо на краю тротуара, другие, опершись на поручни, разглядывали неподвижную мерцающую воду. Городской шум понемногу стихал, и наступала непонятная тишина, словно смерч войны, терзающий мою страну, пресытился здешним городом и умчался в другие края.
Я принялся раздеваться, глядя на весеннее небо, которое колебалось, не решаясь потемнеть совсем.
Несуразная, почти детская кровать, признаться, не радовала своим видом: простыни, одеяло, подушка – ничего этого не было, а визгливый, местами продранный пружинный матрас не обещал приятного ночлега. Я лег, накрывшись шинелью, проклиная отсутствие подушки, поджимая обеспокоенные ночной свежестью ноги. Странное дело: после пережитых трагических дней, после того как я вообще, благодаря Богу, выжил, меня все еще раздражали подобные вещи. Но человек так уж создан. Денег нет, багаж потерян, никакой надежды на получение вестей от родных, спешно уехавших куда-то к югу, полная неуверенность в ближайшем будущем… и при этом я раздражаюсь из-за ерундового дискомфорта, я, который в данный момент вполне мог лежать мертвым под луной!
Предаваясь такого рода размышлениям, я вдруг услышал непонятный шум наверху. Любопытно. По моим расчетам, я находился на последнем этаже, под самой кровлей. Наверху кто-то ходил, или, вернее, шаркал, или, еще вернее, перетаскивал чемодан.
Может, меня одолела дрема? И который может быть час? В окне без занавесей виднелось звездное небо. По улице кто-то шел – доносился четкий металлический стук каблуков… Снова тишина. И снова звуки над головой – на сей раз легкая, едва слышная, кошачья поступь… И в ту же секунду робко поскребли в дверь.
– Лейтенант! Вы спите? – прошептал женский голос.
И тотчас вошла молодая обитательница дома. Она держала в руке свечку, и отблеск пламени придал ее бледному лицу выражение экспрессивности и даже красоты.
Подложив под затылок ладони, я приготовился ее слушать.
– Мой дядя задумал уехать прямо этой ночью. Вы нас, наверное, не застанете утром.
Новость никак меня не потревожила.
– Я безумно боюсь всяких неприятностей оккупации. Моя мать двадцать два года назад…
Простодушие девушки было, конечно, трогательно, но ее история не интересовала меня. Я спросил, не найдется ли у нее подушки.
Она быстро пошла к двери, и тень, гигантская, танцующая, метнулась по стенам огромной комнаты.
Значит, старый Шейлок – обладатель рыжевато-седой бородки – поддался панике, задумал удрать Бог весть куда и предоставить своей милой племяннице возможность насладиться сомнительными прелестями бродячей жизни? Неужели он не понимает, навстречу какому риску бросает ее? Или он впутался в какую-нибудь грязную историю во время предыдущей войны и теперь… «Моя мать, – сказала она, – двадцать два года назад…»
Но вот появилась тень, за ней владелица тени. У меня под головой появилась большая подушка, пахнущая нафталином.
– Спасибо. Как вас зовут?
– Эльна. Вы позволите?
Она поставила подсвечник на пол, осветив мое непрезентабельное белье, и села на кровать, касаясь моего колена своим милым маленьким задом.
– Какая гнусность эта война, какая глупость, – вздохнула она. – И что теперь со мной будет?
– Ничего особенного, дорогая моя. Ваш дядя напрасно паникует. Все мало-помалу придет в норму.
Она помрачнела и нахмурилась.
– Лейтенант, я хочу вам кое-что рассказать. Я совсем не знаю вас, и это к лучшему.
Я предчувствовал, что сейчас начнется история ее жизни и что это продлится долго. Мне хотелось спать, и эта болтовня начинала раздражать меня.
– Ну что ж! Давайте…
– Мой отец был немецким офицером во время той войны…
Она, очевидно, ждала какого-нибудь эффекта и, так как эффекта не получилось, явно разочаровалась.
– Может вы не поняли? Я родилась в результате ненормальной, антипатриотической связи.
– Милая моя, что же вы огорчаетесь? Это случается во всякой войне. Успокойтесь. Вы отнюдь не одиноки в своем горе.
– Боже, зачем я вообще родилась! Мать должна была сделать что-нибудь.
– Не надо впадать в крайности. Уж если говорить о чьей-то вине, то виновата скорее ваша мать, которая дала себя соблазнить.
– Отец и не спрашивал ее согласия. Ей было тогда шестнадцать лет. Ребенок.
– Забудьте и перестаньте себя мучить. Вы симпатичная девушка. Дурные времена пройдут, и жизнь потихоньку наладится.
– Может быть. Но сейчас все так усложнилось. Мать умерла довольно скоро после моего рождения. У меня на всем свете только этот старый дядя – ворчливый и несносный. Правда, он так любил мою мать…
– А ваш отец, немецкий офицер… вы не знаете, что с ним?
Она беспокойно заерзала.
– Он никогда не подавал ни малейших признаков жизни. Я только знаю, что его зовут Людвиг… Понимаю, это глупо звучит, но у меня такое чувство, что если я покину этот дом, где он зачал меня, то потеряю его навсегда.
Продолжения не помню – должно быть, заснул. Труба разбудила меня очень рано. Побудка была совершенно незнакома. Слышалась немецкая речь – отовсюду сбегались солдаты. Отрывистые слова команды, бряцание оружия… Ужасное настоящее ударило в мозг.
Я быстро оделся и спустился в столовую. Эльна не обманула – в доме никого не было. Я звал, гремел посудой, несколько раз звонил у входной двери – напрасно. Даже мой приятель куда-то исчез.
(Мне больше никогда не пришлось его встретить, несмотря на то, что позднее я неоднократно пытался его разыскать).
Наконец, отчаявшись найти кого-либо, я вошел в комнату, где оставил его вечером. Знакомый запах старой кожи. На постели… Никогда не забуду…
На постели лежал скелет, чистый и белый, отмеченный безусловной элегантностью смерти. На полу – знаки отличия военного довольно высокого ранга. На треснутом мраморе ночного столика – документы. Пожелтевшее фото. Внизу подпись: Людвиг фон Аккерман.
Ламии ночи
Единственный и его призраки…
Уильям Айриш
Грустная, надрывная, тягостная ночь. Деревня вздрагивает в сонной и трагической одури. Небо опускается, надвигается, медленно проходят вытянутые, чудовищные облака, влача за собой собственные лохмотья, сквозь которые иногда виднеется бесстыдная луна, вздутая и синевато-белесая, как брюхо мертвой рыбы.
Ветер то замирает, то истерически вскидывается. Теплый, влажный безрадостный ветер срывает листья с перепуганных тополей, трясет оцепенелые изгороди, гонит по черной реке морщинистую рябь, которая сбивается, скрещивает и будоражит тростники.
Ночь дурного предсказания. Ночь извращенных поэтов и колдунов. Ночь зловещего и жестокого романтизма, населенная преступными душами и кошмарными снами.
Но кто еще способен в наше время почувствовать тайную и угрожающую жизнь ночи?
Закрытые ставни деревенских домов – нелепое спокойствие, тупое миролюбие. Наивный абсурд домашнего очага, непобедимый тягучий сон. Собака в своей конуре, корова в своем стойле, свинья с своем сарае, фермер в своей кровати – все одурманены ядовитым мороком. Это бесконечно ближе к смерти, нежели к жизни.
Ах! Просыпаясь утром, возвращаются из путешествия куда более далекого, нежели принято думать.
И в тот неуловимый момент, когда тайна смыкается над миром, не оставляя ни малейшего просвета, ламии ночи выходят крадучись, чтобы не потревожить … никого.
В любое другое время они совершенно обыденны и даже респектабельны. Их ловкость и хитроумие таковы, что они способны всю жизнь хранить свой ужасный секрет.
Они пускаются в дорогу и приходят в деревню из разных мест, гонимые повелением своей судьбы…
* * *
Первая покидает дом ветра.
Дом серый, морщинистый, беспокойный, как приговоренный к смерти. Логово контрабандистов и беглых каторжников. Камень и черепица. Враждебные ставни, одна из которых мучительно скрипит и зачастую обозленно хлопает. Дом зябнет на обочине, или на пустынном косогоре, или на бесприютном холме. Ни один бедолага, сколь бы он ни истаскался по болотам да буреломам, не подумает здесь просить приюта. Дом всегда молчалив, но выглядит так, словно ему ничего не стоит попотчевать наглого бродяжку ружейным выстрелом.
Ламия, крадучись, выходит из дома. Старая, сухая, костистая, худее изъеденного морозом дерева. Вокруг ее лица развеваются седые космы. Вокруг ее ног, крепких и тонких как палки, бьется рваное платье, словно неприкаянный парус.
Она нюхает ветер, придирчиво оглядывает дом, удаляется на сотню шагов, останавливается, снова подозрительно поворачивает голову и потом уже идет уверенно и споро. Едва заметная тропка выводит ее на извилистую окольную дорогу к деревне.
Ветер вздыхает, стонет, мечется, рвет придорожные кусты, наваливается на изгороди, шалый и пьяный собственной силой. Подхватывает один лист, второй, вздымает огромный ворох листьев и потом капризно рассеивает рождающийся лиственный силуэт.
Она жадно вдыхает родной ветер, раскидывает руки, чтобы его удержать, она – ламия ночи из дома ветра – шагает быстро и петлисто, напоминая хищную костистую неистовую птицу.
* * *
Вторая медленно и неохотно, словно мыльный пузырь соломинку, покидает дом воды. От заброшенной мельницы тянет гнилью и отсыревшим дубом, глиной и перегноем.
Низкая дверь открывается в черной каменной стене. Из камня ли эта стена? Выгнув спину, втянув голову в плечи, она вспухает, выявляется, выкругляется из провала двери, словно зверь из норы. Осторожно ступает по мягкой пористой земле. Смотрит направо, налево, поворачивается назад. Женщина в годах, оплывшая, отвратительная, жирная коротышка. Река неторопливо переваливается через обломки плотины, и полузатопленная ольховая ветка стучит иногда гулкой капелью по угольно-черной полосе, что возникает при встречах мельницы с луной.
Ламия воды – жирная, с распухшим, будто губчатым, лицом, откуда по каплям выжимается какое-то самодовольное достоинство. В чертах этого лица, смутно угадываемых в желатиновой, почти водянистой плоти, различается лицемерное, жуткое добродушие. Эта чудовищная фантазия на тему женского тела напоминает пиявку, раздутую от липкой, молочной воды.
Медленная, осторожная и терпеливая, она – бугристо-человечески-пузырная – тяжело отпихиваясь, тащится к деревне…
* * *
Третья совсем молода – зло не имеет возраста. Она вышла замуж этим утром, она проездом в деревне.
Никакая свадебная ночь не может ее удержать.
Поднимает голову с пуховой подушки, покидает ложе с бесконечной осторожностью, чтобы не разбудить своего мужа. Задерживается, чтобы кинуть презрительный взгляд на этого мужчину, который спит с открытым ртом, как перекормленный младенец.
Она пленительна, ее белокурые волосы распущены по плечам. Ей двадцать лет. Очень спокойная, очень невинная, очень решительная.
Накидывает пальто поверх ночной рубашки, спускается по лестнице, едва касаясь босыми ногами ступеней, скользит по коридору мимо стен, увешанных охотничьими трофеями…
Улыбаясь…
* * *
Деревня спит самозабвенно и глупо, как ее муж.
Час тьмы, сердцевина ночи.
Три ламии, повинуясь зову, ничего не зная одна о другой, боятся пропустить странное свидание.
И они не чувствуют трагического неба, враждебного ветра, тягостной дороги. И когда они разными путями подходят к площади перед церковью, бесстыдная луна выползает, чтобы им было легче распознать друг друга.
Никогда не встречавшиеся, они тотчас угадывают все. Замечая друг друга издали, они поднимают правую руку и ускоряют шаги. Сколько всего им надобно сказать!
Ламия дома ветра бодрее вскидывает голенастые ноги и расправляет пальцами дикие свои космы, оголяя морщинистый лоб. Ее лицо – серое, костистое, угловатое, вытянутое, жадное, злотворное…
Ламия дома воды выскальзывает как цефалопод на своих присосках, надувая пухлые дряблые щеки. Дыхание вырывается с присвистом, слюнные пузырьки пенятся на губах, которые она вытирает розоватой мясистой рукой.
Ламия белокурых волос идет гибкой, радостной походкой, самозабвенная, как дитя в магазине игрушек.
Какой контраст!
Они встречаются. Первая морщит лоб, изображая улыбку, ее острый нос любопытно шевелится в пергаментном безразличии щек.
Щеки второй опадают и волнисто раздуваются, большие, водянистые, тревожные глаза чуть не вылезают из орбит.
Третья раздвигает энергичные красные губы, обнажая белозубую безупречность…
И кажется тогда двум отвратительным старухам, постигшим, без сомнения, любые секреты зла и безобразия, что их молодая подруга обещает очень и очень многое. Эти две мегеры, искушенные в ремесле ведьмовства, содрогаются, предчувствуя за ней ледяную бездну кошмара, неопределенный силуэт нового фатального знака.
Они пристально рассматривают маленький капризный рот и силятся прочесть в нежных морщинках близ углов губ новую глубину извращенности этого мира. Потом эти зубы: ведьмовская премудрость угадывает в их прикусе фанатизм неистовой жестокости, блуждающей также и в глазах – столь голубых, столь бесстрастных, где танцует алый блик беспощадной судьбы.
В наклоне ее головы, в повороте шеи в последний раз, вероятно, ощущаются корчи издыхающей души, дрожь осуждения и гибели. На деликатных губах рождается, вероятно, последнее слово сожаления… Но ее спутницы, удовлетворенные мимолетным экзаменом, восторгаются присутствием новой дивной креатуры, цепенеют в предвкушении инфернального блаженства…
Сколько можно сказать, сколько можно сделать в эту проклятую ночь!
Слышен скрип часового механизма на колокольне. Три удара – последнее предупреждение. Небо становится совсем черным. Луна погружается в чернильную тучу, и ветер, до времени прячущийся в переулке, с хриплым воем бросается на площадь.
Три ламии ночи исчезают в темноте. Теперь у них одна забота – добраться загодя до своего жилья.
* * *
Торопливая тень растворяется в стене дома ветра на бесприютном холме. Дом воды на берегу жадно, словно пьяница глоток вина, втягивает медузовый призрак.
Дверь гостиницы остается открытой на всю ночь.
Тихо, тихо, на цыпочках, молодая супруга крадется по коридору под стеклянными взглядами оленьих голов, прибитых к стенам. Гибкая и сильная, проскальзывает в постель. Ее муж вздрагивает и пробуждается от прикосновения холодного тела. Она притворяется спящей. Ах, эти чутко опущенные веки, это ровное дыхание, этот белокурый локон на розовой щеке!
Он созерцает ее, очень гордый, очень счастливый, и восторженно шепчет:
– Ну и красотка! До чего свежа, прямо дикий цветок!
Она поднимает веки, удивленная, улыбающаяся. Он смеется и наклоняется к ней.
– Ты пахнешь ветром и водой. Так пахнет трава на рассвете.
И целует ее в губы, идиот.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































