Текст книги "Мировая революция. Воспоминания"
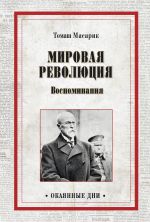
Автор книги: Томаш Масарик
Жанр: Книги о войне, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Панславизм и наша революционная армия
(Петроград – Москва – Киев – Владивосток. Май 1917 – апрель 1918 г.)
Первые сведения о русской революции были неопределенные и невероятные: я боялся ее с самого начала и все же, когда она пришла, был неприятно удивлен: какие будут последствия для союзников и для всего хода войны? Когда я получил более подробные сведения и кое-как ориентировался, я послал 18 марта Милюкову и Родзянко телеграмму, в которой выражал свое удовольствие по поводу переворота. Я выдвинул вперед славянскую программу; это подчеркивание в данном положении не было лишним ни для России, ни для Запада. Мне было нелегко говорить о плане союзников освободить угнетенные народы и усилить демократию, в то время когда я знал, что один из союзников – царская Россия – не слишком заботился о демократии и свободе; поэтому теперь, после революции, я мог сказать без всяких оговорок, что свободная Россия имеет полное право провозглашать свободу славян. Я кратко формулировал славянскую программу следующим образом: единение Польши в тесном союзе с Россией, единение сербов, хорватов и словинцев и, конечно, освобождение и единение нас – чехов и словаков. К этому я добавил, что дело касается не только нас, славян, но и латинских народов – французов, итальянцев и румын и их справедливых национальных идеалов.
Как видно, эта программа была формулирована по недавнему ответу союзников Вильсону и в связи со взглядами союзнических политических кругов, нам близких; я должен был также сообразовываться с тогдашним русским правительством и с Милюковым как с министром иностранных дел. Милюков сейчас же ответил дружественно.
Известия о революции и особенно о ее бурном ходе беспокоили меня. При всем моем знании России я не знал в данный момент всех действующих лиц и их значения. У человека могут быть опасения, он может предчувствовать, может представить себе общее положение и его дальнейшее развитие, но совсем нечто иное иметь в данную минуту конкретные познания о действительности, т. е., в конце концов, о главных действующих лицах, их склонностях и планах. А этих познаний у меня как раз и не было. Со стороны буржуазии и социалистов (демократов и революционеров) революции я не ожидал, я знал, что они не были подготовлены. После поражения я ожидал демонстративного восстания – такой демонстрацией было то, что Дума заседала, несмотря на ее роспуск царем, – но что армия и весь государственный аппарат и царизм были так глубоко подкопаны, как это оказалось, было все же неожиданностью, хотя я уже давно разглядел и осудил царизм и его неспособность.
У меня лично с официальной Россией были весьма натянутые отношения. Я был записан на черной доске; зато у меня были друзья в передовых партиях. Уже первая моя книга (О самоубийстве) была в русском переводе уничтожена; зато она возбудила внимание, например, Толстого. Моя критика марксизма («Социальный вопрос») прошла через русскую цензуру, была в русском переводе очень читаема и добыла мне знакомства; она не оттолкнула и марксистов, несмотря на то что они с ней не соглашались. Мои этюды о России были, конечно, запрещены; несмотря на это, они привлекли внимание своим немецким переводом; отрицательно писал о «России и Европе» с односторонней марксистской точки зрения, например, Троцкий (в венском социал-демократическом журнале «Der Kampf» осенью 1914 г.).
Зная отвращение реакционных элементов к себе и союзникам, я не торопился при царском правительстве в Россию; возможный конфликт с русским правительством мог бы усилить наших противников. Поэтому я старался влиять на официальную Россию через русских и союзнических послов, Сватковского, а также через русских, которые довольно часто приезжали на Запад; с нашими людьми я поддерживал сношения перепиской и особыми гонцами и членами колонии, которые приезжали ко мне. Когда мои личные знакомые и друзья сделались после революции влиятельными, а некоторые вошли и в правительство, я решил, что поеду в Россию и добьюсь создания армии из наших пленных; я рассчитывал особенно на Милюкова как на министра иностранных дел. Мы были с ним уже давно знакомы; во время войны мы с ним встретились в Англии и сговорились о главных пунктах военной и мирной программы.
К путешествию в Россию меня также толкало образовавшееся за 1917 г. на главном фронте (западном) серьезное положение. Я полагал, что пробуду в России несколько недель. Я устроил все необходимое в Лондоне и, между прочим, переговорил еще о положении в России с лордом Мильнером, который как раз вернулся из своей официальной миссии в России; после этого я 16 апреля 1917 г. отправился с английским паспортом в путешествие. Немецкие подводные лодки начали страшную борьбу также против пароходного сообщения между Англией и Россией; я должен был отплыть 17 апреля из маленького порта Эймбл, а пароход все не приходил и не приходил, так как в действительности он был потоплен. Я ждал день, два и вдруг неожиданно получил телеграмму из Лондона, что из России возвратился Штефаник; одновременно приехал его гонец с просьбой, чтобы я вернулся в Лондон. Так у неприятного приключения с пароходом оказалась та хорошая сторона, что Штефаник мог мне подробно сообщить о положении вещей в России. Он мне объяснил, как до сих пор там развивались легионы; о русской революции сообщил мне мнения выдающихся русских военных, а именно, что теперь наступление русской армии против немцев будет более живым и действенным, так как в армии прекратится влияние германофильских элементов. Многие руководящие личности в армии желали переворота и надеялись, что благодаря победе его достижения будут закреплены.
Из Парижа также приехал Бенеш, и мы могли, сообразно с сообщениями Штефаника, еще раз подробно сговориться о деятельности в России и о дальнейшей работе в Европе.
Я нашел другой пароход и выехал 5 мая в Абердин; на этот раз пароход доплыл в сопровождении двух минных истребителей. Я благополучно добрался до Бергена; ночью мы чуть не наскочили на неприятельскую мину, но капитан уже в последнюю минуту решительным поворотом предотвратил несчастье. Об этом я узнал лишь рано утром.
В Бергене я задержался лишь недолго. Всюду в городе легко было заметить и услышать, что Норвегия симпатизирует союзникам. Из Бергена я поехал через Христианию в Стокгольм, где задержался на день. Я не хотел ночевать, чтобы не привлекать к себе внимания различными формальностями с паспортом (несмотря на то что у меня был паспорт на чужое имя); мне между прочим сказали в Лондоне, что шведские чиновники, под давлением Австрии могли бы понять свой нейтралитет в том смысле, что я как известный противник Австрии, должен быть интернирован. Швейцарский прецедент принуждал к осторожности.
В Стокгольме меня ожидал редактор Павлу; здесь подготовлялся съезд Интернационала, особенно социалистов скандинавских и голландских. В Интернационале все кипело; в апреле в Готе немецкая социал-демократическая партия раскололась на два лагеря, и образовалась партия независимых. Влияние русских ленинистов начало всюду ощущаться (Ленин приехал в Россию 4 апреля), развивался пацифизм, а вместе о ним и некоторое германофильство.
Через Гапаранду я добрался 16 мая до Петрограда; при отъезде с вокзала я обратил внимание на целые тучи ворон, в прежние годы это мне, очевидно, так не бросалось в глаза…
Сейчас же по своем приезде я нашел Милюкова. Он как раз уходил из правительства – неприятный сюрприз; но понемногу я завязал связи с остальными членами Временного правительства, с председателем Совета министров, князем Львовым, с новым министром иностранных дел Терещенко и другими. Естественно, что меня больше всего интересовали иностранное и военное министерства. Я нашел и там и здесь, как и ожидал, несколько разумных людей, доступных доводам и сохранивших симпатии к союзникам.
Тогда в Петрограде, при очевидной слабости и неподготовленности правительства, были полезны сношения с союзническими представителями. Прежде всего это была военная французская миссия в Петрограде, главным образом генерал Ниссель и полковник Лавернь; в Ставке был майор Буксеншуц и генерал Жанэн, позднее наш генералиссимус (он был в России с апреля 1916 г.), в Киеве – генерал Табуи, в Яссах генерал Вертело – все они были искренними друзьями и охотно помогали. Французский посол Палеолог как раз покинул Петроград (по всей вероятности, наши поезда встретились); зато в Петрограде был Альберт Тома, дружественно настроенный по отношению к нам, в то время как Палеолог был австрофил. У Тома был секретарем редактор М.П. Комер, которого я хорошо знал благодаря Стиду.
Весьма любезным был английский посол сэр Джордж Вильям Бьюкенен; у него как у лояльного друга Временного правительства и либеральных кругов вообще было значительное влияние в тогдашнем Петрограде. Зато консерваторы и реакционеры распространяли о нем сплетни, что он устроил революцию, и т. д.
Весьма оживленные сношения у меня были с итальянским послом (маркизом Карлотти); он поддерживал меня перед своим правительством и убеждал, чтобы из итальянских пленных были созданы легионы. Наконец, оживленными были сношения с сербским послом Спалайковичем (известным у нас по процессу Фридюнга) и с румынским – Диаманди.
В это же время из Америки приехала миссия под руководством сенатора Рута; в ней также был мой старый друг м-р Чарльз Крейн, д-р Джон Р. Мотт и др. К ней был также прикомандирован проф. Герпер, славист, сын бывшего ректора Чикагского университета того времени, когда я там читал лекции. Из Америки также приехал Воска, посланный организовывать агентуру Slav Press Bureau для американского правительства; ему в помощники были даны наши люди – Коукол, редактор Мартинек и Шварц. Заехал в Петроград также Гендерсон – вождь английских рабочих; он был послан английским правительством для осведомления о положении в России. Был тут также и Вандервельде; уже давно мы были с ним в литературных сношениях, лично мы встретились при переправе из Абердина.
Как и всюду, я и в Петрограде завязал сношения с представителями главных политических партий и направлений. О Милюкове я уже говорил; я также встречался со Струве и другими кадетами. Из социалистов я возобновил сношения с Плехановым, которого видел последний раз в Женеве; нашел я и Горького, издававшего тогда свою газету. Познакомился я также с некоторыми социалистами-революционерами, редакторами их главнейших газет (Сорокин); Савинкова я видел позднее в Москве.
Я не ограничился лишь политическими деятелями и возобновил сношения с университетскими и академическими кругами.
Когда пришло правительство Керенского, я должен был вести переговоры с его членами. Лично с самим Керенским не удалось встретиться, так как он слишком много временя проводил вне Петрограда, особенно на фронте; я сам тоже часто разъезжал между Петроградом, Москвой и Киевом. Зато чаще я видел проф. Васильева, его дядю, которому и передавал свои поручения и просьбы.
Как в Лондоне и Париже, так и в Петрограде, Москве и Киеве я устраивал публичные лекции или широкие собрания с выдающимися и влиятельными лицами. Я осведомлял редакторов и сам написал несколько статей. В сжатом виде моя пропаганда сводилась – разбить Австрию! В России эта пропаганда была не менее нужна, чем на Западе, потому что и в России руководящие круги не имели определенного антиавстрийского плана и склонялись скорее к плану уменьшенной Австрии.
Особо я должен упомянуть о сношениях с поляками (русскими); с их руководящими деятелями я познакомился сейчас же по своем приезде. У меня были свидания с поляками во всех больших городах – их центр был в Москве, позднее мы договаривались об общих или по крайней мере параллельных действиях в военном вопросе. Поляки образовали из своих солдат свою будущую армию, и, конечно, в этом отношении у них были все те же затруднения, что и у нас.
Перед тем как я уехал из Лондона, я сговорился со своими друзьями, что пошлю как можно скорее сообщение о положении в России; дело касалось главным образом того, могут ли еще союзники и в какой степени рассчитывать на участие России в войне. Я довольно скоро заметил, что союзники не могут и не должны считаться с военной силой России. Этот свой взгляд я формулировал в телеграмме для «Times» около 25 мая; так как телеграммы подлежали цензуре, я не могу сказать, соответствует ли напечатанный текст моему черновику и тому, о чем мы договорились с петроградским редактором. Я не мог сделать ничего иного, как рассеять надежду на военную помощь России – в интересах нас всех было важно не предаваться иллюзиям. В Англии и в других союзнических государствах многие понимали революцию как протест против вялого ведения войны; но ведь полный развал армии, солдат и офицеров был виден всюду и во всем. Я не буду рисовать, как этот развал день ото дня все увеличивался; между прочим вспоминаю о тяжелом впечатлении от позднейшего женского батальона – многие наивные европейцы и русские не подметили в его образовании симптома военной разрухи и всеобщей деморализации.
Для официальной России и особенно царского двора глубоко характерна распутинская история. У меня были о ней уже сведения в Лондоне, в Петрограде я узнал о ней подробно. Представим себе только, что царский двор, а с ним и правительство Штюрмера и Трепова были под влиянием такого грубого и почти безграмотного, хотя и хитрого и, наверно, талантливого человека, каким был Распутин. И к тому же распутинщина длилась при дворе шесть лет! Если в оправдание говорят, что все это было религиозным экстазом, так мы должны сказать, что эта религия была лишь грубым суеверием и экстазом, многим не отличающимся от него. А ведь Распутин был не первым авантюристом, добившимся доверия суеверного царского двора.
Также несправедливо было бы говорить, что этой моральной эпидемии поддался лишь двор; налицо факт, что ни официальное, ни политическое, ни церковное общество достаточно не противились и не обладали ни способностями, ни авторитетом, чтобы спасти царя и Россию от влияния Распутина. Только представим себе, каковы были моральные и правовые условия, если Распутина не могли устранить иным способом, как убийством, и если убийство это осуществили высокопоставленный аристократ, консервативный депутат и член царской семьи (он знал об убийстве и присутствовал при нем). Когда я читаю подробное описание этого убийства (написанное самим Пуришкевичем), я вижу, насколько эти люди и в самом убийстве были неспособными, поверхностными и, благодаря этой поверхностности, излишне жестокими; и само убийство, и как оно было осуществлено, указывают на упадок и деморализацию официальной России – звучит это цинично, но это правда, эти люди не могли уже быть даже порядочными злодеями. Тем более ужасными злодеями были они!
А какова была эта царская семья, эта стая всевозможных великих князей, державших в руках высшие военные и штатские посты! То, что было в России, было, допускаю mutatis mutandis и в Австрии, и хотя в меньшей степени, в прусской Германии.
Этим моральным и политическим болотом несет также и от дворянства; оно было настроено против Распутина вовсе не по моральным или религиозным побуждениям, а лишь по кастовым причинам. Поэтому-то в их среде и зародился план избавиться от царя, в худшем случае как от Павла. Такое крайнее средство всегда является оружием людей пассивных, несопротивляющихся злу непрерывной работой. Я получил о плане дворцового переворота достоверные известия с нескольких сторон, которые, кроме того, теперь то здесь, то там проскальзывают и в печати.
То, что было сказано о дворянстве, касается и церковной иерархии.
Для меня в то время было самым важным разобраться в военном и политическом положении; ясно, что я не мог прийти к иному заключению, чем то, какое я формулировал для лондонской газеты.
От той России союзники не могли ожидать помощи, и от такой России не могли ожидать политической помощи и мы. Решающие причины поражения на фронте заключались в моральном гниении русского высшего общества и значительной части всего русского народа. Дело Мясоедова (и он был в сношениях с Распутиным – был повешен в марте 1915 г.) и Сухомлинова (арестован в мае 1915 г.) показали, что командный состав русской армии деморализован; и если бы даже не было шпионажа в пользу немцев, хотя это всюду твердили, самого факта этих процессов вполне достаточно для осуждения военного командования. Я не придаю особенного значения тому, действительно ли Протопопов при своей поездке с думцами, как многие утверждали, вел с Варбургом в немецком посольстве в Стокгольме переговоры о сепаратном мире с Германией (кажется, что этого не было, но никому не нужным разговором он сделал бестактность), но я вижу ясно ошибку и вину царского правительства в том, что оно пошло на войну без подготовки, необдуманно и в своих же интересах недобросовестно. Это-то и толкало его к Германии сейчас же после первых поражений; уже в марте 1916 г. были сведения, что Стиннес пытался примириться с Россией и что Штюрмер стал министром с оглядкой на Германию. То же самое было и с его наследником Трековым. Понятно, что союзники потеряли веру в Россию; одно время они даже опасались поставлять русским оружие и амуницию, так как они их могли употребить против самих же союзников.
Естественно также, что стратегический план союзников должен был изменяться благодаря военным недостаткам русских. Во Франции также многие не доверяли России из-за того, что она не прислала тех войск, которые обещала Франции. Русский военный командный состав после своих поражений все успокаивал союзников, что у него миллионы и миллионы войск; и действительно, особенно, говорят, Алексеев был за миллионные наборы, забывая, что для солдат не будет ни оружия, ни хлеба и что не будет возможности совладать с этой массой. Мне становилось прямо дурно, когда после наступления Брусилова русские генералы хвастались, что в их распоряжении пятнадцать и более миллионов солдат. Во Францию было обещано полмиллиона, а послано было не более шестнадцати тысяч (1916), и те должны были быть интернированы, так как не были дисциплинированы. Если некоторые русские уже тогда, а многие и до сих пор обвиняют Запад в неблагодарности, так как западные союзники будто бы сделали мало для России, то эти обвинения не имеют никаких оснований; союзники могли бы обвинять русских, что они не сдержали обещаний. Верно лишь то, что многие на Западе именно так смотрели на Россию сейчас же после поражений 1914 г.; начинали видеть, что Россия шла в войну неподготовленной, азартничая. Подобные сомнения о России я не раз слышал в Париже, Лондоне и Вашингтоне.
Несмотря на это, я признаю, что нельзя отрицать доброй воли России. Россия в самом начале войны откровенно обещала помощь Сербии; на Восточную Пруссию русские повели наступление как раз тогда, когда Париж был в опасности; Брусилов тоже начал действия, дабы этим облегчить Италии, и Керенский хотел помочь делу.
Русские очень часто выдвигают то оправдание, что измену совершила лишь придворная немецкая клика под руководством царицы. Это неверно. Царица к измене не была причастна; я проверял то, что об этом говорилось в думских кругах, и убедился, что она не была по отношению к России менее лояльна, чем сами русские. Я не хочу этим сказать, что из близкого круга царицы не шла измена благодаря тому, что она доверяла Распутину, а он был в руках хитрецов, которые могли использовать его отношения к царице. Роковое несчастье – ошибка царицы была в ее необразованности, в болезненном и грубом суеверии и политической неспособности при огромном властолюбии; ее величайшим несчастьем был безвольный царь и то, что она совершенно над ним господствовала. Он верил в нее как в божественного пророка, и, таким образом, она становилась верховной политической силой в России! Царица была ярой противницей конституционализма и Думы, а царь разделял с ней эту вражду: только представим себе, что лишь во время войны, в феврале 1916 г., он впервые посетил Думу! Генерал Алексеев хотел арестовать царицу, но было уже поздно, да это и не помогло бы.
Царь был лойлен по отношению к союзникам; когда в декабре 1915 г. граф Эйленбург, маршал берлинского двора, при помощи графа Фредерикса пытался начать мирные переговоры, царь их отверг, то же самое повторилось, когда в марте 1916 года попытался это сделать великий князь Гессенский (брат царицы). Не менее был он настроен и против германофильской агитации Витте. Он был также за энергичное ведение войны, но все это были лишь слова; энергично вести войну он не умел. Он был действительно «деревянный душой», как его охарактеризовали в Петрограде. Даже когда он видел печальное положение вещей, то ничего не предпринимал. Также немужественно вел он себя и потом, когда часть придворной клики выдумала план пустить немцев к Петрограду, дабы этим спасти трон. Что это не был единственный подобного рода план, я могу доказать теми сведениями, которые я получил в Лондоне о Горемыкине. Уже тогда этот русский министр, бывший сравнительно лучше, нежели его преемники, не боялся поражения и наступления немцев на Петроград: немцы-де могут завести в России порядок…
Слабость и неустойчивость царя можно подтвердить не одним фактом из истории его царствования. Приведу здесь историю в Бьерке (1905); он поддался уговорам Вильгельма и обещал помощь России против Англии в союзе с Германией и Францией – министр иностранных дел Ламсдорф и Витте должны были вмешаться, чтобы помешать ратификации договора. Одновременно должно быть отмечено, что император Вильгельм этим своим планом выказал значительную политическую близорукость. Во время войны царь действовал также невозможным образом: впутался по воле царицы в верховное командование и наделал этим массу зла, увольняя лучших людей, как Сазонова, и назначая Штюрмеров и прочих креатур. Что касается нас, то он нарушил, как мы увидим, свое обещание, как нарушил некогда обещание, собственноручно им подписанное в Бьерке.
Витте в своих мемуарах говорит о Николае, что он был человеком весьма хорошо воспитанным, но что касается образования, то он был на уровне гвардейского полковника из хорошей семьи – отрывки из его интимного дневника в дни революции и отречения от престола, которые были теперь напечатаны, до указа подтверждают мнение Витте – прямо ничто! Я вижу, что не был несправедлив к царю, когда не доверял всей его политике и характеру.
Царский Содом и Гоморра должны были быть уничтожены огнем и серным дождем. В таком положении не был лишь двор и придворное общество – деморализация была весьма распространена и захватила все круги, особенно же так называемую интеллигенцию, а также и мужика. Царизм, вся политическая и церковная система деморализовали Россию.
Если я так подчеркиваю моральную сторону царского режима, то в то же время я вполне сознаю, что нравственность и безнравственность общества проявляется, естественно, во всей государственной и военной администрации. Недостаток продовольствия для армии и населения был, например, одним из последствий этого морального состояния, за которое потом получило отмщение правительство и вся система; революция в Петрограде была фактически вызвана голодом, а первые полки, которые восстали, были продовольственными отрядами. Недостаток оружия, бессмысленные массовые наборы осенью 1916 г., следствием которых был недостаток рабочих сил на полях и т. д., все это было проявлением и последствием управления осужденного на смерть.
Я имею право так судить о России во время войны, потому что я ее судил и осуждал подобным же образом и перед войной; свое суждение я не обосновываю лишь на неуспехах войны, ибо они являются последствием тяжелой моральной болезни всего царского режима, а с ним и русского народа. В этом не может оставить ни малейшего сомнения изучение дореволюционной России и особенно ее литературы. Величайшие писатели показывают нам русскую душу больной и хворой, но одновременно открывают перед нами и ее стихийную тоску по правде. Толстой лишь рельефно выразил то, по чем тосковали все, видя сущность искусства лишь в правде, правдивости. Царизм как раз правдой не был, а война не обнаружила эту неправду больше и лучше, чем Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Гончаров, Тургенев, Достоевский, Толстой и Горький! Теперь русские зовут Достоевского прямо пророком революции – война и революция являются кровавым подтверждением русской литературы…
Россия пала, должна была пасть из-за своей внутренней неправды, как сказал бы Киреевский. Война была лишь великим поводом, при котором появилась наружу внутренняя неправда во всей своей наготе, а царизм пал сам собой. Царизм сумел цивилизовать Россию в грубых чертах, т. е. дать европейские возможности дворянству, бюрократии, офицерству, но мужик и солдат – мужик – Россия – жили вне этой царской цивилизации, а потому и не защищали ее, когда во время войны она не смогла сама удержать себя из-за своей скудости и внутренней нищеты.
Великую вину в этом я приписываю русской церкви и ее пассивности; она виновата в том, чего не делала, т. е. что не заботилась в достаточной мере о моральном воспитании народа. То, что славянофилы, особенно Киреевский, хвалят в русской церкви, то является именно ее величайшим недостатком – Чаадаев видел лучше, чем славянофилы.
К этому взгляду о моральной основе царизма я пришел задолго до войны; в своей книге о России, вышедшей как раз перед войной, я описал и анализировал печальное положение России. Естественно, что после объявления войны я не мог договориться с некритическими русофилами, как нашими, так и русскими.
Чешская колония в России ожидала освобождения народа от царя: принимая во внимание политическое образование нашей русской колонии, это становится вполне понятным, тем более что царь лично относился к нашим вполне прилично. В самом начале войны, 20 августа, он принял чешскую депутацию. Я уже упомянул о тех надеждах, которые возбудила царская аудиенция и у нас на родине. Немного позднее, 17 сентября 1914 г., царь принял снова чешскую депутацию и высказал свой интерес к Словакии, потребовав о ней особый меморандум. В 1915 г. он послал нашим легионерам во Франции ордена. В 1916 г. он говорил о чешском вопросе со Штефаником, которого в русских военных кругах и при дворе весьма усиленно поддерживал генерал Жанен; в июне царь дал согласие на освобождение славянских военнопленных, а в декабре снова принял чешскую депутацию.
Итак, царь лично вел себя весьма хорошо, но тем более выступает и в этом случае разница между царем и царизмом. Конечно, выступления царя неответственны, но наши соотечественники в России пьянели от каждого заявления, в котором говорилось о славянских братьях; я высказал уже в самом начале свое мнение и обратил внимание на то, что официальная Россия под славянами подразумевает главным образом православных.
Россия и особенно царь, правда, с самого начала стали за Сербию, но в пользу Сербии говорили и остальные державы, никто не хотел допустить, чтобы Вена наложила свою руку на независимость Сербии. С «карательной экспедицией» Россия так же бы согласилась, как и Англия.
Наши русские земляки ссылались особенно на аудиенцию 17 сентября 1914 г.; но тот, кто прочтет внимательнее сообщение о ней, будет разочарован именно этой аудиенцией. От политических детей может отделаться словами особенно политический ребенок, каким был царь; он проявил интерес, но решительно ничего не обещал. Депутация указала ему на карте территорию будущего государства, в которое входила и Вена, и Верхняя Австрия, царь против этой фантазии не протестовал и закончил все словами: «Благодарю вас, господа, за информацию. Надеюсь, что Бог нам поможет и Ваше желание будет осуществлено». Я также верю в Бога, но не в бога распутинского – в соответствии с этим все и вышло.
Царь, как известно, слышал при дворе своего отца разные вещи о славянах и интересовался, как говорят, особенно лужичанами; но у него не было всеславянского плана, не имели его и его министры. Иначе бы он не назначил министром иностранных дел такого человека, как Штюрмер, о котором знал, что он германофил. Царь в марте 1916 г. также соглашался с бароном Розеном, известным своим антиславянством и германофильской программой, в том, что Россия и союзники должны как можно скорее заключить мир (если возможно, под руководством Соединенных Штатов).
Я уже приводил краткое содержание речи Сазонова в Думе (8 августа 1914 г.). Я знал прошлое и взгляды Сазонова, которого царь отстранил потому, что он был представлен ему, как либерал. Он, конечно, не был согласен с распутиновщиной и вообще был весьма приличным человеком, но и у него не было положительного славянского и чешского плана войны. Сазонов, об этом мы знали на Западе, был против войны и особенно старался избежать конфликта с Германией, а уже потому у него не было такого славянского плана, какой ему наши люди наивно приписывали. Сазонов, совершенно так же, как и другие высокопоставленные чиновники, говоря о славянах, думал прежде всего о православных. Я приводил его выступление в Думе в начале войны. Это также ясно видно и из того разговора, который имела с ним упомянутая другая депутация, принятая 15 сентября, которой наши придавали также большое значение. Сазонов расспрашивал, как представляют себе чехи отношение православной династии к католическому народу, и высказал при этом свои сомнения; депутация ссылалась на нашу чешскую терпимость! Сазонов высказался, как гласит сообщение, весьма дружественно о нашем народе и в конце также обратился к Богу: «Если Господь пошлет решительную победу русскому оружию, то восстановление вполне самостоятельного королевства будет вполне совпадать с планами русского правительства, об этом вопросе уже думали до начала войны, и все принципиально было решено вполне положительно для чехов». Я цитирую сообщение со слов депутатов; каждый видит, как осторожно и неответственно говорил Сазонов. Я его в этом не обвиняю; как русский и как ответственный министр, он на это имел право и даже обязанность; мне важно лишь то, чтобы мы избавились от славянофильских и руссфильских иллюзий. Интерес Сазонова к православным совпадает с тем, что было сказано об Извольском. Палеолог в своих воспоминаниях о царской России рассказывает, что 1 января 1915 г. он предлагал Сазонову, чтобы союзники привлекли к себе Австро-Венгрию и направили ее против Германии; Австрия, по всей вероятности, уступила бы России Галицию, Сербии – Боснию-Герцеговину, и этим бы дело и закончилось. На это Сазонов спросил французского дипломата, что же будет с чехами и хорватами. Палеолог ответил, что для Франции чешский и югославянский вопросы являются второстепенными, будет вполне достаточно, если чехам и хорватам будет дана широкая автономия. Сазонов, по словам Палеолога, казалось, был поколеблен этой аргументацией и считал, что план заслуживает, чтобы над ним подумали. Если Палеолог правильно рисует всю сцену, то тогда, по моему мнению, у Сазонова в первой половине войны не было целостного славянского плана: если бы он у него был, то он не мог не выступить со своими аргументами против рассуждений французского дипломата. (Обратите внимание, что Сазонов говорит лишь о чехах и хорватах, а отнюдь не о землях, принадлежащих им.)
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?





































