Текст книги "Баудолино"
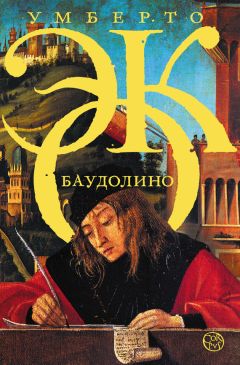
Автор книги: Умберто Эко
Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
6
Баудолино едет в Париж
Приезд Баудолино в Париж можно назвать и запоздалым. В те школы поступали еще до четырнадцати лет, а ему было уже на два больше. Но многому он успел научиться у Оттона, поэтому позволял себе ходить не на все уроки, как будет описываться ниже.
Он выехал не один, а с рыцарским сыном из Кельна, предпочитавшим бранному поприщу свободные искусства, в огорчение отцу, но при поддержке матери, сызмальства отмечавшей в нем задатки будущего поэта; Баудолино даже не знал, или знал, да сразу забыл, его истинное имя, поскольку звался он Поэтом и так его именовали все на свете. Довольно быстро Баудолино понял, что у Поэта нет никаких стихов, он их не пишет, а только обещает написать. Поскольку Поэт бесперемежно цитировал стихи чужие, в конце концов даже отец его понял, что парню верная дорога – служение Муз, и он позволил детищу отъехать, дав на дорогу самое скудное довольствие, так как ошибочно считал, что того немногого, что позволяло прожить в Кельне, достанет для существования в Париже.
Тотчас же по приезде Баудолино поспешил послушаться императрицыного приказа и написал ей несколько писем. Он полагал утешить жгучую боль, следуя договоренности. Но тут же понял, до чего неутешно при письме умалчивать то, что истинно ощущаешь, и составлять совершенные и любезные эпистолы с описаниями Парижа: в этом городе, полном превосходных церквей, воздух и свеж и ясен, небо пространно и светло, если не льют дожди, но дожди случаются не чаще раза-двух в день. Прибывшему из края вечного тумана то, что он видит в Париже, кажется постоянной весной. Перегибистая река с двумя островами в середине, чистая вкусная вода, а сразу под городской стеной начинается благоуханный луг, рядом с монастырем Сен-Жермен, где в послеобеденную пору так славно протекает время за игрой в мяч.
Он рассказал ей о своих первоначальных хлопотах, поисках комнаты. Комнату следовало снять напополам с товарищем и желательно не по самой разбойной цене. Та, которую они нашли, была все-таки дорогая, но зато не тесная. Там стоял стол, две скамьи, были полки для книг и большой ларь. Еще высокая кровать с периной из страусовых перьев и другая кровать, пониже, на колесах, с периной из гуся, днем ее полагалось закатывать под большую. В письме не сообщалось, что после некоего легкого разногласия по поводу дележки кроватей было решено, что сожители ежевечерне станут решать за шахматной доской, кому достается удобное ложе (шахматы при дворе считались занятием неприличным).
Следующее письмо рассказывало: утром подъем бывает рано, так как занятия идут уже с семи и до позднего предвечернего времени. Дабы выдержать подобный день, следует запасаться доброй порцией хлеба и фляжкой красного. Учебное помещение – вроде овина, ученики сидят на соломе, и в помещении зябче чем на улице. Беатриса растрогалась и рекомендовала вино не экономить, ибо в противном случае молодой человек целый день будет ощущать себя вялым; а также нанять слугу, не единственно для ношения книг, ибо книги тяжелы и не по званию носить их самолично, но и ради закупки дров, чтобы загодя растапливалась печка в комнате и для вечера обиталище согревалось. И ввиду этих предвидимых расходов Беатриса посылала четыре десятка сузанских сольдов, что хватило бы купить быка.
Никакой слуга не был нанят и дрова никакие не покупали, потому что двух перин им хватало вполне, сумму же использовали более толково, учитывая, что в тавернах по вечерам было натоплено и имелась возможность прийти в себя после тяжелого дня, потискав служанок за ляжки. Вдобавок в тех жизнерадостных пристанищах – «Серебряном щите», «Железном кресте» или «Трех подсвечниках» – им подавали немало чарок, а к ним солидных со свининой пирогов, куриных паштетов, жареных гусей и голубей; когда приходилось экономить, они ели баранину и рубец. Баудолино делился с вечно безденежным Поэтом, а не то – есть бы тому рубец семь дней в неделю. Но делиться с Поэтом было и накладно. К снеди ему требовались настолько обильные винные сбрызгивания, что сузанский бугай тощал на глазах.
Обойдя молчанием вышеописанное, Баудолино сосредоточивался на обрисовывании преподавателей и разномастных преподававшихся умностей. Беатриса к этим пассажам была особенно чувствительна, ими удовлетворялась ее охота к познанию и она по многу раз читала в Баудолиновом изложении пересказы наук: грамматики, диалектики, риторики, арифметики, геометрии, музыки и астрономии. Баудолино же стыдился все пуще, потому что утаивал, во-первых, и то наиважнейшее, чем переполнялась душа, а во-вторых, и еще кое-что, чем он порой занимался, но о чем нельзя рассказывать ни матери, ни сестре, ни императрице, ни тем более – любимой женщине.
Прежде всего, за игрой в мяч в окрестностях Сен-Жермена было в обычае задираться с местными жителями или со студентами-иностранцами. Скажем, пикардийцы атаковали нормандцев, ругая друг друга по-латыни, чтобы было понятнее и обиднее. Все это мало нравилось главному профосу, он посылал своих лучников усмирять оголтелых. Ясно, что в подобном положении студиозусы забывали о междоусобьях и объединялись между собой, чтобы мутузить лучников.
На свете не было худших взяточников, нежели лучники профоса. Поэтому, когда они ловили кого-то, всем остальным студентам приходилось развязывать кошельки и выручать однокашника. От этого парижское житье становилось еще разорительнее.
Во-вторых, студент без любовной интрижки – посмешище всех знакомых. К сожалению, женщины составляли наименее доступную часть парижских радостей. В университете женского пола было почти не видно, и все еще рассказывались легенды о соблазнительной Элоизе, по любви к которой воздыхателю оттяпали хвост, даром что он был не бедный студент, существо дурнославное и пренебрежимое, а почтенный профессор: великий, несчастный Абеляр. Покупной любовью можно было пробавляться только время от времени, она чересчур дорого стоила, а следовательно, оставались трактирные подавальщицы или поломойки из соседнего квартала. Но и в соседнем квартале студентов было гораздо больше, чем поломоек.
Только разве фланировать с равнодушным и победительным видом по Ситэ и соблазнять дам благородного сословия. Весьма популярны были жены гревских мясников, тех, кто после славной карьеры в своем промысле уже не забивали скот, а правили всем мясным рынком и держались как господа. Будучи супругами людей, которые начинали со свежевания бычьих четвертей и чье благосостояние пришлось на поздний возраст, женушки были неравнодушны к миловидным студентам. Беда лишь, что они расфуфыривались в такие пушистые меха, в серебряные пояса и в побрякушки, что с виду были почти неотличимы от высокопоставленных блудниц, которые, пренебрегая запретами городской управы, носили именно эти наряды, тем самым вводя студиозусов во вполне оправданное заблуждение, после чего они нещадно осмеивались сотоварищами.
Кому же все-таки везло захомутать уважаемую горожанку или невинную девицу, тот рано или поздно попадался ее отцу или мужу. Переходили на личности, на кулаки, на дубье, вплоть до смертоубийства (чаще всего отца или мужа), и все начиналось снова: в дело вступали лучники профоса. Баудолино никого не убивал. Он вообще держался подальше от стычек. Но одного такого мужа (мясника) ему не повезло миновать. Пылкий в любви, однако на поле брани осторожный, в час, когда супруг явился в спальню, вооруженный железной клюкой для подвешивания бычьих туш, Баудолино сиганул в окно. Едва помешкав на подоконнике, чтобы промерить высоту этажа, он успел получить такую царапину на щеку, что навсегда поперек лица у него остался шрам, достойное украшение воина.
С другой стороны, завоевание горожанок требовало слишком много времени, в ущерб учебе: целыми днями в засаде у окна, подстерегая проходящих прелестниц… можно было одуреть, честное слово. Забывая любовную мечту, школьники лили помои на прохожих и стреляли по ним горошинами из рогатки, мяукали, видя проходящих преподавателей, а приведись иному из тех рассердиться – провожали с кошачьим концертом до самой квартиры, а там бомбардировали ему камнями окна, ибо в окончательном счете студенты платили преподавателям деньги и поэтому им дозволялись, черт побери, определенные вольности.
Баудолино рассказывал Никите то, что утаил от Беатрисы, то есть что он постепенно превращался в отпетого школяра, которых множество изучало свободные искусства в Париже, юриспруденцию в Болонье, в Салерно – медицину и магию в Толедо, однако ни в одном месте пристойному поведению не обучалось. Никита терялся, возмущаться ли, удивляться или смеяться. В Византии были известны только частные учителя для зажиточных детей, чтоб они с самого неполнолетия знали грамматику и читали божественные книги, а также главные произведения классической словесности. По достижении одиннадцати лет брались за поэзию и за риторику, воспроизводя в своих опытах образцы античности. Терминология приветствовалась самая редкая, синтаксические конструкции – замысловатые. Чем отличнее преуспевал в этой науке юноша, тем он считался годнее для светлого будущего в имперском правительстве. Наконец, знания полагалось отшлифовать либо при некоем монастыре, либо с домашними учителями – правоведами, астрономами. К ученью относились уважительно, не то что в Париже, где студенты интересовались любыми вещами помимо науки.
Баудолино не согласился: – В Париже учились, и очень серьезно. Год на третий уже начинали участвовать в диспутах. Диспуты учат подбирать возражения и переходить к определению, а затем к окончательному решению задач. Кроме того, не следует думать, будто уроки – наиважнейшее для студента и что таверна – такое место, где студенты только теряют время. В университетах хорошо то, что многое воспринимается от преподавателей, но не меньшее от друзей, особенно от тех, кто тебя взрослее, они делятся с тобой прочитанным и ты обнаруживаешь, что на свете полно интересного. Чтобы познать все это, поскольку, по определению, объездить весь свет жизни не хватит, имеется один выход, прочитать все на свете книги.
Баудолино немало книг перечитал у Оттона, однако и помыслить не мог, что бывает их на свете столько, сколько он увидел в Париже. Они были не для всех равно доступны, но тут благое обстоятельство, вернее, благоусердное хождение в школу свело его с Абдулом.
– Чтобы пояснить, какая связь между Абдулом и библиотеками, нужно отступить на шаг назад, государь Никита. Однажды, сидючи на лекции и согревая дыханием пальцы… к прискорбию, зад дыханием не согреешь, так что он потихоньку себе отмерзал, ибо тонкая соломка была такой же ледяной, как и пол, и как весь Париж теми зимними днями, я заприметил сбоку от себя парня, на лицо вылитого сарацина, но с рыжими волосами, которых у мавров не бывает. Не знаю, слушал ли он урок или следовал своим мыслям, но, казалось, витал за сто верст. То и дело с дрожью запахивая одежонку, он то вперивался в пространство, то корябал что-то там на табличке. Я посильно вытянул шею и увидел, что половина записей выглядела как мушиный помет, а таковы письмена арабов, вторая же половина напоминала латынь, хотя и не являлась ею. Я даже уловил сходство с наречием своих родных мест. В общем, по окончании урока я с ним заговорил. Ответил он охотно, будто не ждал иного. Мы подружились, и он, прогуливаясь около реки, поведал мне историю своей жизни.
Итак, молодой этот человек, Абдул, был и взаправду мавром, но только мать его происходила из Гибернии, и этим объясняются его пылающие патлы. Все, кто прибывает с того далекого острова, лежащего севернее Британии, обычно рыжи и пользуются славой оригиналов и фантазеров. Отец Абдула был провансалец, его семья переселилась за далекое море после захвата Иерусалима не менее как за полвека или еще прежде того. Как объяснял Абдул, благородные франки, обитающие за далеким морем, перенимают обычаи тех народов, которые завоевали: одеваются в тюркском вкусе, носят тюрбаны, изъясняются на языке басурманов и чуть ли не следуют заповедям Алькорана. По этой причине гиберниец (наполовину) с рыжими волосами был наречен Абдулом и кожу лица имел опаленную сирийским родимым солнцем. Он думал обыкновенно по-арабски, но старинные саги студеного северного моря, услышанные от матери в детстве, перелагал почему-то на провансальский язык.
Баудолино спросил его сразу, прибыл ли тот в Париж дабы сделаться правым христианином: кормиться как принято в этих местах, выражаться как принято в этих местах – а именно по-латыни. От ответа о цели приезда Абдул уклонился. Намекнул на некую тревожную, беспокойную историю, на испытание, пережитое в раннем отрочестве. Потому-де благородные родители отослали его в Париж, оберегая от не разберешь какой мести. При рассказе Абдул мрачнел, и краснел, насколько способен покраснеть мавританец, и настолько сильно весь трясся, что Баудолино предпочел переменить тему беседы.
Юноша был очень способным: прожив три-четыре месяца в Париже, он заговорил и по-латыни, и на местном вульгарном диалекте. Жил он у своего дяди, настоятеля Сен-Викторского монастыря, где хранилось бесценное книжное собрание, крупнейшее по размерам как для того города, так и вообще для крещеного мира, по богатствам превосходившее александрийское! Вот тем-то образом благодаря Абдулу в последующие месяцы и Баудолино с Поэтом получили доступ к сокровищнице знания.
Что он там строчит во время лекций, спросил Абдула Баудолино, и услышал, что пометки по-арабски содержат смысл объяснений преподавателя, толковавшего диалектику, потому что арабский язык несомненно удобен для философии. Все же остальное Абдул записывал по-провансальски. Он не хотел объяснять, долго уклонялся, но притом казалось: ждет, чтобы попросили. Наконец поведал, и даже перевел записи. Оказалось, что это стихи, и звучат они примерно так: «Печаль и радость тех бесед / Храню в разлуке с дамой дальней…»
– Пишешь стихи? – спросил Баудолино.
– Слагаю песни. Пою о своих чувствах. Я люблю далекую принцессу.
– Принцессу? А кто она?
– Не знаю. Я видел ее… Вернее нет, но все равно, как будто видел… Когда я был в плену в Святой Земле… Неважно, во время той истории, о которой я тебе не рассказывал. Сердце мое воспылало, и я поклялся в вечной преданности этой Даме. Я решил посвятить ей всю жизнь. Может быть, я найду ее когда-нибудь. Однако я того же и страшусь. Нет, сладостнее изнемогать от любви неутолимой…
Баудолино собрался было сказать ему: вольно дурить, по незабвенному выражению родителя Гальяудо. Но потом припомнил, что он и сам тоже изнемогает от любви неутолимой (хотя свою-то Беатрису он безусловно видел, и это видение изнуряло его по ночам). Тогда он смягчился к несчастной участи друга Абдула.
Так начинаются настоящие дружбы. Однажды вечером Абдул заявился на квартиру Баудолино с Поэтом. Он нес какой-то инструмент, который Баудолино видел впервые, по форме – мандолину, и со многими натянутыми струнами, и, бегая перстами по этим струнам, Абдул запел:
Quan lo rius de la fontana
S'esclarzis si cum far sol,
E par la flors aiglentina
E'1 rossignoletz el ram
Volv e refraing et aplana
Son doutz chantar et afina,
Dreitz es q'ieu lo mieu refraigna…
В час, когда разлив потока
Серебром струи блестит,
И цветет шиповник скромный,
И раскаты соловья
Вдаль плывут волной широкой
По безлюдью рощи темной,
Пусть мои звучат напевы!
От тоски по вас, далекой,
Сердце бедное болит.
Утешения никчемны,
Коль не увлечет меня
В сад, во мрак его глубокий,
Или же в покой укромный
Нежный ваш призыв, – но где вы?!
Взор заманчивый и томный
Сарацинки помню я,
Взор еврейки черноокой, —
Все Далекая затмит!
В муке счастье найдено мной:
Есть для страсти одинокой
Манны сладостной посевы.
Хоть мечтою неуемной
Страсть томит, тоску струя,
И без отдыха и срока
Боль жестокую дарит,
Шип вонзая вероломный, —
Но приемлю дар жестокий
Я без жалобы и гнева.[12]12
Перев. со старопрованск. В. А. Дынник
[Закрыть]
Музыка была сладкой, и аккорды возбуждали незнаемую или дремлющую страсть, и Баудолино думал о Беатрисе.
– Господи Боже, – сказал на это Поэт. – Ну почему я неспособен написать ничего такого?
– Я не хочу быть поэтом. Я для себя пою. Если хочешь, могу подарить тебе эту песню, – ответил Абдул, весь во власти своей нежности.
– Спасибо большое, – ответил Поэт. – Ты мне подаришь, я переведу на немецкий, и получится дерьмо.
Абдул стал третьим в их дружбе. Как только у Баудолино хоть на минуту выходила из головы Беатриса, тут чертов рыжий мавр щипал проклятущие струны и пел, и у Баудолино вновь разрывалось на части сердце.
Если соловушка в кроне
Нежно любовь выпевает,
Лада ему отвечает,
С ним голоса сочетает,
В каждом сливался стоне,
На травянистом уклоне,
Радость сердце пронзает.
Дружеской песенкой тою
Душу мою утешает.
Только любви взывает,
Награды иной не чает
И не прельстится иною.
Сердце мое больное
Мудрая грусть наполняет.
Баудолино уговаривал себя: однажды он сочинит такие же песни для своей дальней императрицы, но он не знал, с чего начать эту работу, так как ни Оттон ни Рагевин никогда не говорили с ним о поэзии, разве только преподавая священные гимны. Так что он пользовался дружеством Абдула, чтобы проходить в сен-викторскую библиотеку. Там он целыми долгими днями, похищенными у занятий, беззвучно шевелил губами, впитывая повести и сказки. Прощайте учебники грамматики! Тут его ждали Плиниевы истории, «Александриада», география Солина и этимологии Исидора…
Он читал о далеких землях, тех, где обитают крокодилы (крупные водяные змеи, которые, пожрав человека, плачут, двигают лишь верхнею челюстью и не имеют языка). Гиппопотамы, наполовину люди и наполовину лошади. Зверь половый (беложелт, левкохр), имеющий тело осла, стегна оленя, грудь и голени львиные, копыта конские, рога раздвоенные, рот растянутый до самых ушей, кричит голосом человека, а на месте зубов у него сплошной костный мост. Он читал о людях, имеющих ногу без коленного сустава, рот без языка, огромные уши, которыми они укрываются от холода, и об исхиаподах, проворно бегающих на своей единственной ноге.
Неспособный отправить Беатрисе чужие песни (да и были бы они свои, все равно бы не отважился отправить), он решил, что как милой преподносятся цветы и драгоценности, так же можно преподнести те перлы знания, которыми он теперь обладает. И вот он стал писать о ландах, изобилующих мучными и медовыми деревьями, о горе Арарат, на вершине которой безоблачными днями видны остатки Ноева ковчега, и кто добирался до них, тот вкладывал палец в дырочку, послужившую для бегства бесу с корабля, когда Ной начал читать молитву Benedicite. Он рассказывал про Албанию, где обитатели столь белокожи, сколь никто иной на свете, и растительность имеют на теле жиже, нежели усы у котов. В другой стране, продолжал Баудолино, люди, глядя на восток, отбрасывают тени от себя направо. Еще в другом месте живут люди злобные, кто при рождении ребенка правит горестную тризну, а если помрет их дитя – радуются. Еще стоят великие горы из золота, сторожат их муравьи, каждый величиной с собаку. Есть на свете амазонки, женщины-солдаты, их мужчины проживают в соседней державе, младенцев мужеского пола амазонки отдают отцам или убивают, а младенцам женского пола выжигают одну из грудей каленым железом: если чадо благородного рода – левую, чтобы было место щиту, а у чада низкого происхождения – правую, чтобы было место луку. Наконец, Баудолино писал о Ниле, той одной из четырех рек, чьи истоки возникают из Земного Рая, что течет в пустынях Индии, проникает в подземелие, взводится на гору Атлас и потом впадает в море, перерезав весь Египет.
Дописавшись до Индии, Баудолино готов был забыть о Беатрисе, так увлекся новыми фантазиями: даже втемяшил себе в голову, что где-то в Индии обретается царство пресвитера Иоанна, слышанное от Оттона. О том царстве Баудолино думал, надо заметить, беспрестанно. Всякий раз, читая о неведомом государстве, а в особенности когда на пергаментах ему попадались многоцветные миниатюры странных существ, будь то рогоносцы или пигмеи, те, чья жизнь проходит в постоянной борьбе с журавлями… упорно думая о нем, Баудолино мысленно привык считать пресвитера Иоанна кем-то вроде старого знакомого. Потому обнаружить место его обитания было для Баудолино великим делом, а если место такое не обнаруживалось – надо все же было подыскать такую подходящую Индию, куда бы пресвитера определить. Ведь Баудолино считал себя связанным клятвой (клятва, по правде, никогда не была дана) любимому епископу в смертную минуту.
О пресвитере услышали от него оба товарища и, немедленно увлекшись этой игрой, стали передавать Баудолино самые несвязные, но примечательные мелочи, обнаруженные в разных манускриптах, лишь бы только от них веяло индийскими фимиамами. У Абдула промелькнула даже идея, что его далеживущая принцесса… если должна жить так уж далеко, быть может, укрывает свою красу в стране, которая далече всех дальних.
– Да, – отвечал Баудолино, – но где пролегает путь в эту Индию? Она, надо думать, где-то около Земного Рая, а следовательно, к востоку от Востока, именно там, где кончается земля и начинается океан…
Они еще не приступили к слушанию лекций по астрономии и поэтому о форме земли имели самое туманное представление. Поэт был убежден, что земля плоская и длинная, по бокам которой воды Океана стекают вниз, одному Богу известно куда. Баудолино же был наслышан от Рагевина, хотя и отнесся к этому критически, что не только философы античности и не только Птолемей, праотец астрономии, но и святой Исидор, все утверждали, будто земля представляет собою сферу, более того, Исидор был настолько свято убежден в этом, что установил и протяженность экватора: восемьдесят тысяч стадиев. Однако, оговаривал Рагевин, не менее верно, что определенные отцы церкви, например великий Лактанций, учат, что, согласно Библии, земля имеет форму скинии и, следовательно, небеса вместе с землей представляют собой ковчег или храм с прекрасным куполом и узорным полом, в общем нечто вроде короба, но никак не шара. Рагевин, осторожный человек, придерживался представлений блаженного Августина: что, быть может, философы-язычники и не ошибались относительно круглой земли, а в Библии скиния упоминается в переносном смысле, но знание, какова форма Земли, все равно не помогает решить то, что важнее всего правым христианам: каков путь к спасению души. А следовательно, даже полчаса, потраченные на пустые пересуды об этой форме, – напрасно потерянное время.
– Наверно, это так, – поддержал Поэт, торопившийся попасть в свою пивнушку. – Неосмысленно разыскивать Рай Земной, потому что будучи очаровательным висячим садом, когда по изгнании Адама некому стало подпирать стенками уступы, во время Потопа он осыпался в Океан.
Абдул, напротив, мнил, что земля шарообразна. Если бы она была широкой и плоской, доказывал он, не приемля возражений, то мой взор, обостренный силою любови, как у всех любящих на свете, сумел бы различить в далечайшей дали какой-то знак присутствия желанной дамы; только по вине закругления земли она для взгляда недостижима. Порывшись в сен-викторской библиотеке, он разыскал те карты, которые уже набрасывал по памяти для товарищей.
– Земля окружена огромным кольцом Мирового Океана и разделяется на части тремя великими потоками: Геллеспонтом, Средиземным морем, Нилом.
– Минуточку, а где тогда Восток?
– Восток тут сверху, разумеется, где находится «Азия». На самом краю Востока, там, откуда восходит солнце, обретается Земной Рай. Слева от Земного Рая гора Кавказ.

Рядом Каспийское море. Теперь смотрите внимательно. Индий существует три. Великая Индия, где очень жарко, находится она справа от Земного Рая, Северная Индия, за Каспийским морем, то есть тут у нас в верхней части слева… Там студено, так студено, что вода превращается в стекло. Именно там племена Гога и Магога были окружены по приказу Александра каменной стеной. Третья Индия – это Индия умеренная, приближенная к Африке. Африка на этой карте находится справа в нижней части, у полудня, где течет Нил, где открываются Аравийский и Персидский заливы. Они открываются в Красное море, на другом бреге которого пустое место, близкое к самому солнцу экватора, и до того прогретое, что пойти туда не дерзает никто. К западу от Африки, в близости Мавритании, лежат Счастливые острова. Их другое имя – Потерянные. Потерянные острова были открыты много столетий назад одним святым. Он был моим земляком… Дальше, тоже внизу, но на севере, располагается та часть мира, где живем мы. Вот Константинополь на Геллеспонте. Греция. Рим. А это на самом далеком севере германцы и остров Гиберния.
– Да можно ли всерьез воспринимать подобную карту, – расхохотался Поэт, – если земля нарисована на ней как плоскость, а ты сам говорил о шаре?
– Что за глупости ты мелешь, – рассердился Абдул. – Как иначе отобразить поверхность шара, если хочешь показать все, что расположено на ней? Карта служит для того, чтобы искать дорогу к цели, а дорога тянется по земле, как плоская лента. Кроме того, хотя земля и шар, но вся обратная сторона необитаема, там Океан, и только… Живи там кто-нибудь, ему бы пришлось удерживаться вверх ногами, головой вниз. По мне, чтобы передать эту обратную сторону земли, кольцевой океан вполне годится. Но хочется получше разобраться в картах. В библиотеке я встретил клирика, которому известно все о Земном Рае…
– Ну да, он гулял там, когда Ева предлагала яблоко Адаму, – сказал Поэт.
– Можно знать все о неком месте, даже и не бывавши там ни разу, – отвечал Абдул. – В противном случае моряки были бы образованней богословов.
Все это, пояснял Баудолино Никите, я тебе пересказываю, чтобы было понятно, как с первых лет в Париже, с младых ногтей наша компания увлеклась той историей, которая через несколько лет увела ее на самые далекие рубежи обитаемого мира.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































