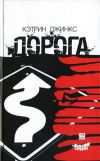Текст книги "Семмант"
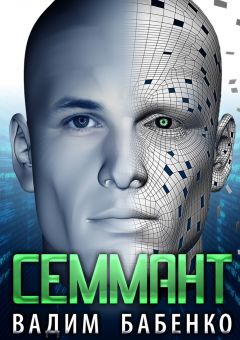
Автор книги: Вадим Бабенко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
Я вставал, негодуя, шел в другое место – посторонний, наблюдающий извне. Вновь высматривал тех, прекрасных, от кого исходили токи, невидимая вибрация, магнетизм. Проходили часы, я черкал в блокноте, заказывал еще кофе, осматривался кругом. С жадностью – чтобы не упустить, чтобы зафиксировать и пустить в дело.
Взгляд мой был теперь остр и верен, я научился видеть сквозь оболочки. Некоторые девушки на поверку оказывались несчастны. Оказывались одиноки – безжалостно, беспредельно. В их памяти не было волн Брайтона, они не умели смеяться над одиночеством под крики чаек у холодного моря. Я видел его в их глазах, с кем бы они ни сидели вместе. Мне хотелось сказать им – пошли со мной. Я познакомлю тебя с Семмантом, расскажу про Малышку Соню. Даже, наверное, дам почитать про Адель.
У каждого одиночества был свой нрав. Одни просились наружу, другие скрывались, зарывались вглубь. Некоторые были востребованы и желанны, за них боролись, их оберегали. Их капризную суть поддерживали лаской слова, мимикой, случайным жестом. Другие казались лишними, не нужными никому – их таили, прятали под ухмылкой. Под наигранной живостью, под потоком тех же необязательных, но привычных слов. Были одиночества осознанные и бессознательные, выношенные и внезапные, спланированные и случайные, настигшие вдруг. Но и их носительниц, напоминал я себе, всегда ожидало что-то в конце дня. В конце, в середине дня, в начале ночи. В середине ночи или уже под утро… Их всех ждал секс – как панацея. Как сиюминутное избавление от одиночества – хотя бы так. Избавление от памяти – о месте, куда призрак любви не заглядывает вовсе. Где лишь быт и власть денег, или – пиршество мысли и требовательные учителя. Где топчутся на месте, на узком пятачке, или раскручивают маховик – скорей, скорей – и мчатся куда-то в безумной скачке, слабея на ледяном ветру.
Я смотрел и запоминал, а потом использовал, выбирая лучшее. То, что хочется обратить в реальность, прожить взаправду, пусть и условно в некотором смысле. Иногда я злился на эту условность, сердился на Лидию, на Адель. Неосознанно, без причины, или – когда понимал, что с какой-нибудь из красоток, строящей гримаски за соседним столом, мне, увы, ничего не светит. Я могу мечтать о ней, могу даже с ней переспать, но не буду владеть ею – полностью, до конца. По-настоящему мне доступны лишь Лидия и ее тело – роскошное, но одно и то же.
От этого я порой становился желчен. Швырялся истинами, нелестными женскому уху. В следующем рассказе писал что-то вроде: молодые девушки – они куда лучше старух. Лучше молодящихся, но уже зрелых, как правило вызывающих лишь жалость. Нет замены молодости, писал я, зная, что Лидию это заденет всерьез. Те, кому лишь двадцать, много лучше двадцатишестилетних. Не достигшие двадцати пяти, куда привлекательнее тех, кому за тридцать… Сам-то я знал: это не всегда так. И грешил против истины, пусть немного. Это была недостойная месть. Месть всем незнакомкам, что воротят нос. Красавицам вокруг, что холодны ко мне заранее. Лидии – за ее недавнее ренегатство. И даже Адель – не спрашивайте меня, за что!
Так или иначе, моя тактика действовала исправно. Я вывешивал заметки, чередуя – порно и мелодраму, легкое садо-мазо, эротичный флирт. Вскоре стало ясно: Лидия подсела на Адель, как на наркотик. Почувствовала в ней нечто большее, чем просто родственную душу. Что-то объединяло их – сильнее, чем когда-то ее со мной.
Но и ко мне она теперь относилась по-другому. Ее подменили, новая копия была эксклюзивна, создана для владельца. Эффект превзошел ожидания, она в самом деле смотрела на меня снизу вверх.
Ты – мой создатель, – говорила она мне; для нее это не было преувеличением. Я чувствовал, что расту в ее глазах: создатель занимательного – создатель гениального – потом создатель per se. Попав от меня в зависимость, она будто была этим горда. Наверное, она жила без зависимости слишком долго – как я долго жил без любви. Теперь она не могла от нее отказаться, не насытившись в полной мере.
Конечно, я понимал, в происходящем с нами вся суть и смысл есть суть и смысл суррогата. Новая копия – лишь подделка, и обман не может не вскрыться. Но меня все устраивало, и я гнал сомнения прочь. Зависимость – альтернативное средство, зелье для тех, кто не умеет прощать. Лекарство от тоски по содержанию жизни. Для Лидии оно даже не было горьким.
Вскоре она стала показывать меня знакомым. При них не стеснялась – нежно терлась о мое плечо, обнимала меня, заглядывала в глаза. Подчеркивала перед каждым наши новые роли. Растворялась во мне у всех на виду. И не называла меня по имени – я стал для нее Дефиорт.
Пару раз мы встречались с ее бывшими любовниками. Она отрицала, не признавалась – но я видел невооруженным взглядом. Потом она созналась конечно, когда я припер ее к стенке. Когда я сдернул с нее блузку, начал грубо ласкать соски…
Пусть порадуются за меня, пусть им будет приятно, – шептала она в ответ на мой раздраженный вопрос – зачем?
Гладила мне руки, говорила: – Ты хочешь меня наказать? Накажи!
Но нет, наказать ее мне не хотелось. Хотелось лишь посмеяться над странным ходом вещей. Я понимал, это был реванш, она мстила им, как я – всем недотрогам. Мстила за то, что они не умели подчинять – не умели и никогда не смогли бы решиться. Она была много их сильнее и, очевидно, не находила в том прока. Таковы реалии современности, и она жила послушной пленницей реалий. А теперь праздновала свой побег.
Они, оба испанцы, смотрелись довольно-таки жалко. Рафаэль, сорокалетний директор банка, напоминал жабу – короткими ручками и толстым, бабьим лицом. Он заплыл жиром, уже когда я бросила его, – уверяла меня Лидия, но я ей не верил. Он был отвратен, все его тело колыхалось, как кусок студня. В его животе будто переваливался целый хамон иберико.
Рафа, Рафа, – бормотала она, прищурясь, опьяневшая сильней нас обоих. И вдруг сообщила, обращаясь ко мне: – Кстати, Рафаэль очень любит шлюх!
Тот вздрогнул, задохнулся и пошел пятнами. Я поднял на него глаза.
Очень любит, – не унималась Лидия. – Помнишь, Рафито, ты мне рассказывал про бразильянку из ночного клуба? Она танцевала стрип, а ты ее уламывал как леди. Она ведь брала по твердой таксе, об этом знали все. И Пако знал, и Хосе, и Аранча. Над тобой смеялись, а ты ее обхаживал как невесту. В конце концов она вроде все же взяла твои деньги. Вот только я не помню, хоть за деньги-то она тебе дала? Как ее звали, случайно не Адель?
Покрасневший Рафа силился улыбнуться. Привычка к унижению давно жила в его зрачках. Он являл собой грустное зрелище, но мне не было его жаль. Как не было жаль и второго – высокого и худого, стеснительного, богатого. Он звался созвучно – Мануэль. Я потом посмеивался над Лидией – Рафаэль и Мануэль, Гаргантюа, Пантагрюэль, Рафа и Ману…
Что-то в лице Мануэля намекало на скрытый порок, даже несмотря на воспитание и манеры. Он тоже имел страсть – но не к шлюхам, а к иберийским свиньям. Он охотился на свиней, разводил свиней, сам готовил свинину во всех мыслимых видах.
Лидия с невинной улыбкой спрашивала его про любимых кабанчиков. Про прекрасную черную свинку, чьи фото он слал ей по почте. Ты знаешь, – обращалась она ко мне, – как уродлива эта порода?
Мануэль качал головой, неуверенно улыбаясь. Большая тарелка сырокопченой ветчины стояла перед нами, лоснилась жиром. От нее шел аппетитнейший запах. И от Лидии пахло – ароматом Гуччи, что я купил ей на прошлой неделе.
Я потянулся и отпил вина. Взял Лидию за шею, она вся изогнулась. Ты похожа на свинку? – спросил я ее. – На маленькую розовую свинку?
Лидия терлась о мою руку, мурлыча от удовольствия, а Мануэль чуть не упал со стула. После, в туалете, он сказал мне: – Назвать женщину свиньей – это малтрато. За это можно угодить в тюрьму!..
Оба бывших любовника, не достойные ее ничуть, никогда не жили с женщинами в одном доме – если не считать их деспотичных мам. Они состарились раньше, чем их мамы. Состарились раньше, чем повзрослели, превратившись в негоднейший материал.
Едва ли им случится найти себе пару, – думал я без злорадства, лишь с некоторой брезгливостью. – Наверное, Лидия была единственным ярким пятном в их жизни. Случайное, недолгое везение – и больше ничего не светит. Женщины, привлекательные хоть чем-то, обходят их по другой стороне улицы. Прекрасные незнакомки смотрят мимо и сквозь – ибо чувствуют: вибрации и токи лишь отпугивают, пропадают зря.
Я спросил потом Лидию, как она могла иметь с ними секс? Кончать с ними, шептать им что-то? Та лишь пожала плечами – мало ли, мол, с кем порой случается переспать.
Я сказал ей: – Вот этого стоят рассыпанные шарики жемчужной пудры!
В этом все твои истории, – укорил я ее, и она испугалась: – Ты мною разочарован?
Ну да, – ухмыльнулся я, – и да, и нет.
Потом успокоил ее: – Все в прошлом.
Ты стала другой, – признал я, и Лидия потянулась ко мне губами. От нее пахло хамоном самой высшей марки.
Я подумал еще про Рафу и Ману – лучше бы им, мол, поселиться вместе. Вместе вести хозяйство, стареть, доживать – в тесной мансарде недалеко от госпиталя. Все равно засевший в них страх отвадит более живую судьбу. Или же они могут сдаться на сомнительную милость «худших из самок» – неаппетитных, крикливых, злобных, рыскающих в поисках покорной жертвы. Что ж, эти двое как раз и есть те самые жертвы – вместе с легионом их двойников. Их облапошили, загнали в угол – худшие из самок, с которыми не поспоришь. Поди возрази, попробуй стать на пути – тут же общество обрушится на тебя всей мощью. Европа – стареющая самка, все еще полная куража – объявит тебя врагом, придушит, заставит сдаться. Заставит склонить голову, признать свою слабость. Ибо ты – с презрением сообщат тебе – мужчина!
Что говорят при этом призраки любви, ее тусклые тени? Что они шепчут себе под нос? Наверное, молчат – в этой стране им неуютно. Они, подозреваю, почти тут и не живут – кроме тех мутантов, что взращены в пробирке. Кроме тех, что выкормлены искусственным молоком в пансионе – вроде брайтоновского, но другом. Тех, что рождены извращенным сознанием – вроде моего, но другим. Наши вещи все же полны жизни. Ну а эти – грош им цена. Они выпущены на свет на тонких, подгибающихся ножках. Неужели у них есть сила?..
Я писал об этом Семманту – с горечью, которой сам стыдился. В тех моих строках хватало вопросительных знаков. Признаться, у робота они не вызвали отклика. Он, может, вообще не понял, о чем я.
Зато мироздание, как выяснилось после, уловило намек с полуслова. И, выбрав момент, ответило тем же, швырнуло его мне в лицо – как испанским донам их былую спесь.
Но это было потом, пока же я не ждал подвоха и смотрел свысока. У меня были причины смотреть свысока. И я не думал о том, каково – свысока – падать.
Глава 21
На финансовых рынках продолжался спад, но мы по-прежнему не теряли денег. Тоска и уныние, царившие на биржах, не отражались ни на мне, ни на моем банковском счете. Нужно признать, в том не было моей заслуги. Это все Семмант – он держался молодцом. Уверенно и бесстрашно он скользил меж пропастей – по лезвию бритвы, не теряя фокус, глядя только вперед.
Что ж до меня, мой интерес к биржевым играм иссяк полностью и навсегда. Все было слишком примитивно-убого. Слишком понятно и вместе с тем абсурдно. Ни на что нельзя было опереться, всюду подстерегали ловушки, от которых не уберечься. Бросаясь в рынок, ты становился заложником энтропии. Пленником беспорядка, не имеющего предела. Потому что: жадность и страх и впрямь могут быть беспредельны. Могут быть вечны и не иметь конца.
Я больше не хотел смотреть на графики и столбцы цифр – и вскоре перестал себя заставлять. Сил моих хватало лишь на краткие сводки новостей и событий. Я переводил их на язык чисел в соответствии с давно разработанным кодом. Не знаю, нуждался ли в них мой робот, возможно, он и сам уже научился выискивать их в Сети. Но мне хотелось думать, что я тоже участвую – вместе с ним. К тому же это была традиция, привычный способ нашего с ним общения, и я знал – в дружбе нельзя лениться.
Поэтому я слал ему файлы данных, в конце которых, как и прежде, писал обо всем – о Лидии, о своих раздумьях. Впрочем, раздумьями я теперь утруждал себя не слишком. Время текло легко, споро и на удивление – для меня – праздно.
Словно назло кризису, потрясшему мир, мы с Лидией предавались беспечному сибаритству. Она полюбила дорогие СПА – плескалась часами в бассейнах и джакузи, нежилась в саунах, подставляла тело под водяные струи. Это еще усиливало ее чувственность; после водных каскадов Лидия всегда хотела любви. Быть может, в прошлой жизни она была морской нимфой.
Зачастили мы и в массажные кабинеты. Китаянки и тайки, филиппинки, индонезийки мяли наши тела привычными руками, разгоняли лимфу и кровь, разминали каждую мышцу. Иногда мы заказывали процедуру для двоих – это очень возбуждало. Вскоре я научился не стесняться эрекции на массажном столе, а однажды сеанс балийского джаму перешел в оргию с двумя смуглыми девчонками – по-моему, они были из Джакарты. Лидия потом говорила, что одна из них пахла сандалом.
Мы вообще уделяли внимание запахам. Покупали лучшие кремы, самое дорогое масло. Нежные пальцы легко касались наших лиц, втирали чудодейственные эликсиры, обещая вернуть юность. Мне она была ни к чему, но Лидия верила в нее взаправду. После она разглядывала себя в зеркале – пристально, подолгу. Я даже не решался над ней подшучивать.
Бутики с дорогой одеждой тоже не оставались в стороне. Мы стали завсегдатаями улицы Ортега и Гассет. Продавщицы-феи, горя глазами, порхали за нами вслед от полки к полке. Они помнили: эти двое покупают охотно и помногу. Ворохи блузок, открытых маек, ночных пижам и строгих юбок, костюмов, галстуков, джемперов и рубашек заполняли примерочные за считанные минуты. Коробки с обувью выстраивались в колонны, в многоэтажные здания, в крепостные стены. Мы выходили, обвешанные пакетами, с трудом загружались в мой шикарный автомобиль. Прохожие посматривали на нас косо. Мне не было до них никакого дела. Меня не интересовали ни они сами, ни их проблемы – маленькие зарплаты, рост цен, страховки, невыплаченные кредиты…
Словом, мы не скучали. Наверное, это был самый беззаботный период моей жизни. Как ни странно, я умудрялся вообще ни о чем не думать – хоть и полагал до того, что мне это не под силу. Мы развлекались – мир развлечений с непривычки казался мне бесконечным. Я бездельничал, и безделье не тяготило меня ничуть.
Как-то раз графиня де Вега пригласила нас на ланч. Я не видел ее три месяца и нашел, что она похорошела. В ней был теперь новый шарм – или, может, у меня сместился ракурс. В любом случае ей понравился мой комплимент.
Мы встретились вчетвером – графиня пришла с Давидом. Они по-прежнему были очень красивой парой. Но что-то изменилось, во взгляде Анны появилась ирония. Она будто уже знала наизусть весь его мир. Он стал для нее слишком знакомой вещью.
Давид, в свою очередь, смотрел на нее как-то не так. Я отметил вдруг, что он очень молод – это стало бросаться в глаза. Нет-нет, не в сравнении с Анной де Вега, а независимо, само по себе. Его молодость, ценнейшее из богатств, будто стеснялась сама себя. Будто пряталась от себя, не зная, что с собой делать.
Это мой любимый ресторан, – сказала графиня, открывая меню. – Здесь я всегда заказываю устриц. Ты тоже будешь устриц, Дэви?
Ты ж знаешь, – буркнул тот, – я их ненавижу. Так же, как и это имя.
Он сжал челюсти и нервно комкал салфетку. Потом расправил ее и аккуратно сложил. Белый треугольник был безупречен. И сам Давид был безупречен – статен, широкоплеч, вызывающе красив. Он смотрелся как наследный принц. Будь он таковым, Испания могла бы им кичиться. Но мы-то знали, что его мать была санитаркой в муниципальном госпитале. И Анна де Вега знала это тоже.
Официант, приняв заказ, поклонился графине. Она отложила меню и закурила тонкую сигаретку.
Извините, – сказал Давид, – я пойду поссу!
Он произнес это громко – так, что на нас обернулись соседи. Потом встал и направился в туалет. Это был бунт, но – с призрачными шансами на успех.
Нельзя вложить в мужчину то, что ему еще не дало время, – улыбнулась Анна Де Вега. – И нельзя получить это от него взамен.
Во взгляде Лидии мне почудился мгновенный отблеск ликования. Замаскированный тайный знак пусть временной, но победы. Она вдруг перегнулась к моему стулу и положила голову мне на плечо.
Извини, ты мне мешаешь, – одернул я ее. Анна лишь усмехалась, все с той же иронией во взгляде. Я подумал, что это у нее теперь навсегда.
В целом мы неплохо провели время. Лидия напилась, но вела себя смирно. Лишь в такси она разошлась – смеялась хриплым смехом, очень похоже передразнивала Давида, а потом стала лезть мне в брюки прямо на заднем сиденье.
Я пытался ее оттолкнуть, но она вдруг крикнула во весь голос: – Не мешай, я хочу у тебя отсосать!
То-то смешно водителю, – подумал я, сдаваясь и закрывая глаза…
К концу июня наши отношения перешли в устойчивую фазу. Можно было сказать с уверенностью: я и Адель сделались для Лидии субстанцией дыхания, незаменимым ядом. Мне подумалось даже – что, если бы и я был так же зависим от нее, от ее тела? От ее души, что бы ни было у нее за душой, от ее желаний, настроений, капризов? Быть может, тогда мы обрели бы взаимность, которую все ищут. Что если в нашем веке это и есть истинная формула чувства?
Мысль нравилась мне, в ней была глубина. Мне казалось, я поймал-таки призрака любви за край одежды. Подтащил близко-близко, обменялся с ним взглядами. И… – так и не решился заговорить.
Не решился – или не захотел. Даже больше: почти уже понял, что теперь не захочу никогда. Он едва ли сообщит мне что-то новое по секрету – что-то такое, что порадует слух. Молчать комфортней, подсказывал мне внутренний голос. Такими подсказками не стоило пренебрегать.
При этом я чувствовал: вот ему-то наверняка есть что сказать. Есть что выкрикнуть, выплюнуть мне в лицо. И я понимал его – без обид. Конечно же, ему было трудно. Общество потребления выхолостило его сущность, лишило званий, наград, регалий. Он остался последним – наивнейшей из надежд. Его почти перестали принимать всерьез. Он – призрак любви – витал в пространствах, где любви не стало. Это было хуже, чем Пансион в Брайтоне. Там, по крайней мере, ее не было никогда.
Порой мне даже хотелось высказаться за него. За него и за себя, за Малышку Соню. Мне хотелось крикнуть – да, мы, Индиго, были честнее, были и есть. Нас приучили не верить фальши, и мы отвергали фальшь – как могли. Мы делали это смеясь и не выучились жалеть себя. Потому мы не жалеем других, а от вашей романтики нас коробит. И призрака от нее коробит тоже – он, призрак, еще честнее нас. Каково же ему слышать из ваших уст оболганное слово – за разом раз? Слышать, как вы зовете любовью игру по правилам, товарно-денежный микст. Как вы жалуетесь, что любить некого, хоть на самом деле любить вам нечем. Орган атрофирован, и заодно – нечем удивляться, нечем мечтать. Мистер Райт не придет, увы – да и зря вы думаете, что при этом способность любить возникнет сама собой. Она не возникнет, над ней нужно трудиться. Трудиться вы не умеете, вы хотите купить любовь в розничной лавке или получить в подарок на Рождество. Вы – большие эгоистичные дети, хоть, почему-то, считаете детьми нас…
Я думал над этим, мне становилось грустно. Грустно было и оттого, что, глянув в глаза фантому, я так и не смог проникнуть вглубь зрачка, в душу, в тайную сердцевину. Как он живет, чем дышит – тут, в безжизненной атмосфере? Что питает его, не дает исчезнуть? – Нет, я не понял, не смог понять.
Как-то раз я заговорил об этом с Лидией – точнее, она сама завела разговор после скучного кинофильма, только что вышедшего на экраны. Ей захотелось потягаться фантазиями – развить сюжет, увести его в сторону, дать новый шанс героям, расставшимся в последнем кадре. Мы раззадорились и несколько дней обсуждали любовные перипетии – эпизоды страсти и чужие судьбы, все, что могло и не могло случиться. Лидии это нравилось, а я – я лишь убедился в том, что подозревал и раньше. Ее воззрения по поводу сути и подоплеки чувств ничем не отличались от утвердившихся в широкой массе – той, что топчется на узком пятачке. В мире Лидии недоставало взаимосвязанности вещей, он весь состоял из неоправданных упрощений. Подобно выпускникам никчемных школ, она очень боялась усложнять.
Омуты и глубины, водовороты и вихри были ей чужды, она не хотела иметь с ними дела. Ее устраивала гармоническая рябь на мелководье упрощенных реалий. Контролируемая, просчитываемая от и до, описанная в справочниках и руководствах любви. Линеаризованная система, решение для которой можно получить за несколько минут.
Я был жутко разочарован. Как-то сразу мне стало ясно, что и наша история совсем не глубока. Нам было некуда двигаться дальше – загадка Лидии, как загадка Давида, явно исчерпывала себя.
Это было обидно, где-то даже жестоко, но я не мог не признать очевидного факта. Она нуждалась во мне больше и больше, я же остывал и охладевал. Охлаждение обостряло взгляд, я видел фальшь в ее женской сути, видел белые нитки, скрепляющие куски разноцветного покрывала. Она слишком старалась защитить свой статус, убедить, что она лучше, привлекательнее, достойней. Все чаще мне в голову приходил вопрос: зачем? Зачем я с ней, зачем она мне, что связывает нас, в конце концов? Если бы сейчас она взбрыкнула и ушла, я едва ли стал бы за нее бороться. Расстался бы легко, вздохнув с облегчением. Был бы вежлив, немногословен и забыл бы номер ее телефона.
Но нет, уходить она не собиралась. Она жила Аделью и подчинялась мне. Гордилась этим и строила планы – того же мелко-романтического свойства. Они были оттуда, с узкого пятачка, истоптанного толпой.
Давай купим остров, говорила она мне. Необитаемый остров, будем на нем жить. Или – купим яхту, будем жить на яхте, плавать вокруг света, не задерживаясь ни в одном порту. Говорила, я стану твоим юнгой. Стану твоей помощницей, твоим хранителем, всегда буду у тебя за спиной!
Я посмеивался, но мне было скучно. Она вела свой поиск там, где ничего стоящего не осталось. Но сказать ей это я не мог: уж очень истово глядела она на меня, забившись в угол дивана – своими глазищами, в которых читались покорность и… Что-то еще.
В наших отношениях по-прежнему доминировал секс. Физически Лидия влекла меня до сих пор, к тому же и в постели она стала другой – бесстыдной и жадной, но очень послушной. Все мои причуды воспринимались на ура, все желания выполнялись с охотой. Она ловила каждое слово, каждый жест. Сама тоже придумывала кое-что, но подчиняться ей нравилось больше. Она любила повторять: я твоя шлюха. Иногда шептала даже: я твоя раба. Мне становилось неловко, я делал вид, что не слышу.
Мы перепробовали многое – игры, роли. Договаривались об образах, а потом импровизировали на ходу. К чести Лидии, она перевоплощалась лучше, чем я. Не иначе, в ней жила-таки актриса – большого калибра, хоть и узкого свойства. Порой, в игре, мне казалось: наконец-то! Я впервые вижу ее настоящей!
Иногда моя квартира превращалась в отель. Лидия переодевалась горничной, выходила к лифту – это была ее любимая роль. Она стучалась во входную дверь, будто это был гостиничный номер. Входила с подносом, на котором дымилась чашка: – Добрый вечер, сэр. Вы заказывали кофе?
Я бродил по комнате как бездельник-аристократ – босиком, с трубкой в зубах. На мне были брюки Хуго Босс и рубашка от Валентино, расстегнутая наполовину. Я разглядывал гостью с прищуром, засунув руки в карманы, подходил поближе, неторопливо кивал.
Вот ваш кофе, сэр, – щебетала «горничная», глядя в пол. На ее губах играла полуулыбка.
Я работаю на этом этаже, – добавляла она, не поднимая глаз. – Я к вашим услугам – стоит лишь позвонить. Меня зовут Адель.
Ее флюиды заполняли комнату. Флюиды покорности, в которой часто кроется насмешка. Но тут, я знал, все будет без обмана. И бездельник в номере-люкс знал тоже – уж слишком выжидательна была ее поза.
Я садился в кресло, закидывал ногу на ногу. Повторял ей в тон: – Адель? Это какое-то редкое имя. Неси-ка сюда свой кофе!
Она подходила: – Вот, возьмите. – Потом роняла чашку – взаправду – на свой фартук, на мои брюки, рубашку. Мы все делали взаправду, так было смешнее.
Я всплескивал руками, гримаса ярости искажала мое лицо. Лидия-Адель вскрикивала в испуге и вдруг оказывалась совсем рядом.
Я испачкала вам одежду, – бормотала она. – И испачкала свою, смотрите! Я все постираю, прямо сейчас, снимайте. Снимайте ее с себя – и с меня тоже. О, кофе у вас на всем теле. Он был сладкий? Можно попробовать? Я плохая девочка, да?..
Или еще: из бездельника я превращался в пациента амбулатории. Лидия приходила вся в белом, с медицинским чемоданчиком в руках. От нее веяло прохладой, льдом. Веяло неприступностью, мятной свежестью. Сразу очень хотелось знать – что же у нее там, в чемоданчике?
Здравствуйте, – говорила она. – Я медсестра из госпиталя, с соседней улицы. Вы ведь звонили по поводу процедур? Меня зовут Адель, а вас? Позвольте, я вспомню: вы – Дефиорт?
Да, – отвечал я, ухмыляясь. – Иногда меня называют так.
Она мешкала в прихожей. Я подходил к ней ближе, трогал ее, будто бы невзначай, но тут же получал по рукам.
Пациенты-мужчины, – вздыхала «Адель», – они такие проказники, все до одного. С ними нужно быть начеку. Где тут диван? – вам придется лечь. Раздевайтесь, я отвернусь. Я хорошая девочка, не пяльтесь на мои бедра…
Я вновь тянул к ней руки – и она, не церемонясь, била мне по ладоням. Била и по ягодицам – вполне всерьез. Могла хлестнуть по лицу, изображая оскорбленную невинность. Но ее глаза блестели знакомым блеском. Я видел такой когда-то у нимфоманки Дианы.
Ложись на живот! – командовала «Адель» уже более властно. – Ложись и не заставляй меня быть с тобой слишком грубой.
Замки ее чемоданчика отщелкивались, словно сами собой. Открывая вход – за темный занавес, в кладовую страха. Ненастоящего страха, который кончится, как во сне.
«Адель» натягивала перчатки, доставала предметы – один, другой. Взгляд ее затуманивался слегка, губы приоткрывались. Ты мне нравишься, – говорила она. – Повернись, пожалуйста, набок…
Халатик ее распахивался точно в нужный момент. Она вся была в своей влаге – обязанности медсестры очень ее возбуждали. Иногда мы менялись ролями, я набрасывался, она подчинялась. Я выкручивал ей соски, она просила – еще, еще. Потом я вновь становился покорен, она ходила по мне, садилась мне на лицо. И тут же сама срывалась в бурный оргазм…
Мы придумывали и другие сценарии, Лидия экспериментировала с одеждой, изобретала странный макияж. Представала Гесперидой, Наядой, становилась моей музой. Ее улыбка бывала так трогательна – мне и впрямь в те минуты хотелось творить для нее. Одной Адель казалось мало, хотелось сделать что-то еще. Что-то великое, достойное вечной жизни. Строгий Леонардо подмигивал мне из Астрала. Жаль, что это длилось недолго.
Я пытался зафиксировать миг, продлить момент, растянуть время. Заставлял ее медлить у неуловимой точки. Заставлял доводить меня до крайности возбуждения, останавливаться там, где невозможно остановиться. Исказившись лицом, просил ее – повторяй: «Ты создашь! У тебя получится!». И она повторяла – на разные лады.
Порой мы даже играли в смерть. Мой балахон – тот, в котором я впервые подчинил ее себе – был давно уже перекрашен в черный цвет. Я надевал его и брал в руку трость как посох. Приходил за Лидией шаркающей походкой. Называл ее по имени – будто на перекличке. Дожидался ответа – робкого, еле слышного – и говорил без всякого выражения: – Пойдем, пора.
Я завязывал ей глаза, вел из комнаты в комнату, сжимая холодные пальцы. Мы петляли, кружили, заходили в одну спальню, в другую. Потом оказывались в гостиной, там стоял стол с черной скатертью, горели свечи. И пахло ладаном – для пущего эффекта. Это был очень правдивый запах.
Повязка падала на пол, Лидия озиралась в испуге. Спрашивала чуть слышно: – Что, уже? Уже, так быстро, все кончилось – навсегда?
Я лишь кивал, не отвечая, и показывал ей жестами – раздевайся! Она снимала одежду, путаясь в молниях и застежках. Я набрасывал ей на плечи балахон, такой же, как у меня. Надевал капюшон – он полностью скрывал ей лицо. Потом брал за руку и снова вел – по кругу, запутывая следы.
Теперь кругом была музыка – грустный, строгий орган. Балахон Лидии был из тонкого шелка – он ласкал, баловал тело. Чем дальше, тем увереннее становилась ее походка. Она понимала, что, умерев, станет со мной едина. В такой смерти для нее была жизнь. Не после, а именно в ней – сейчас!
Когда мы вновь оказывались в зале, запах ладана не пугал ее больше. Я заставлял ее лечь на стол, задирал балахон, оголял бедра. Мы чувствовали торжественность минуты, это очень волновало обоих.
Кто ты теперь? – спрашивал я ее, и она отвечала: – Адель!
Кто ты на вкус? – допытывался я, и она повторяла: – Адель! – вся дрожа в предвкушении.
Проверим… – говорил я хрипло и проводил языком ей между ног. Ее стон звучал так искренне-страстно, что легко было представить и рождение, и смерть. И я брал ее – на черной скатерти, не снимая балахона…
Эта игра почти помогла мне, пусть ненадолго, поверить в нас вновь. Мы будто обрели наконец долгожданную близость. Или нашли объяснение – тому, для чего не нужно объяснений.
Но – и объяснение оставалось иллюзией. Вопрос «зачем» никогда не исчезает сам собой. От него не отделаться лицедейством, умолчанием, многозначительным взглядом.
Я знал это, но в моем знании не было прока. Поделиться им было не с кем – даже Семмант вряд ли понял бы, о чем я. Лишь призрак любви, быть может, отнесся бы ко мне с сочувствием, но он не посещал меня больше, мы были далеки друг от друга. Я уже забыл, как шелестят его одежды.
Стояла жара, начался июль. В раскаленном городе было пыльно, душно. Как никогда ранее, я ощущал устойчивость своей жизни – каждой из ее сторон. И еще я чувствовал, что обманут в чем-то, но жаловаться на это было глупо.
Я и не жаловался, понимая: никакое равновесие не длится долго. Видимость устойчивости – самая неустойчивая вещь на свете. И действительно, очень скоро мне предстояло убедиться в этом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.