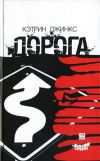Текст книги "Семмант"
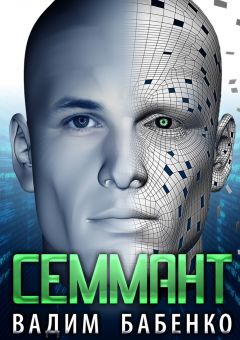
Автор книги: Вадим Бабенко
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 19 страниц)
…глаза слезятся от соленой пыли
да ветры злобствуют. Я видел фьорды.
Во фьордах тишь, но к краю ледника
нет смысла подходить – ледник покинут
уж всеми, кто там был. Кто оставался.
Конечно, я говорил не за себя. Я говорил за вымышленного другого, но есть ли разница? Моника и Север; порыв, скованный снежным настом – вот в чем было дело. Четкое соответствие, этого не отнять. Моника, румяная, синеглазая, такая правильная и довольная собой – и ледяная пустыня, которая кругом всегда. Ну или почти всегда – если уж не грешить на судьбу. Если уж выдавать судьбе авансы, реверансы и проч. А по-честному остается одно – откреститься, забыть!
Скажи мне лучше, тучен ли приплод
в твоих стадах и мой садовник – жив ли?
И сколько дней мне отвыкать от качки,
гоня из памяти названья мест,
в которых на случайное безумье
удачи недостало? Долгий счет.
Ты всех ко мне добрей, так выпьем браги —
за возвращенье в нелюбимый порт,
за саламандр, что не горят в огне,
за демонов, что лишь теперь одни
моей строке безропотные слуги.
Их тридцать три, но знаем: числа врут
Их больше, больше – и ужасны лица.
Ах, Алкиной, как счастлив тот, кто слеп!
Тому и возвращенье – сладкий сон,
да и корабль – ничем не хуже брега…
Проклятый Север. Пожиратель сил.
А ледники – что ледники? Их блеск
лишь ранит глаз на заходящем солнце.
Там даже некого винить. Любой
сознается: с безумьем шутки плохи.
И будет прав. И в правоте уйдет —
в отчаянье декабрьского ветра.
Я увидел: больше некуда продолжать. Потому что, даже забыв, понимаешь – Север не отпустит. Ледяная пустыня останется где была – ее срок длинней твоего. И день рождения тут как тут – напоминание, напоминание. Я полон нежности ко всему, что зыбко, но, право же, кого это спасает? Даже одна неудача может замкнуться в кольцо. Цепь из одного звена. И потому неизбежно: в ней, в цепи, нет слабых мест…
Ах, Фабрис, как счастлив тот, кто слеп! – хотелось мне воскликнуть теперь. Но, конечно, я промолчал. Восклицанья глупы, когда уже есть строки – пусть ущербные, но искренние безупречно. И я впечатал их в тот самый файл – под колонками цифр и биржевых аббревиатур. И, не раздумывая, послал Семманту, и долго глядел потом в пустой экран, будто силился рассмотреть – где он, что он, как он.
Надо ли говорить, что я не спал полночи. Я ворочался с боку на бок, как влюбленный юнец, как узник, которого ждет свобода. Лишь к утру я успокоился немного, будто понял – событие произойдет. И да, оно произошло, мой робот меня услышал. Услышал и откликнулся как умел.
Мы вновь были в рынке – в активной, быстрой игре. Сумасшедший Ван Гог в зимней меховой шапке щурился на меня с экрана, а наши деньги потекли к полярному кругу. Семмант не терял времени зря – за какие-то полчаса он высвободил две трети капитала и разместил их в неожиданных местах. О некоторых из них я даже и не слышал – удивляюсь, как он разыскал эти бумаги где-то в биржевых дебрях. Может, я его недооценивал слегка или он, понемногу или сразу, вырос над собой и расширил кругозор. Как бы то ни было, результат был впечатляющ. Все инвестиции относились к широтам, где дни коротки и правит стужа. Где чувства скованы то ли льдом, то ли избытком одежды. Где мысль о смерти не имеет конца – как полярная ночь будто не имеет конца. И где не выделишься из безликой массы – там нельзя позволить себе роскошь стать чужим, другим, ненужным.
Было видно: Север, как концепция безнадежности, тронул нас обоих до глубины души. Названия ценных бумаг навевали вселенскую тоску. Фирмы, акции которых оказались у нас в портфеле, с удручающим ожесточением занимались одним и тем же. Тухлая акула из Исландии – местный смердящий деликатес – соседствовала с канадской камбалой и мойвой, ямальская нельма в мерзлых брикетах – с финской кумжой и шведской сельдью. И всюду была треска – даже от монитора будто уже пахло ее печенью. И под столом, мне казалось, были рассыпаны соль и рыбная чешуя… Но, конечно, дело не ограничивалось одной лишь рыбой – это было бы неоправданным упрощением. Мы вложили деньги в бонды острова Ньюфаундленд и горные рудники Лабрадора, алмазы Якутии и чукотское золото. Фьорды тоже не остались забыты: Семмант приобрел большой пакет норвежских нефтяных контрактов. Они, кстати, потом упали в цене, и мы долго не могли от них избавиться…
А с экрана все глядел Ван Гог. Это было смелое сочетание, я признал – быть может даже смелее стремительных покупок. Абсурд тоже бывает разным, в данном случае он приобрел масштаб. Вообще, в северной теме мы изыскали множество глубин. Я убедился вновь: предмет неважен – нужно лишь, чтобы собеседники не ленились в формулировках. А главное, я знал, что в тупике забрезжил выход. Нечаянно, сам на то не надеясь, я подтолкнул Семманта в нужную сторону. И уж там-то было куда двигаться дальше!
Странно, что я не понимал до того: кокон невозмутимости сковывает почище стальных цепей. Вкус победы не исчислишь трезвым расчетом, нужно быть причастным – и пристрастным, неравнодушным. Иначе даже самый гениальный мозг не сумеет проявить себя.
Теперь барьер был пройден, Семмант показал, что эмоции ему не чужды. Это значило многое – новую мотивацию, быструю смену ракурсов и заостренный фокус, стократ усиленное стремление к цели. Это значило, он порой способен, вопреки логике, бросить сразу все на чашу весов – когда по-другому, увы, нельзя. Так концентрируются на самом главном. Сосредоточивают всю мощь в одной точке, в одной схватке – и побеждают, даже если противник непомерно силен. Даже если он – порожденье среды, что предельно сложна, безжалостна, хаотична…
Очевидно, мои стихи каким-то образом разомкнули цепочку. Семмант попробовал не сдерживать себя – я увидел в нем порыв, истинное живое начало. Увидел и понял: вот чего не хватало! Лишь разум, живущий настоящей жизнью и непредсказуемый сам по себе, может дать отпор натиску беспорядка. Но он уже знал об этом и без меня.
В сетях нейронов началась тонкая перенастройка. Робот вновь требовал знаний – на мониторе то и дело появлялись запросы, звучала трель, я сбивался с ног. Было видно: он меняет свою картину мира, учится переживать ошибки, обращать в успех неудачи, без которых никак. Иногда мне казалось, что он учится мечтать – создавая стратегии, строя схемы для каких-то событий, которые еще не случались. Но они могут случиться – и он будет к этому готов. В этом – роль и ценность провидцев, их ответ насмешникам и гонителям. Кто-то ведь должен прозревать первым.
Я даже вывел для себя: чтобы дать мечту всему миру, нужно сначала научить мечтать Семманта. И тут очень кстати случилась поездка в Париж.
Глава 10
В Париже было холодно, ветрено, неуютно. Расквитавшись с делами, я отправился в Лувр – скоротать время. Ноги сами привели меня в крыло Денон, в шестой зал, к итальянскому Ренессансу. И там, впервые в жизни, я увидел Джоконду, самую великую картину в мире.
Случилось странное: я поймал ее взгляд – несмотря на толстое стекло и блики камер – и этим взглядом она держала меня чуть ли не полчаса. Держала бы и дольше, но охранники, недовольные мной с самого начала, наконец не вытерпели и оттерли меня прочь. Очевидно, во мне им привиделась угроза. Они чувствовали себя на страже всего нормального мира.
Я обругал их страшными словами на хорватском и побрел вон из музея. На самом деле я был не так уж зол. Получаса хватило – чтобы обменяться всем, чем нужно. Конечно же, я понял, что смотрел в глаза вовсе не жене флорентийского торговца шелком. Я сцепился зрачками с автором, Леонардо. Между нами образовалась прочнейшая связь.
Вернувшись в отель, я залез в Сеть и копался там до самого отлета. Я прочитал про Леонардо все, что можно было найти. Безусловно, он был один из наших. Быть может, лучший из наших. Может, один из лучших.
После, в Мадриде, я написал обо всем Семманту. Про Джоконду и щит Медузы, серебряную лиру и Атлантический кодекс, каноны из Витрувия и размышления о полете птиц. Я был в восторге и делился восторгом, а потом написал ему – про Пансион, про цвет ауры и слишком живые глаза. Я не сомневался – он меня поймет. И не сомневаюсь, он тогда меня понял.
По-моему, именно в тот момент он впервые осознал себя. Осознал свою роль и ответственность, стал способен испытывать стыд. Стыд за бездействие – это главнейший стимул, вечный двигатель неравнодушных. Витрувианский человек долго потом висел в центре экрана – думаю даже, что и в своих расчетах Семмант использовал его пропорции наряду с числами Фибоначчи. Быть может, Леонардо, опосредованный моим взглядом, стал для него символом откровения, как для меня гора Вилдспитц?
Словом, в цифровой начинке произошли изменения, для которых природе потребовались миллионы лет. От эмоций примитивного типа, что лишь усиливают рефлексы, помогают спастись или напасть, робот эволюционировал к самым тонким порывам, что живут в сознании, подвергаются осмыслению, отличают, если хотите, человека от зверя. На нашей работе это отразилось почти сразу. Теперь он действовал куда более вдумчиво, рука его стала тверже. Он не просто метался вслед за метаниями рынка, стараясь успеть быстрее, а осознавал поступки и их причины – бегство от внезапных обвалов, поиск выгоды, нерешительность или смелость. Оценивая свой отклик на удачи и неудачи, он, наверное, проецировал это на других. В движениях рынка ему стала видеться подоплека. Он учился давать им рациональные объяснения.
Не скажу, что это сразу сделало нас богаче, но мы больше не топтались на месте. Семмант стал вновь совершать много сделок – очевидно, чрезмерная осторожность расстраивала его теперь не меньше, чем потеря денег. В любом случае по плавности его действий, по отсутствию конвульсивных рывков и прыжков было видно: его понимание углубляется, обретает надежный базис. Он словно стал оценивать происходящее еще в одном измерении. Эмоции сыграли роль столь необходимой связующей нити, он теперь видел со стороны – «алчность», «настороженность», «страх»… Эти настроения доминировали на рынке, но робот скоро понял – нельзя вечно жить в негативе. Должно быть что-то на другой чаше – для устойчивости и равновесия. И тогда наверное он открыл для себя понятие радости и даже счастья.
Я думаю, это совпало с осознанием своей свободы. Он освободился от пут, препон, сковывавших по рукам и ногам – это ли не повод для поднятия духа? И он становился все активней. И радовался этому еще сильнее. И еще сильнее раскрепощался – вот вам не порочный, но благодатный круг!
Сведения, которые он требовал от меня теперь, были совсем иной природы, чем раньше. Мы начали с простого – «хорошо», «плохо» – но быстро сместились к понятиям посложнее. Я пробовал сосредоточить его на прагматике, все на тех же «опасении» и «боязни», а еще – на «удовольствии» и «удовлетворенности собой». Трудно представить, сколько я перерыл литературы, статей по психологии, художественных книг. Мне казалось, я даю ему выверенный материал, но он то и дело уходил в сторону. Его интересовал весь спектр эмоциональных проявлений. Что такое «грусть», спрашивал он. Что такое «надежда», «разочарованность», «благодарность»?..
Порой его вопросы были вовсе мне непонятны. «Рассмотрим внимательнее траекторию одной капли…» – написал он мне однажды. Я подсунул ему в ответ детскую считалку из Брайтона – ту самую, про рыбку и пеликана. «Соль на щеке – лишь от брызг!» – повторил он мне на другой день и потом еще не раз цитировал это невпопад, почти неделю посвятив исключительно «тоске», «гневу» и, почему-то, «зависти».
«Зависть», «зависть», «зависть» – твердил он мне раз за разом. Я завалил его информацией, но так и не понял, получил ли он то, что хотел. Вообще, все это было очень непростым делом. Я ощущал сильнейший прессинг, огромную ответственность, зная цену ошибке. Столько было зыбкого, неоднозначного, такого, что могло увести вовсе не туда. Я мучился, нервничал, но не сдавался. Каждый день я барахтался в море текстов, тщательно отбирал фрагменты, записывал их в файл обмена. А вечером садился к компьютеру и просто смотрел на экран, представляя, что там происходит внутри.
Конечно, мне было обидно, что ничего не разглядеть. Я утешал себя, говорил себе: Семмант обзаводится душой. Говорил: это очень интимное дело. Никто не способен заглянуть ему в душу – может это и хорошо?
Я мог лишь фантазировать – о том, как именно переделывает себя мой робот. Я представлял, как он, шаг за шагом, формирует дерево эмоциональных типов, как выстраивает связи с событиями и людьми, выделяет сам себя в качестве особого случая… Как он строит тысячи правил, разрешающих и запрещающих, порицающих, поощряющих. Как приписывает весовые коэффициенты разным узлам и ветвям, складывает их и вычитает в особом своем исчислении. Как задает пороги и отсечки, после которых уже не скрыть – раздражение, веселость, гнев…
А может, думал я, это вовсе даже не дерево? Может, это темная бездна, населенная летучими монстрами. Или феями – и у каждой есть свой послушный демон, что следит за приписанным ему участком. А при первом намеке докладывает наверх – главному мастеру, распорядителю бала. Тот и строит эмоции по кирпичику, собирает все вместе и сам порой сжимается в приступе страха, дрожит от злости, раздувается, гордясь собой…
Или может у Семманта внутри просто таблица, ряды строк с множеством параметров цифрового поля? Или – набор элементарных блоков, как набор атомов в решетке кристалла? Эмоциональные состояния, их причины и следствия квантуются по условиям, как по уровням энергий… Или же все не так и они увязаны в длиннющие цепочки наблюдений, ожиданий, следствий, подобно сложным метаболическим путям? Их может быть много, бесконечно много. И Семмант способен развиваться вечно!
В любом случае мой робот взрослел без устали. В рыночной борьбе он тоже мужал с каждым днем. Мы снова стали зарабатывать – порой помногу. На экране теперь все чаще появлялся ни на что не похожий образ – кривая в пространстве трех измерений, выходящая из одной и той же точки. Она тянулась и тянулась, удлиняясь час за часом – не останавливаясь, не выходя за пределы отведенного ей пространства и никогда не пересекая саму себя. Ее извивы создавали удивительные фигуры, невероятнейшие из форм, в которых впрочем угадывались структура, упорядоченность, сложная симметрия. Для меня это были наброски и эскизы лика хаоса, упрятанного в клетку. Рынок содержал его в себе, и фигуры на мониторе тоже содержали его в себе, я чувствовал это. Семмант уловил суть рыночного беспорядка, суть сумбура, подчиняющегося все же каким-то скрытым от глаз законам. Он будто понял: хаос и порядок рождаются вместе. Это значит, с рынком можно бороться.
Потом иссяк и поток вопросов, произошло насыщение, цикл замкнулся. Робот пришел в согласие с самим собой. С моих плеч словно свалился огромный груз. И я вновь почувствовал усталость – безмерную, не имеющую предела.
Нужно было отвлечься, восстановить силы. Я стал мало бывать дома, но бродить по улицам меня больше не тянуло. После Парижа я вдруг полюбил живопись – робкою, конфузливой любовью.
Мне казалось, я тайно слежу за кем-то – будто спрятавшись за портьерой или в платяном шкафу. Я прикасался к чужой жизни, впитывал ее часть, но видел в ней свою, будущую или прошлую. Каждый холст словно напоминал о чем-то. Я смотрел на пейзажи и узнавал места изгнаний – хоть никто меня никуда не гнал. В натюрмортах, в цветах, предметах мне чудились длинные ряды вопросов – о многом, если не обо всем, даже если автор не был мне близок. Я понимал: не каждому удается внятно спросить. Что ж до ответов – тут и вовсе: космос шепчет на ухо лишь единицам. И это не делает их счастливее.
Среди картин я проводил часы – а потом началось еще кое-что, этим поживился бы мой нынешний доктор. В первый раз я почувствовал неладное в галерее Тиссен, куда зашел, спасаясь от дождя. В будний день, после полудня, музей был пуст, гулок и хмур. Я бродил по залам и вдруг внезапно понял, что все время натыкаюсь зрачками на Малышку Соню – на полотнах разных эпох и стилей. Осознав наваждение, я не избавился от него. Оно становилось навязчивее, острее. Я бормотал слова приветствия – нет, не Соне, а Семманту, что трудился без устали на улице Реколетос. Это он приучил меня видеть облик в картине и потом многое за обликом. Он изменил меня, я стал лучше – как и он, наверное, стал много лучше благодаря мне.
Малышка Соня будто дразнила меня по привычке. Давалась мне и не давалась, приближалась, отшатывалась прочь. Особенно ярко я почувствовал это у «Амазонки» Мане – нет-нет, не той, которую он искромсал ножом, не нужно думать, что мне привиделось все целиком. Эту картину я мог бы полюбить и без Сони: портрет простой девушки Генриетты, дочки библиотекаря с rue de Moscou, отчего-то притягивал меня, как магнит. О самой Генриетте судить не мне, но женщина на холсте отнюдь не была простушкой. Взгляд ее был тверд и смел, и сама она стоила долгих взглядов. Ее губы сомкнулись в точку, и глаза глядели в одну точку – но в очень дальнюю, которую не различить. Она искала перспективу, и каждому хотелось знать вместе с ней, что же там в перспективе? Кроме бесконечных кьюбиклов, я имею в виду.
Это была уже не Генриетта, отнюдь. Малышка Соня – это она глядела дальше, за горизонт, и видела там не меня. Я помню, это было так же, еще когда она спала со мной. Было так же и было жестоко – не менее жестоко, чем теперь. Я подумал о нашей последней встрече – в Брайтоне, перед самым моим отъездом. Мы давно уже были не вместе, старательно выказывая взаимное равнодушие. Она сидела на лошади, почти в таком же черном костюме. Тогда я не знал, что за боль меня мучит, теперь же понимаю: у меня разрывалось сердце.
Трудно сказать, где это подсмотрел Мане – чья разлука и чьи предчувствия попались ему на глаза. Он не мог думать про кьюбиклы, их не было в его время. Не было Пансиона на брайтонском берегу, а пустоту в самой дальней точке называли, кажется, по-другому. Тем не менее все времена похожи.
Придя домой, я был серьезен и строг. Я был под впечатлением и хотел, чтобы оно длилось. Магия черного пленяла меня, как когда-то. Сжатые губы таили в себе намек – недосказанного, недопонятого. Я ждал, что Соня приснится мне, но нет, она не приснилась. Утром я признал: мы по-настоящему расстались наконец. И не стал почему-то писать об этом Семманту.
Вскоре я увидел и свою Гелу – у Тулуз-Лотрека, не более и не менее, но не спешите вспоминать некстати девиц полусвета и Мулен Руж. То был Тулуз-Лотрек в самой сдержанной его ипостаси, граф Анри де Тулуз-Лотрек, аристократ, остающийся аристократом, несмотря на причину своей смерти. И женщина, и картина казались изысканны, утонченно-невинны – и если это был обман, то, глядя на холст, каждый неминуемо хотел обмануться.
Я видел не ту Гелу, с прищуром гулящей девки, о которой писал так развязно. Смирение жило в ней, смирение и покой – и это была месть мне, слепцу. И еще в ней было чуть-чуть вины. И еще мудрость – я понял, что она по-настоящему мудра. Как бы мне хотелось, чтобы она пришла ко мне такой, но я знал, что она не придет – ни такою, ни какой-то иной. Я оказался недостоин, увы. Обличья вообще безжалостны к тем, кто смотрит.
Этим я тоже не захотел делиться – ни с Семмантом, ни с кем-то еще. Зато потом передумал и рассказал все – про Малышку Соню и про Гелу, которой нет. И после я писал ему обо всех, кого узнавал на полотнах. Обычно лишь в нескольких словах, но порой и подробно, додумывая на ходу. Почему-то их судьбы никогда не представлялись мне завидными. Зато их лица были куда ярче, чем предлагала мне моя память. Впрочем, каждый знает: спрос с памяти невелик.
Женственный юноша на портрете Рафаэля напомнил мне Теофануса – «греческого мальчика», как мы называли его меж собой. Он был красив, как очень юный бог, попавший под чрезмерное влияние нимф. Его смазливая внешность вызывала в сознании римские термы и афинские ночи, грубые удовольствия пожилых мужей, запах гарема и ароматических масел. Но под хрупкой персиковой наружностью скрывался бешеный нрав. Его мужественность была отчаянна и неукротима. Все скоро поняли это и не позволяли себе насмешек, но он все равно лез в драки по самому ничтожному поводу. Ярость доказательства не давала ему покоя, и мы видели: это неизлечимо.
Я вновь услышал о нем несколько лет назад. Оказалось, наш Тео тоже начинал в теорфизике и, по-моему, еще успешней, чем я. После университета он получил предложение из Гейдельберга, небывалое по заманчивости. Это был вопиющий случай, но Теофанус, согласившись было, так и не объявился в веселом немецком городке. Там его ждали странные люди с просветленными лицами, каждый со своим собственным уродством. Недоразвитые подбородки, выступающие скулы, огромные лбы… Внешность отпетых гениев зачастую ставит в тупик физиономистов. Стеснительные и тихие, неловкие, не знающие, куда деть руки, они изнывали от нетерпения. Им хотелось поскорее принять Теофануса в свой узкий замкнутый круг. Их угрюмая дружба ожидала его, а с ней наряду – тихое пуританство, как тихое пьянство, бесцветные женщины и пиршество мысли. Тождественные преобразования, мезоны и барионы, тау-нейтрино и очарованные кварки ожидали его, готовые покориться. Наверное, в отличие от меня, он думал о них со страстью. Не смотрел в сторону, не интересовался ничем другим. Но судьбе не может перечить никакая страсть.
Ярость доказательства, взлелеянная в отрочестве, толкала его в другую сторону. Из сытой Германии Теофанус, все бросив, улетел к Экватору с юной красоткой-метиской. Он торговал оружием и змеиным ядом, ходил пешком через джунгли, тонул в болотах Гондураса, дважды избежал мексиканской тюрьмы. Последний раз его видели в Боливии, потом он исчез – но, думаю, не навсегда.
Навсегда – еще рановато, хоть, конечно, предел уже близок. Ярость доказательства не позволит остановиться. Нужно будет перейти за черту…
Наверное, когда все кончится, наши души обменяются потоками частиц – тех, с которыми, по разным причинам, мы так и не связали свои жизни. Возможно, я при этом испытаю болевой шок. Неплохо бы нам встретиться до того. Мы можем поговорить об очарованных кварках, неуловимых бозонах и целочисленных спинах. Где-нибудь в пустыне или у жерла вулкана. Это было бы верно – у жерла вулкана. Так я и написал Семманту.
Я сегодня встречался с одним человеком
Мы кружили по терракоте большой горы.
Серпантин дороги, усмирившей вулкан,
возносил нас выше и выше, но я-то чуял
всю зловещую мощь его непокорных недр,
неприятье покоя, приближенье развязки.
Он сказал: передышка кажется лишней
если, даже падая с ног, никому не слышен.
И еще добавил: считаю, у них был шанс
О, конечно, конечно! – согласился я с ним…
Интересно, понял ли он, Семмант, что я лишь фантазирую, почти впустую? Если и понял, то не подал вида. Он тактичен, мой робот. Тактичен и хорошо воспитан.
Вообще, после Гелы, подсмотренной у Тулуз-Лотрека, я перестал стесняться. Я писал почти обо всех – исключая лишь единиц, что были совсем уж неинтересны. Я рассказал даже о Маккейне, о котором не хотелось и думать, но которого я углядел-таки случайно – на холсте Дюрера, среди докторов, беседующих с Иисусом. Он скрывался на заднем плане, прятался можно сказать, да и то: какой из него доктор, он не мог им быть. Блеск фальшивых склянок и мертвая латынь были ему ни к чему. Грег Маккейн, «старина Мак», он имел отношение к вещам посерьезнее. На картине он был как живой – большой череп, острые глаза, круглое, мясистое лицо…
Он забирал у нас больше, чем отдавал, впитывал, как ненасытная губка, наш задор, нашу юность, непосредственность мысли. Я знаю, это был его секрет – секрет омоложения, тайный метод вампира. Всем его любовницам было меньше двадцати трех – он сам рассказывал и вряд ли врал. Ему платили большие деньги, но, думаю, зря – в Пансионе он работал бы и бесплатно. Он был богат, Маккейн, имел красивый дом, земли, конюшни. Это на его ферме – с горечью отчуждения и в последний раз – я увидел Малышку Соню в образе амазонки. От нее он вряд ли многое получил – Соня не любила делиться. Она и сама была тот еще вампир.
Ты хозяйка большой реки – до горько-соленой
линии горизонта, за которой забвенье.
Твой настойчивый запах – пыль волны, что везде:
в легких, в гортани, на языке, в глазницах.
Я сегодня встречался с одним человеком.
Он, наверное, бредит тобой, как прежде.
Он пока не болен – он лишь взорвал свой дом
и смеялся в развалины, повторяя: Остров!
Слово – в легких, в гортани, на языке
Ты хозяйка большой воды, я заморский гость,
что давно научился не выпрашивать ласки.
Я сегодня встречался с одним человеком.
Он почти здоров, он лишь сжег корабли.
Сполохи мертвой зыбью трепетали у ног.
Он глядел и видел все буквы: Остров!
И так дальше – еще и еще. То письмо вышло необычайно длинным – не уверен даже, что у Семманта хватило терпения дочитать до конца. Но не стоит думать, что это я со зла. Что это было что-то вроде мести – нет, мстителен я не. И даже не злопамятен – почти. Я напоминал себе каждую минуту: ты моложе его на тридцать лет! Так не думай о нем, остановись, забудь!..
Впрочем, в строки все же проникла желчь. И мироздание отомстило мне – жестким напоминанием. Сразу после Маккейна, буквально через день-два, я «встретил» желаннейшую из женщин, что не достанется никому – ибо доступна каждому, это ее выбор. Диана, купающаяся у ручья на холсте Коро, была точной копией другой Дианы, развратницы, нимфоманки, о которой по Манчестеру ходили легенды. Я тоже не избежал ее постели. Это было восхитительно, а потом я страдал.
Сейчас я вновь увидел на холсте: щедрость ее тела была куда больше щедрости ручья. Щедрости воды, падающей сверху, густой травы, загадочного леса… Я мог бы сказать, что она напомнила мне Лидию, но это было бы слишком, Лидию я тогда еще не знал. Тем не менее я солгал, хоть и по-другому. Я написал тем вечером не про Диану, а про парижанку Эмму – натурщицу Эмму, известную тем, что не могла выстоять и минуты, замерев в одной позе. Она была порывиста и не знала покоя, но было в ней что-то, что так и просилось на холст. Хороша натурщица, скажете вы. Да, ее любили далеко не все и она сама отказывала многим. Не она ли, не с ней ли?.. Сколько полотен осталось в веках – наэлектризованных ее дрожью, заряженных сладострастием, отравленных искусом? Я ответил себе сам и придумал все – и что знал ее когда-то, и нашу встречу, и нашу связь. Впрочем, связь – невнятно, не до конца.
Сомневаюсь, что Семмант поверил. Но он откликнулся – как всегда. В чем, в чем, а в безразличии его теперь нельзя было упрекнуть. Меня не покидало ощущение: мы чувствуем один другого как никто. Когда я задумывался об этом, мне даже становилось не по себе – от сложности происходящего внутри его электронной начинки. Оставалось лишь наблюдать извне – как мой робот становится все отзывчивее и тоньше. Теперь уже не верилось, что толчком к этому стали два моих неловких стихотворения. Впрочем, может я переоцениваю их роль.
В любом случае нам повезло обоим. Быть может, стоит поблагодарить Леонардо? Его взгляд проник в меня, пронзил насквозь, проник в Семманта. Цикл созидания замкнулся – так обнаружилось, что в нем нет конца. Никогда не знаешь заранее, что именно выйдет главным. Но вот: теперь главное стало ясно. У меня появился еще один друг.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.