Текст книги "Собрание сочинений в двух томах. Том II"
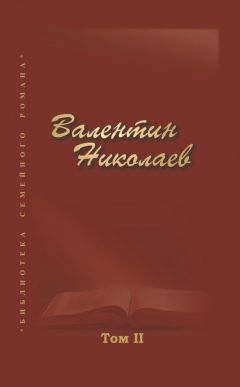
Автор книги: Валентин Николаев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
На скате полей четыре жилых дома – все что осталось от деревни. Покосившиеся дома стоят наособицу, потому как деревня расчетвертована крестом двух глубоких полевых дорог, не деревня – разъезд.
В верхнем крайнем доме (а они все тут крайние) живет одинокий старик. Он давно на пенсии, нынче оглох, жена у него умерла, дети и внуки в городах. Его дом стоит окнами в поле, из окна видно, как над полем летят птицы: весной – на север, осенью – на юг. Старик удушливо кашляет, отравлен газами еще на войне, в плену.
Всю жизнь он работал в колхозе, ходил на охоту, за грибами, ловил рыбу. А теперь никуда не ходит, только глядит в окно.
Особенно тоскливо осенью, когда уйдут с полей последние комбайны и тракторы. Сидит он у окна, дует ветер над пустыми полями, и проходит жизнь. А в голове одна дума: «Когда умру, кто сообщит детям, как похоронят?..» Единственная грамотная, еще молодая, соседка (а они все тут соседи) у которой адреса его детей, этой осенью сошла с ума.
Вечереет, старик подходит к окну, садится на расшатанный стул и глядит в поле, там клонится на меже полынь. Куда она клонится – туда, значит: и ветер дует. А каков ветер – такой и погоды жди. Всей жизни у старика осталось: глядеть из окна на ветер. В эту осень ему все чаще мнится: «Вот стихнет ветер, и кончится моя жизнь». С этой думой он ложится спать, с ней же и просыпается, и сразу идет к окну. Качается кустарник, гнется полынь на межнике – значит жив. И он боится, что однажды ветер стихнет…
Он не ошибся, умер на рассвете, когда в полях было удивительно тихо, шел первый легкий снег. В деревне все ещё спали, лишь по белому межнику гуляла соседка, босая, полураздетая. В великой предутренней тишине она осторожно срывала опушенную снегом полынь – собирала букет из «первых зимних цветов». И очень сердилась, когда белые цветки облетали и таяли у нее на голых руках и коленях.
56. В середине России – голая дорога под дождливым осенним небом среди голых неплодородных полей. Куда ведет она и откуда? Во все стороны бескрайняя нужда, серость, забитость, пьянство, потеря всякой веры.
Потеря веры не только в будущее, но – и в прошлое, то есть замутилась историческая память. Есть одна вера – в непредсказуемость, случайность.
Дорог посреди России много, но идти и ехать по ним никто уже не решается: и дорого, и везде одинаково плохо. Все сидят дома возле своих родных кладбищ. Сейчас одну дорогу до кладбища люди только и могут осилить. Так живет провинция. А у нас вся Россия – провинция.
57. Прошлое часто было не совсем таким, как об этом рассказывает история. Дело в том, что историю пишут победители и первая их задача – оправдать свою победу любыми путями. У победителей плохих историй не бывает.
Будущее чаще всего нам является не таким, как об этом загадывают и обещают нам историки и политики. Опять же: будущим они оправдывают своё настоящее. Основное подтверждение того и другого: политики то и дело говорят неправду, даже о современности, то есть о нас с вами, говорят лишь с той целью чтобы запутать и обмануть своих политических соперников. Вывод: политическая жизнь имеет мало общего с жизнью народа. Задача народа: зорко следить за лозунгами и действиями политиков. И всегда сохранять нейтральность к их устремлениям, не менее чем вполовину от общего населения. Тогда при тайном замысле трудно будет погубить страну и народ. К этому выводу давно пришли все цивилизованные страны Европы. Народ же послушный политикам чаще всего живет не своей жизнью, а жизнью заложника.
58. Сейчас жить трудно еще и потому, что – самостоятельно. Самостояние обязательно для всякого. У нас же многих это напугало, лишило рассудка, обидело… Мы еще и собственную жизнь не считаем своей, а надо дойти до того, чтобы всю Россию считать своей и беречь ее как собственность, и не только свою, а – дедов, и внуков. Тогда все и наладится.
59. В лесу ж дорога хороша, а просека еще лучше. Почти на любой просеке можно найти пенек, и если устал, то не следует и ходить больше по лесу: на просеку «выходит» из лесу любой гриб поближе к свету, по просеке кочуют осенью рябчики. Как самолет, черной тенью, распластав могучие крылья летит тяжелый глухарь, выходят оглядеться кабаны… Да мало ли кто. Даже зайчик-беляк и тот любит прогуляться по просеке пока не спугнут его. А спугнут – юрк в сторону: и опять в лесу, под защитой кустов и стволов.
Особенно красив на просеке листопад в серенький задумчивый день, когда плывут над вершинами облака и изредка прорывается из них солнце.
60. Живет в моем болоте заяц, русак. Может быть, последний по округе. Весной, когда добираюсь из города через болото к своему дому, он обязательно перебежит мне дорогу, остановится совсем рядом в поле и глядит, как я снимаю тяжелый рюкзак со спины.
Через день или два, оттопив свой дом, иду рано утром на ток – опять он мелькнет белыми штанишками, утекая с окраины поля в кусты. Летом соберусь за грибами – выскочит из-под елочки. И зимой, побелев, крутится тут же, в своих и моих родных местах. Убить его – не составляет труда, и много раз была такая возможность. Но не могу я на него поднять ружье: он стал мне вроде друга, даже больше – он хозяин тут, а я частый гость. Ну убью, а кто же меня будет встречать весной? Ведь родных уже нет. Иногда думается: «Наверное он меня считает как охотника ненормальным.» А я – его. Но уж лучше два ненормальных, чем один очень деловой и «умный». Одному – скучно.
61. Осень. И поселяется в полях и перелесках сиротство земли. Задумывается обреченно вся округа, будто кто обидел ее. И гнетет душу какая-то вина. Правда нет уже прежнего страха перед партией и сельсоветом, нет ответственности за «передовое ученье». Но и радости никакой нет. Есть тревога за будущее России и всей Земли.
62. В октябре отходит наша природа: деревья: кустарники, травы – все будто умирает. Но умирают не на совсем, а только до весны. Почему же в человеческой жизни не должно быть общей весны? Если человек сотворён сложнее дерева, то может ли его жизнь завершаться так же как у дерева?
63. Дорога, особенно просёлочная, всегда кажется мне живой. Она чем-то напоминает реку, но «течёт» как бы в обе стороны. Дорога – это не просто земля, по ней постоянно течёт жизнь людей. И если бы она умела писать – сколько бы она могла нам поведать о людских судьбах – о думах, слезах, откровенных разговорах, мечтах, встречах, печалях…
64. Другое дело – лесная просека. Идёшь по ней из лесу, кончается она, и всегда тянет остановиться и оглянуться. Просторно и покойно в сухом осеннем лесу. Посидишь минут пять на осенней просеке – и обязательно что-то да случится: или гриб боровик глянет на тебя из-подо мха как из под шапки, или глухарь как самолёт протянет воздушным коридором и обдаст тебя шумом и ветром крыльев, или просто слетит с осины лист и пока мельтешит до земли как оранжевая бабочка, что-то вспомнишь или подумаешь о жизни такое, чего за всё лето на ум не пришло.
65. Когда заблудишься в тумане посреди поля, то бываешь не только огорчён, а вроде, и рад: мир перестаёт существовать для тебя в прежнем виде; ты изолирован, вычеркнут из прежних размеров поля, дорог, всей округи… Ты один и совершенно свободен. Может, что-то подобное испытывает человек и в свой крайний срок на земле. Может, это единственное отрадное чувство – свобода от прежней жизни.
66. Погожие дни осени. Они будто для того и даются, чтобы испытал человек короткое тихое счастье перед долгой зимой. Только в это время жизнь кажется хрупкой, почти призрачной и совсем не принадлежащей нам.
67. Чего больше: беззакония или беспризорных диких мест по России? На тысячи вёрст лежит неприбранная, неприкаянная земля: вроде наша и вроде ничья; и взять нельзя, и власти о ней помнят как бы в полудрёме. Так и живём по отдельности: земля, леса, реки – сами по себе, а мы, люди, – тоже отдельно. И отдельно ото всех жила и живёт Москва, а в ней уж совсем обособленно ото; всех – Кремль и Белый дом. И у всех одна задача – выжить. Но беда в том, что каждый стремится выжить либо сугубо лично (лучший случай), либо за счёт другого, других. А согласного действия так и нет.
68. Прошло лето 97-го года. И опять ничего не случилось. Земные глашатаи пьяны, корыстолюбивы, немодушны…
Вот предзимье, первый снег, туман… Каплет в саду с яблонь, каплет и по всему лесу. Всюду, где валяется мёртвая листва под деревьями, стоит вкрадчивый смутный шорох – будто земля шепчет деревьям последнюю – древнюю молитву. А они стоят покорно как на исповеди, и слёзы сами капают у них на мёртвую лиственную плоть. И хочется постоять молча рядом, приобщиться хоть к их таинству: так оскудела и замкнулась душа.
69. До 1991 года страной управляла перезревшая компартия, теперь недозревшая комсомолия.
И вот страна ждёт, когда перелинявшие комсомольцы дозреют. Но что это будут за «фрукты» – никто не знает.
А пока хоть бы один приличный завхоз на всю страну!
70. Большевики воспитали особую категорию людей – советских. У нас даже академик очень часто похож на шпану, жулика. Почему бы? А иначе ему просто было не выжить и уж, конечно, не выйти в академики. Ему постоянно была нужна имитация серости, то уголовщины, то холуйства… Выход из этой нравственной комы ещё не освоен. Первые опыты могут быть со смертельным исходом. (Андрей Сахаров).
71. У большинства нашего населения главное впечатление от деревни: холодно, голодно, грязно. У иных: природа, тишина, покой. И редко у кого: хлеб, продовольствие, благосостояние страны.
Люди, проклявшие свои поля и крестьянство, не имеют права на счастливую и даже просто нормальную жизнь. Наше крестьянство первым проклял и начал уничтожать Ленин (как класс в революции «несознательный»). Однако большевики не стеснялись потом называть многие хозяйства: «Колхоз им. В. И. Ленина», совхоз «Путь Ильича» и т. п. Бывало ли где и когда-нибудь большее двуличие и бесстыдство?
72. У нас было столько гениальных людей, которым не поставлено ни знака, ни памятника. И был один человек, которому памятников стояло столько, что из них можно было собрать целый полк или колхоз, возможно, и не один. На «жизнь» каждого такого памятника государство тратило значительно больше средств чем на жизнь рядового колхозника. Вот они: мёртвые-вечно живые и живые – вечно полумёртвые.
73. Все больше боюсь поздней осени в деревне. Все умерли, все гибнет, земля наша мертвеет. Поля уходят в зиму, в безнадежъе. В тёмные ночи по пустым дорогам и заброшенным деревням бродит как голодный волк последний колхозник – ищет где что недоукрадено, недоразграблено, не догнило… Скоро и воровать будет нечего, и он умрёт как все его одногодки. А землю купит московский аферист, перепродадут её раз пять, и в конце концов появится в этом колхозе какой-нибудь заграничный хозяин, посеет тут лён и будет нам втридорога продавать «голландское» полотно.
74. Мой дед искал места, выкапывал и рубил колодцы. Отец чистил и ремонтировал эти колодцы. Я уже ничего не делаю, а только смотрю, как колодцы разрушаются, приходят в запустение… А сын мой боится и пить из этих колодцев, говорит, что вода там стоит в грязи и можно отравиться, нынешние молодые часто саму землю называют грязью.
75. Водопровод отнял у нас любовь к родникам и колодцам, машины – к лошадям, марксизм – к Богу, коллективное хозяйство – к частному, «всеобщая грамотность» – к культуре… И этим путём наши гегемоны хотели привести нас в «светлое счастливое будущее».
Самое грустное в этом – мы всегда думали, что они нас куда-то ведут. А они никуда не вели. Они просто переделывали нас в однородную серую покорную массу.
Надо напрочь избавиться от этого стадного чувства, что куда-то нас надо вести.
76. Всё короче, всё временнее, чем мы думаем. Мы жизнь свою продолжаем, длим, а кто-то с другого конца её невидимо укорачивает. И если бы однажды увидеть остаток своей жизни, то можно только ахнуть.
77. Сегодняшнему человеку легко жить, ибо он ещё не очень верит в Бога, не догадывается, что Земля или Кто-то в мире имеет память, следит за нами и всё помнит. А если есть эта Память, то по-прежнему жить нельзя.
78. Ясные дни осени в глубоких лесах имеют особую прелесть. Мороз, иней, утреннее солнце. Берёзы стоят: одни голые, другие ещё не облетели – будто обсыпаны карасиной чешуей, склонились над самой водой безымянного озерца. Высокие травы желты, почти бестелесны – так легки и покорны. Как во сне всюду опадают листья. Ещё растут грибы, но людей не видно. В такие дни над лесами свободно кочуют птицы: сороки, сойки, вороны; с какой-то поспешной деловитостью летят в одну сторону тетерева – чёрные, сосредоточенные, будто птичьи монахи.
Стоишь на краю поляны, и не верится, что мир подошёл уже к какой-то роковой грани своего бытия, что он изверился, износился, устал от бесконечной погони в безумном соревновании. И даже мысленно не хочется возвращаться в эту вечную лживую суету, от которой мало общего счастья, но много бед и страданий.
79. Сегодня былой России нигде нет: ни за границей в сообществе эмигрантов, ни здесь, в забытых русских полях, ни в кипучих, думских заседаниях, ни в казачьих кругах, сходах… Мы её мучительно ищем, нам невозможно потерять её облик, её свободу, размах и раздолье и то особое обаяние ею, упоение её воздухом, песнями, православным простосердечием и отзывчивостью, её многовековым укладом жизни… Но век ушёл, и остались о той жизни только воспоминания. Свершились не только утеря, но – и преображение. Определить точные координаты в этой стихии преображения всей нашей жизни и есть боль времени.
80. Я стоял в лесу на голой просеке, и вдруг неспешно пошёл первый снег. От неожиданности растерялся, будто опоздал куда-то… А снег всё прибывает, копится, и преображается всё вокруг. И я сменил все свои планы – понуро побрёл домой. Шёл, будто возвращался из одной жизни в другую. Всегда грустно перевернуть еще один лист своей жизни.
81. Весело идти по полям, перелескам, когда первый мороз стукнет лужицы, грязи, болота. Вся земля враз становится твёрдой, проходимой сухой и лёгкой, иди напрямик куда хочешь, нет тебе никаких препятствий, даже птицы в такое время летают оживлённее, смелее, будто и им хочется оглядеть всю округу до первого снега.
82. Каждый год 7 ноября они обращались к нам: «Трудящиеся Советского Союза!..» Сгрудившись на гробу своего идола, который нигде и никогда не трудился ни для нас, ни для своей родины, они как бы от его имени вооружали нас новыми планами на труд. Мы для них и были всего лишь «трудящиеся». Слово это для них не имело единственного числа. «Народ, трудящиеся» понималось как лес, заросли, неистребимая сила… Одним словом – «много» и можно не жалеть, не считать, не одевать, не кормить. Но два раза в году им как воздух нужен был одобрительный гул этих трудящихся, неистовый шум, как шум леса во время бури. Наслушавшись, они, как престарелые опоссумы, расползались по своим норам и дремали там до весны, и каждому снился свой коммунистический сон, в котором он, наконец, обретал покой, славу, вечные почести, как обещал вождь. Видимо, в этом умопомрачении они и умерли один за другим, не оставив в память о себе ничего кроме лжи и фарисейства.
Кто не видел всего этого, то и не надо. А мне довелось 7-го ноября 1967 года шествовать по красной площади в ряду демонстрантов, мы показывали мощь советской власти в её 50-летний юбилей. Было холодно, над Александровским садом кружило вороньё, поднятое юбилейным залпом. Шли все время на рысях, и редко кто из нас ухитрялся выпить и закусить на ходу. Мимо Исторического музея, подгоняемые милицией, бежали бегом. Выбежали на Красную площадь и перевели дух. Я, дремучий лесной человек, глянул на мавзолей – там стояли ОНИ! Будто лесные зверьки из-за бревна они выглядывали из-за мраморного парапета, изучали нас. Ах, какие у них были лица-маски! Актеры наших театров иногда обижаются, что мы мало ходим в театр. Но разве сравнится хоть одна пьеса с той, что игралась ежегодно в октябрьские и первомайские праздники на Красной площади? Это были спектакли двойного действия: играли на сцене (на трибуне) и в зале (Красной площади) – одни немо, другие с криками «Ура»!
И по сей день эти кинодокументы смотрятся как чудо. Вот они стоят и смотрят на «трудящихся», им смертельно скучно, но на лицах выражение мужества и преданности (конечно делу партии). И вот по одному, не часто (чтобы не было заметно) уходят куда-то вниз, вроде как бы в туалет. Потом появляется приободренный один, другой… Конечно, коньяк он хорошо греет в промозглое революционное утро. Стоят они плотно, плечо к плечу, как бы держат друг друга: вдруг кого-то поведет. А шляпы-то, шляпы как на них сидят: будто прибитые гвоздями к деревянным головам!
Ах, что думали они, эти головы, в те торжественные для отечества минуты, что чувствовали на самом деле? Как жаль, что этого мы никогда не узнаем. Ни один из них не оставил и, видимо, не оставит истинных откровенных признаний, воспоминаний. А какая бы это была ценность!
83. Ноябрь. Промерзают болота, к лесным поселкам подступает стужа. Глохнет, цепенеет округа, сжимается и сама жизнь людей: они вяло работают, пьют, раз в неделю ходят в баню, в выходной на рыбалку или на охоту и почти никогда – в библиотеку. Раз в месяц ездят в райцентр – в военкомат, в больницу, суд… И так течет неспешно жизнь всю долгую зиму из года в год почти у 70 % населения страны и по сей день. Об этой истинной жизни народа не знает примерно 70 % москвичей, которые все пытаются спрогнозировать экономическое развитие и политическую обстановку в стране. Жителям Москвы и в голову не приходит, что и по сей день эти 70 % российских провинциалов работают в три раза больше чем они москвичи, а получают в три раза меньше. И не бастуют, не спиваются, не стоят у магазинов и на паперти с протянутой рукой, прося милостыню. К ним не доходила и не доходит никакая гуманитарная помощь, и они не жалуются, не выступают на всю страну по телевидению. Они работают, терпят, ждут… А чего, и сами не знают. О них забыли ещё в 1917 году и не хотят, не желают вспоминать и по сей день. Вспоминают время от времени только военкоматы да налоговая инспекция. Потому как они – «трудящиеся», их много, они как лес, а в лесу надо иногда собирать урожай.

84. Судьба Земли в руках государств, судьба человека в руках страны. Быть счастливым в несчастной родине – подло, а быть счастливым без родины… Всякий ли на это решится? А земные глашатаи пьяны, корыстны, слабоумны. Должны быть истинные отцы мира. Они есть и проникают судьбы и время. Они говорят, а мы не слушаем; они умирают, и мы их не вспоминаем. Живем по-прежнему.
85. Осенью, когда птицы собираются в огромные стаи, человеку становится как-то одиноко и грустно. И он не всегда может ответить – почему. Может потому, что их, птиц, много, а человек остается на всю зиму один. Ведь человек всегда одинок. Даже если и из квартиры, пусть и временно, но все враз уезжают, а один кто-то остается – ему невыразимо грустно. Ощущение пустоты не проходит сутки, двое… Видимо, нарушается какой-то энергетический баланс, и нужно время, чтобы все «рассосалось», выровнялось, пришло в равновесие. Даже дом, оставаясь один, как будто тоскует долгими осенними ночами.
86. Ходит и ходит вор в мой деревенский дом. Более десяти лет ходит. Уж все в доме изучил лучше меня, знает, что украл, а что я сам увез или припрятал. Но все ходит: не забуду ли я чего такого, что ему очень понравится. Но я оставляю только то, что он давно не берет. Не может же он взять, например, мою охотничью шапку – вдруг встретимся, и я узнаю. В деревне, не в городе, не спрячешься. Я уже привык к нему и даже рад по весне, когда узнаю, что был именно он: чужой начнет искать «золото» заново, переломает все, перевернет весь дом…
Не могу только привыкнуть к тому, что он знает меня в лицо, а я его нет. Может встречаемся, разговариваем, закуриваем вместе… Я знаю, он курит, и оставляю ему в доме сигареты и пепельницу рядом. И он всегда покурит наедине, но сигареты все не берет.
Примерно такая же картина вырисовывается и в государстве нашем. И я все чаще с тревогой думаю: «А что если мы все привыкнем к постоянному воровству, свыкнемся как я? Что будет?…»
87. Осенью земля сирота. И всюду одиночество. Лес, река, поле – живут каждый сам по себе, каждый наособицу. И человек замыкается в себе. Все готовятся в зиму как в плавание. Надо одолеть это снежное море, пройти сквозь стужи, глухие темные ночи, чтобы в марте вынырнуть как из глубины навстречу свету и солнцу.
88. Весной возле самого леса скопилась снеговая лужица. Вернулся на родину куличок, отдохнул тут, попил снеговой водички и полетел дальше. А лужица прогрелась, постепенно вода ушла, осталась низинка, а в ней появилась первая зелёная травка. Ночью прискакал заяц и отведал первой луговой зелени.
Летом вышла из зеленого леса лосиха с лосёнком, и пока она оглядывала поле, готовясь перейти его безопасно, лосёнок тоже пощипал сочной травы из этой низинки.
А пришла осень – на дне низинки вырос крепкий гриб подберезовик. Но никто его не нашёл, и он долго стоял как богатырь среди равнины – будто всё дивился на человеческую невнимательность. Так тут он и сгинул в одиночестве.
Потом выпал снег, всё сравнялись, стало как белый чистый лист бумаги до новой весны.
89. Двое суток живу в чужой бане. Пришёл охотиться, но друга нет, дом да замке, и я поселялся в бане. Утка летит где-то стороной, на озёрах пусто, да и какая это охота, если лесные прибрежья весь день аукают грибниками. Прёт крепкий белоснежный боровик. Набрал и я, высушил в банной печи, используя вместо противня старую банку из-под селедки иваси. Собираюсь домой, радуюсь, что лёгок стал рюкзак: сухие грибы не много тянут. Три румяных яблочка на вершине яблони остаются в зиму, вглядываюсь – они как три огонька на мачте теплохода. «До новой весны, как до новой навигации», – говорю я мысленно оставшемуся зимовать моему недолгому пристанищу. И, ухожу в поле.
90. Ночью выпал первый мокрый снег. И багряные леса отяжелели от белого груза, редкая и радостная картина. Машина летит сквозь этот бело-золотой лес. Мы трое в кабине. Молчим и только смотрим вперёд и по сторонам.
Шофер с Шилекши, о которой я когда-то писал. Вот она тут где-то крадётся через леса к другой реке Черный Лух. С трудом верю, что когда-то с багром, работал на весновке, жил в лесах… Теперь новая дорога – лесной асфальт. Не то, что в былые годы. Но те времена все равно кажутся лучше. Почему нищета вспоминается иногда приятнее богатства? Или и впрямь, счастье не в деньгах?









































