Читать книгу "Гении тоже люди… Леонардо да Винчи"
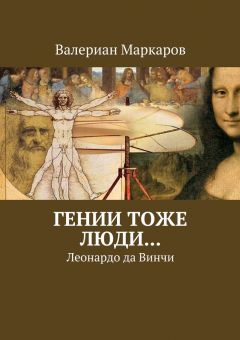
Автор книги: Валериан Маркаров
Жанр: Исторические приключения, Приключения
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Высокий, с прямой осанкой, грациозной походкой, надушенный благовониями, сделанными им собственноручно из трав и смол, он производил впечатление благородного юноши, сошедшего со страниц рыцарского романа. Его одежда – чёрный камзол, тёмно-красный длиннополый плащ с прямыми складками и чёрный бархатный берет – выделяла его в толпе, придавая особую утончённость. В руках он часто держал свою любимую лютню, сделанную из серебром окованного конского черепа – странный, мрачноватый, но волшебно звучащий инструмент. На ней он играл, сочиняя песни, которые слагались будто сами собой, – как будто звучали откуда-то изнутри мироздания.
Он был красив. Но его красота не была простой. Высокий лоб, задумчивый и проникающий взгляд, длинные, как у античного героя, волосы, сильные руки, манеры, в которых было и благородство, и насмешка. Его присутствие озаряло собеседников, его слова – то блестящие, то язвительные, – подкупали ум, а смех был заразительным и редким. Он был рыцарем без меча, поэтом без книги, философом без кафедры. Но он владел шпагой с тем же мастерством, что и кистью. Его ловкость в бою равнялась его точности в рисовании мускула. Он мог останавливать на скаку испуганную лошадь, а его рука, сильная, способная согнуть язык колокола, была в то же время достаточно чутка, чтобы перебирать струны лютни с невыразимой нежностью или уложить на холст прозрачный мазок света.
Он часто заходил в церкви – скромные и величественные, тихие, погружённые в полумрак или наполненные пением монахов. Там, на стенах, он подолгу вглядывался во фрески: в движения рук и склонённых голов, в изгибы драпировок, в выражения лиц, застывших между землёй и небом. Он, казалось, разговаривал с ними глазами, слышал их безмолвные исповеди и запоминал каждую складку, каждый поворот тела, каждый ускользающий жест. Иногда он садился прямо на каменный пол, достав из кармана своего плаща тетрадь – маленький альбом, с которым не расставался никогда.
Тот альбом был его спутником, исповедником и лабораторией. На его слегка подцвеченных, шероховатых страницах жили лица и тела, животные, архитектура, уличные сцены, фантастические механизмы, причудливые облака и непостижимые улыбки. Он рисовал в нём быстро – лёгкими, уверенными, почти не касающимися бумаги штрихами, как будто хотел поймать саму сущность, ускользающую в тени.
Иногда он рисовал античные статуи – в садах Медичи или в клуатрах монастырей. Ему было важно уловить не только форму, но и ту загадочную внутреннюю жизнь, что, казалось, ещё теплилась под холодным мрамором.
Однажды на утренней прогулке по набережной Арно, когда небо было влажным и мутно-золотым, к нему подошёл Лоренцо ди Креди:
– Ты всё ещё носишь свой альбом в кармане, как тогда, в мастерской маэстро Верроккьо? – спросил он с лёгкой усмешкой, заглянув через плечо на открытую страницу с наброском нищенки в латаном плаще и босыми ногами.
– Лоренцо, друг мой, – улыбнулся Леонардо, не отрывая взгляда от рисунка, – альбом я ношу не ради Учителя… я ношу его ради себя. И тебе советую так же. И пусть в нем будет слегка подцвеченная бумага, чтобы ты не смог стереть нарисованного, а всякий раз должен был перевернуть страничку. Такие зарисовки нельзя ни в коем случае стирать, их надобно сохранять с крайним прилежанием, потому что существует столько форм и действий, что память неспособна их удержать. Поэтому тебе следует хранить эти наброски: они примеры для тебя и твои учителя.
Он любил бродить по городу – по тесным улицам, где черепичные крыши почти смыкались над головой, отсекая дневной свет; где зловоние сточных канав смешивалось с ароматом жареных каштанов и дымом благовоний; где за каждым углом можно было встретить что-то достойное зарисовки – жест, лицо, силуэт. Он наблюдал. Он искал. Он ловил суть.
В лавках красильщиков, где сквозь приоткрытые двери просачивались струйки алой, охристой или изумрудной жидкости, он замечал, как играет свет на влажной ткани. В проходах рынка – как звучит смех торговки, как меняется лицо спорящих мужчин, как мальчишка дразнит слепого музыканта. Он подолгу следовал за людьми, которых видел впервые: за старухой с кривой походкой, за горбуном, за странным бородатым типом, чья мимика казалась ему диковинной, почти театральной.
Однажды, весь день, до самого заката, он не сводил глаз с одного незнакомца – то приближаясь, то скрываясь в тени, быстро зарисовывая на ходу, в движении. Затем этот набросок он многократно переделывал, меняя ракурс, варьируя свет и линии, стирая всё, кроме главного – характера. Души. Лица, сквозь которое можно было прочесть судьбу.
– Рисунок – это не только линия, – объяснял он своим ученикам, сидя среди них вечером при свете масляной лампы. – Линия даёт форму, но это ещё не жизнь. Жизнь – в свете и тени. Вот, посмотрите: если вы нарисуете круг, он останется плоским. Но добавьте на одну сторону немного тени – и перед вами уже шар. Объём рождается из света, переходящего в тьму. Фигура оживает, когда она окружена воздухом и освещена, как в природе. Только так мы можем лепить формы – на бумаге, как в глине…
Когда Леонардо впервые прибыл во Фьоренцу, город был на вершине своего величия. Это была эпоха блеска, изобилия и дерзновенных устремлений. Бурным потоком развивались торговля, ремесла, банковское дело. От переизбытка богатства флорентийские патриции с лёгкой рукой тратили средства на украшение не только своих палаццо, но и храмов, площадей, городских празднеств. Всё, что могло восхищать глаз, услаждать слух, прославлять имя и укреплять власть, находило воплощение в мраморе, музыке и фресках.
Пиры длились неделями, шествия – часами, костюмы стоили как дома, а сцены на временных помостах превращались в театры небывалого великолепия. Никогда прежде поэзия, живопись и философия не цвели так пышно, как в эти десятилетия. И на этой золотой почве ренессансного расцвета родилось новое ощущение мира – острое, дерзкое, неуёмное, как юность сама.
Но вместе с искусством и праздниками расцветали и новые науки. География – некогда удел мореплавателей и монахов – стала здесь наукой из наук. Ведь Фьоренца нуждалась в сырье и новых рынках, а пути к Востоку после падения Константинополя в 1453 году оказались закупорены османскими пушками. Крупнейшие торговые дома, чуткие к грядущим бурям, устремили взор за пределы Европы. География, как и механика, как и экономика, становилась инструментом выживания.
В этом научном брожении особенно выделялся один человек – Паоло Тосканелли. Географ, астроном, врач, математик – он принадлежал к тому редкому роду титанов, которые не ограничивают себя рамками одного знания. Именно он, много лет спустя, даст юному генуэзцу по имени Христофор Колумб карту с предложением двигаться на Запад в поисках Востока. Но и до этого Тосканелли был фигурой почти легендарной – его уважали купцы и слушали мыслители, и в его доме на склонах Сан-Джованни собирались лучшие умы города.
Ближайшими его единомышленниками были Карло Мармокки, страстный любитель астрономии, и поэт-учёный Леон Баттиста Альберти – типичный homo universale, человек эпохи, совмещавший в себе черты математика, архитектора, экономиста, художника и философа. А ещё – Бенедетто дель Аббако, автор математических трактатов, по которым учились торговые клерки и юные банковские служащие. Его имя воспевал в латинских стихах гуманист Уголино Верино – настолько велик был вклад этого незаметного мастера чисел в процветание Республики.
Именно в это окружение жаждущий знаний Леонардо стал тянуться с особой силой. Ему было тесно в рамках боттеги. Хоть Верроккьо и давал ему многое, но искры науки, выхваченные на лету между эскизами и заказами, не могли утолить его бездонную жажду понимания. Леонардо чувствовал – там, за стенами мастерской, в тихих кабинетах, среди бумаг, астролябий и звездных карт, бьётся подлинное сердце знания. Там, где говорят не только о форме и цвете, но и о природе движения, строении Вселенной, загадках воды, ветра, света и времени. Там начинается подлинная наука – и к ней он, как мотылёк к свету, стремился всем своим существом.
Но и в это сияющее время над горизонтом начали клубиться первые тучи. С востока пришла весть: Константинополь пал. Турецкие корабли заперли морские пути к левантским рынкам, и флорентийцам пришлось искать иные дороги – через океан, через новые континенты, через изобретения и открытия. А значит, искусство должно было идти рука об руку с техникой, философия – с экономикой, поэзия – с чертёжной доской. Мир требовал не только красоты, но и пользы. Поэтому теперь писали трактаты не о добродетели, а о том, как усовершенствовать ткацкий станок, как увеличить урожай, как рациональнее вести хозяйство. И в этих новых задачах Леонардо чувствовал: время пришло. Он нужен – не как украшение, а как сила. Не как подмастерье, а как гений.
Главным направлением флорентийского искусства второй половины XV века был реализм – не отвлечённый, возвышенный, как в Средние века, а живой, зримый, рождённый наблюдением за природой и человеком. Искусство стало внимательным зеркалом повседневности. Оно угождало вкусам заказчиков – купцов, банкиров, патрициев, – украшая их дома и часовни, повествуя в красках о том, что было им близко: торжестве семьи, силе добродетели, о ликах святых, похожих на соседей по кварталу. Но за этой видимой простотой зреют перемены. Искусство начинает говорить о времени. В нем всё отчётливее проступают черты общественного движения, растущей ценности знания, личности, наблюдения.
Скульптура и живопись Верроккьо – самого уважаемого художника эпохи – уже не мыслились без точного расчёта, без знания перспективы и анатомии, без понимания света, веса и объёма. Искусство требовало научных оснований. От интуитивного вдохновения – к осознанному методу. И тем самым художник всё чаще переступал порог боттеги – и входил в кабинет учёного. Искусство становилось наукой.
Это соответствовало духу Флоренции. Город, насыщенный мастерскими, фабриками, красильнями и банковскими конторами, лучше других понимал цену точности. Здесь знали: без хорошей техники не будет хорошего товара. Почему бы не применить ту же логику к изящным искусствам?
В мастерских – боттегах – флорентийских художников всегда витал дух наблюдения и изобретения. Именно отсюда, из будничного интереса к совершенству, рождался подлинный исследовательский порыв. Живописцы и скульпторы, оттачивая технику, естественным образом приходили к вопросам геометрии, оптики, пропорции, структуры. Изучая натуру, они вступали в сферу математики, обращались к физике, пробовали себя в механике. Но для Леонардо всё это было лишь началом пути.
Он остро чувствовал: знаний, полученных у Верроккьо, ему недостаточно. Он стремился к большему – к основанию мира, к пониманию скрытых связей между вещами. Его тянуло к тем, кто владел ключами к закону движения, к свету и форме. Он обращался к флорентийским математикам, к астрономам, врачам, к людям науки, но при этом не спешил называть себя гуманистом.
– Да, я не гуманист, – говорил он однажды с ноткой иронии в голосе, – но, тем не менее, я принадлежу к интеллигенции, хотя многие во Фьоренце до сих пор считают художника всего лишь ремесленником. Однако хорошая ученость рождается из хорошего дарования. И если выбирать, кому отдать предпочтение – учёному без таланта или талантливому без учёности, – я скажу: хвала причине, а не следствию. Хвала дарованию.
День за днём, месяц за месяцем, имя Леонардо всё чаще звучало в разговорах флорентийцев. Город говорил о нём, как о чём-то чарующем и неизведанном. Кто-то восхищался его статью, другие – живым взглядом и речью, третьи – редким даром соединять в одном человеке красоту, разум и талант. Но всё это, казалось, мало волновало самого Леонардо. Он оставался глух к лестным толкам. Мирской шум – лишь шелест листвы за окнами его мастерской, где он продолжал в молчании оттачивать искусство. Его кисть становилась всё увереннее, его линии – точнее, его тени – живее. И всё же он чувствовал: чего-то не хватает. Без опыта – подлинного, осязаемого, пережитого – истина не обретается.
– Познание, не прошедшее через опыт, через ощущения, с которых всё начинается, – говорил он своим ученикам, – не порождает истины о подлинной природе вещей. Я не доверяю тем, кто, лишь воображая, пытается судить о мире. Воображение – прекрасно, но без опоры на реальность оно слепо, как птица без крыльев.
Под словом «опыт» Леонардо разумел многое: наблюдение за облаками и всполохами грозы, вскрытие тела и чертёж летательного аппарата, игру света на воде и скрипение древесных колец под нажимом руки. Он был одержим не только искусством – в нём горела вера в силу разума, в могущество знаний, добытых упорным трудом и сопряжённых с творчеством.
– Природа создаёт формы, – размышлял он, – но человек, вооружённый разумом, способен превзойти её. Там, где она останавливается, мы начинаем. Из дерева и камня, из света и воздуха, из звука и движения мы можем творить бесконечное множество вещей – быть творцами нового бытия.
Любопытство его не знало предела. Он жадно вбирал всё: знал названия минералов, следил за течением рек, наблюдал за рождением растений, слушал биение звёзд, ловил очертания пернатых в полёте, изучал повадки животных и движения марионеток. Он читал Оригена и Платона, беседовал с учёными-евреями и изучал Каббалу, вникал в алхимию и астрологию, не отвергая ничего, что могло хотя бы тенью приблизить его к истине. Он был верен механике и гидравлике, любил анатомию и музыку, геометрию и числа. Математика, по его словам, была единственной наукой, которая несла доказательства в самой своей сути.
А живопись? Нет, это не ремесло. Это наука – и даже более: царица всех наук.
– Живопись, – говорил он, – охватывает поверхности, цвета и формы всего, что рождено природой. Если философия проникает внутрь вещей, то живопись – их лицо, их видение. И если истина – дочь времени, то живопись – дочь природы. Она порождена ею и несёт в себе её дыхание. Через живопись говорит мир. И она, как ни одна другая наука, может быть понятна всем, в любые времена и на всех языках.
Он преклонялся перед природой – за её разнообразие, её геометрию и строгость. Но в этом же разнообразии пытался разглядеть Лик Творца. Не в прошлом он искал Бога, а в будущем – в движении звёзд, в спирали раковины, в полёте стрекозы. Он искал его в безмолвии механизмов и законах движения.
И в этом жаждущем, стремящемся разуме созревала клятва: быть первым. Первым среди художников, первым среди мыслителей. Он дал такое обещание отцу, и неуклонно держал слово.
Чтобы постичь тайны бытия, он тренировал не только руку, но и память, развивал воображение, исследовал психику человека. Он наблюдал не только лица – он ловил жест, интонацию, выражение глаз. Он хотел понять, что скрывается за мимолётной улыбкой, за сжатыми губами, за хмурым лбом – в этом он видел ключ к тайне души.
В пылу своих стремлений он почти отказался от сна. Для того чтобы обрести больше времени, он перешёл на полифазный режим: спал всего пятнадцать минут каждые четыре часа. В сумме – полтора часа в сутки. Он выкраивал минуты, словно драгоценные камни, и клал их в сокровищницу знаний. День сливался с ночью. Лампа освещала его альбом, в котором рождались наброски крыльев, людей, водоворотов и башенных часов. Он шептал себе:
– Если уж жизнь коротка, я сделаю её длиннее разумом.
В мастерской Леонардо царил строгий, почти монашеский порядок – даже за обеденным столом. Есть полагалось трижды в день, и в установленное время повар Бруно громко звонил в бронзовый колокольчик, извещая о начале трапезы. Рацион был сытным, пусть и не изысканным: густой овощной суп, иногда с нежными клецками; дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям – к супу добавлялось мясо: варёная говядина, телятина или запечённая баранина с ароматными травами. По пятницам, как велел пост, ели рыбу – чаще всего золотистую спинку копчёного тунца с тушёным нутом или цветной капустой. Хлеб подавался в изобилии, с хрустящей коркой и пышным мякишем. Запивали пищу простой водой или пикетом – легким деревенским вином, полученным из выжимок, оставшихся после основного сбраживания.
По праздникам Бруно разгуливался: на столе появлялись дичь, домашняя птица с хрустящей кожицей, свинина, фаршированная пряной морковью и каштанами. А чтобы вся эта пирамида съестного улеглась в животах, гости мастерской – ученики, ремесленники, друзья – щедро посыпали еду молотым перцем. Его сыпали столько, будто желали сжечь огнём желудка всё, что только что проглотили.
Но вот что Бруно никак не мог взять в толк – как можно жить без мяса?
– Мессере, да вы же себе вредите! – уговаривал он Леонардо в который раз, выкладывая перед ним блюдо с ломтями розовой телятины.
– Бруно! – Леонардо вскинулся, лицо его порозовело, глаза сверкнули, как при ударе огнива о кремень. – Сколько можно повторять! Я не ем мяса – с детства не ем! Запомни это раз и навсегда. Моим ученикам можешь подавать что угодно. Но для меня – ни кусочка, ни капли!
Он резко отодвинул тарелку и прошёлся по комнате, не в силах утихомирить бушующее в груди негодование. Но когда говорил – голос его становился уже не гневным, а горестным, почти пророческим:
– Как можно вкушать то, что дышит, чувствует, смотрит на тебя живыми глазами?.. Как может человек, мечтающий о свободе, держать в клетке птицу, небо для которой – единственный родной дом? Как может он убивать тех, кто делит с ним это одиночество мира?
Он замолчал, сжал губы. Потом, опустившись на скамью и выждав, пока подадут простую миску бобов, проговорил уже тише, обращаясь не к повару, а ко всем:
– Мы – ходячие кладбища… мы живём, умерщвляя других. А ведь именно в бережности к жизни – нашей и чужой – начинается настоящее великодушие.
Он ел молча, с достоинством, присуще лишь тем, кто в ладу с собственной совестью. Потом, глядя на учеников, которые втайне преклонялись перед этой внутренней чистотой, мягко заговорил – теперь уже с той доброй ироничной улыбкой, что умела разрядить любую напряжённость:
– Мечтайте о невозможном, друзья мои. Вы рождены не просто для того, чтобы копировать то, что видите, но чтобы создавать нечто такое, чего ещё не существовало. Позвольте себе свободу мечтать широко – как небо над Арно. Живите так, будто каждый день – это полотно, на котором вы – творцы.
Он поднял взгляд к окну, за которым шумели листья старой оливы. День клонился к закату. Леонардо вздохнул. Его сердце было полно – и света, и тишины, и мысли, что и в этой земной трапезе есть место для небесного смысла.
Глава 7
Сегодня Флоренция блистала. Город с восхода погрузился в сияющий, многоголосый водоворот: праздновали День святого Иоанна Крестителя – самого почитаемого покровителя Республики, и никакое другое торжество не могло сравниться с этим по пышности, размаху и внутреннему жару. От утреннего неба над Арно до пыльных булыжников Виа дель Кальцо – всё дышало нетерпеливым ожиданием и праздничной гордостью.
Главным зрелищем была великая процессия – гордость гражданской и религиозной Флоренции. Впереди – трубачи и флейтисты в ярких ливреях, а за ними – карнавальные шуты, вышагивающие в диковинных колпаках и с бубенцами, искрящимися на солнце. Они создавали пролог шествия, за которым, в строгом и величавом ритме, следовали приоры, капитан народа, консулы цехов – каждый с высокой свечой, воск которой мерцал на жаре, будто бы сам огонь благоговел перед этим парадом человеческого достоинства.
Знамена развевались, как паруса свободы: над толпой реяли гербы ремесел, братств и приходов. Лошади – украшенные бархатными попонами, в золоченых уздечках, – гарцевали под звон всех колоколов города, и каждый шаг процессии сопровождался рукоплесканиями, восклицаниями, шепотом восхищения. Из окон, затканных пурпурными и лазурными коврами, свешивались лица горожан – женщины с венками в волосах, дети, свесив ноги и хлопая в ладоши, старики с благоговением крестились. Купцы и мастера стояли перед лавками, выложив на прилавки лучшее, словно это был судный день их ремесленного искусства.
На главной площади, где замирал ветер и замедлялось само время, возвышался балдахин – тканое небо, натянутое на высоте двенадцати метров, сверкающее золотом и синим шелком, как царское одеяние святого. Под ним, в Баптистерии Иоанна, начиналась торжественная месса – хор из лучших певчих Флоренции сливался в небесный гимн, словно ангелы спустились петь вместе с людьми.
А после – разгорячённые толпы бросались в другую стихию: скачки. «Бородатые» лошади – благородные, мощные животные с развевающейся гривой – мчались сквозь узкие улочки, соревнуясь за драгоценный приз: темно-красный штандарт с лилией в серебре и крестом на белом поле. В повозке, что завершала бег, восседали трубачи коммуны и изысканные дамы, чья улыбка была для победителя не меньшей наградой, чем сам штандарт.
Однако Леонардо не участвовал в этом всеобщем ликовании. За плотно прикрытыми ставнями его мастерской царила сосредоточенная тишина. Он работал. Перьевой карандаш шуршал по бумаге, кисть смешивала цвета на палитре, механический чертёж медленно рождался на пюпитре.
– Маэстро, – с удивлением спросил один из учеников, заглянув в тень мастерской, – отчего вы не празднуете? Вся Фьоренца поёт и пляшет, славя святого Иоанна!
Леонардо оторвал взгляд от листа, на миг задержался в тишине, а затем сдержанно произнёс, в голосе его прозвучала ирония и печаль:
– Иоанн Креститель, пророк пустыни, человек в меховой одежде и саранчой в пище, вряд ли мог бы обрадоваться такому расточительству, этим золочёным плащам, трубам, крикам и победным лошадям. Он был не триумфатор, а смиренный предтеча Мессии. Мне ближе то празднование, что некогда совершалось в честь солнцестояния, языческое и земное, связанное с Матушкой Природой, – он слегка улыбнулся. – Но я не вправе запрещать вам веселиться, если душа того требует. Мир вам. И радость – если она вам по сердцу.
Он вернулся к своему чертежу. А за окном всё ещё пел город – Флоренция, возлюбленная светом, шумом и ликующей многоголосицей. Но в мастерской рождалась другая музыка – тишина, прорезанная вдохновением.
Когда на город опускалась тишина, тяжёлая и густая, как чернильный мрак, и праздничный гомон окончательно угасал в переулках, а переполненные вином тела флорентийцев начинали дружно похрапывать в постелях, Леонардо облачался в чёрный плащ с глубоким капюшоном, затеняющим лицо, и, укрывшись тенью, покидал стены своей мастерской. Он двигался быстро, почти бесшумно, будто призрак, растворяющийся в изгибах ночных улиц.
В одном из карманов его плаща лежал свёрток – плотный, тяжёлый, как обострённая мысль, не отпускающая разум. В этом свёртке были аккуратно завернуты инструменты, пахнущие железом, воском и ладаном.
Его путь вёл к госпиталю Санта Мария Нуова – серому, молчаливому исполину, что высился на перекрёстке улиц, неподалёку от мастерской. Скрипнула задняя калитка госпиталя, и в проёме показалась сутулая фигура привратника – дрожащая свеча в руке выхватывала из тьмы его измятое лицо с багровым носом и мутными глазами, едва державшимися открытыми после всей этой святой пьянки.
– Доброй ночи вам, мессер Леонардо, – пробормотал он с хрипотцой, моргая и косясь по сторонам, словно ожидал, что сама Смерть притаилась за ближайшей колонной.
– Это тебе, как договаривались, – тихо произнёс Леонардо, протягивая несколько флоринов. – За молчание…
Сторож привычно взвесил одну монету на пальцах, цокнул ею о зуб, обнажив при этом редкие гнилые клыки, похожие на обломки древних руин, и тут же спрятал золото за пазуху с такой сноровкой, будто прятал вовсе не деньги, а отпущение грехов.
– Опять до самого рассвета, синьор? – сипло спросил он, бросая быстрый взгляд по сторонам и прикрывая задыхающийся голос воротником.
– Как всегда, – коротко ответил Леонардо, не замедлив шага.
Он вошёл внутрь, и за ним снова захлопнулась дверь. Тишина обволокла его, как саван. Полы госпиталя скрипели под ногами, пахло уксусом, травами, кровью и древним воском. В этом месте витал запах смерти – не пугающий, а необходимый, как запах земли для дерева.
Он знал дорогу. Всё здесь было ему знакомо: длинные коридоры, свет лампад в нишах, тихий стон за дверьми. Он проходил мимо, не отвлекаясь, не оборачиваясь. Вскоре он достиг нужной комнаты – без окон, с каменным столом посередине. В углу – таз с водой, пучок льняных полотенец и резные ящики с инструментами. В тени лежало тело – покрытое простынёй, без имени и истории, словно сама Природа отдала ему этот сосуд на изучение.
Леонардо подошёл и, не торопясь, развернул свёрток, выложил инструменты в строгом порядке, как оружие перед битвой. Взял свечу, наклонился над телом.
– Прости, – шепнул он, – я пришёл за истиной.
И ночь смежила с ним уста…
Накануне праздника, в самый разгар летнего дня, когда город готовился к пышному торжеству в честь Иоанна Крестителя, Флоренция застыла в мрачном зрелище – казни. Несмотря на грядущее ликование, утро было хмурым, и небо, затянутое пепельными облаками, словно само отвернулось от того, что должно было произойти.
Воров в ту пору водилось множество, и с каждым годом они становились всё дерзостнее. Теснота улиц, мешки на поясах, набитые мелочью, и отвлечённость горожан на базарах – всё играло им на руку. Законы же были безжалостны: от выкалывания глаза каленым железом – до верёвки и виселицы. Путь из тюрьмы Стинке, с её гнилыми стенами и крысами, к эшафоту был короток, но неизменно ужасен.
Казнимого вывели с первыми лучами солнца. Он шёл закованный в цепи, спотыкаясь, худой, как сама смерть, с испуганным лицом и полураскрытым ртом, в котором давно не было зубов. Путь от улицы Гибеллина до окраины был долгим, и вдоль него собирались толпы – мужчины, женщины, дети. Особенно дети. Они забирались на повозки, залезали на плечи отцов, чтобы получше разглядеть, как палач будет делать своё дело.
Толпа гудела, как улей, и в этом гуле слышались хохот, улюлюканье, даже ставки: «Задёргается ли? Сколько шагов пройдёт в воздухе?» Иногда казнь превращалась в ярмарку.
– Да он, глянь, даже не понял, что всё, – пробормотал кто-то рядом.
Наспех сколоченная виселица казалась неумолимее любого собора. Вор теребил петлю и моргал, как слепой, ловящий последние отблески солнца. Лицо его было по-детски испуганным. Он порылся под рубахой, вытащил медный крестик на потемневшей верёвке, торопливо поцеловал его, перекрестился. Палач подмигнул народу и, ухмыльнувшись, крикнул:
– А ну-ка, станцуй нам гальярду, сорви-голова! Повесели честной народ!
Смех пронёсся по рядам. И вор… действительно «заплясал». Судорожно, страшно. Его тело затрепетало, как кукла в руках злого ребёнка. Ноги вытягивались, затем скручивались, и лицо стало багровым, затем – тёмно-синим.
Леонардо стоял неподалёку. С поднятой бровью и напряжённым взглядом он быстро, но точно выводил линии в своём альбоме – профиль, изгиб шеи, положение кистей, складки на одежде, взгляд, обращённый в пустоту.
– Леонардо… что ты делаешь? – в голосе Лоренцо ди Креди звучали потрясение и недоверие.
Маэстро не сразу ответил. Закончив штрих, он повернулся и улыбнулся, но взгляд его был отстранённым.
– Я рисую. Я изучаю. Я наблюдаю, – тихо произнёс он. – Ты видишь перед собой смерть, а я – выражение всей человеческой драмы. Это тело – уже не человек. Это форма, обнажённая от души, – и всё же наполненная её последним эхом.
Лоренцо стоял, будто прибитый к мостовой. Его друг, тот самый, что с такой любовью рисовал лик ангела, сейчас, казалось, был холоднее самого палача.
– Но… ты ведь тоже христианин, Леонардо, – прошептал он, перекрестившись.
Леонардо положил руку на его плечо:
– А разве эта казнь не сотворена людьми? Художник – зеркало природы. И природа человеческая не только свет, но и тьма. Да, этот вор был, возможно, грешником, но в его лице, застывшем в ужасе, я увидел не только его самого. Я увидел тебя. Себя. Палача. Толпу. Страх. Гнев. Месть. Бессилие. Всё сразу.
Он замолчал, глядя на виселицу. Толпа уже начала расходиться, кто-то купил пряник, кто-то обсасывал косточку, кто-то рассказывал детям, как в другой раз палач промахнулся. Жизнь возвращалась в привычное русло.
– Мы с тобой, Лоренцо, можем писать ангелов, но до тех пор, пока не поймём, как выглядит умирающий человек, наш ангел будет бездушной куклой. Я не рисую смерть. Я рисую – правду.
…И вот сейчас, войдя в анатомический театр – или, как его называли простолюдины, покойницкую – госпиталя Санта Мария Нуова, Леонардо быстрым шагом подошёл к лежащему на каменном столе телу повешенного накануне вора. В помещении царила неподвижная тьма, разбавленная лишь масляным светом одинокой лампы, и удушливый, тягучий запах гнили ударил в лицо. Он повязал платок вокруг рта и носа, привычным жестом развернул принесённый свёрток: остро отточенные ножи, пилы, стальные иглы, нитки – инструменты, которые он сам разрабатывал, изобретал, совершенствовал. Тихо, как заклинатель, он заговорил с мертвецом, будто прося у него прощения за то, что сейчас произойдёт.
Он всё чаще приходил сюда – в это царство мертвых, где среди тишины и теней рождалась великая наука о живом. Здесь, в ночной тишине, он начал писать свою книгу – Trattato di Anatomia, анатомический атлас. Он знал: каждая минута его работы здесь – вызов догмам. Католическая церковь веками запрещала любое проникновение в тайны строения тела. Булла папы Бонифация VIII категорически осуждала даже касание костей, не говоря уж о полном вскрытии. Но Леонардо был не богослов, а художник, инженер, наблюдатель природы, и верил: «не может быть грехом то, что способствует знанию».
Разрез за разрезом, слой за слоем – он открывал тайны сухожилий, связок, суставов. Он хотел видеть, как изгибается локоть, как напрягается бедро, как закручивается мускул. Как рождается движение. Как устроен человек – не внешний облик, а подлинная его архитектура. Он заново конструировал тело, как строил бы замок: с точными пропорциями, системами уравновешивания, инженерной логикой.
Он понимал: анатомия, которую преподают в университетах, – ложь, построенная на вторичных источниках, на переписанных текстах Галена и Авиценны. В Падуе, Болонье, Ферраре профессор читал с кафедры – читал с пафосом, с ударениями на латинских словах, – но ни разу не прикасался к ножу. Вскрытие производил цирюльник, молча, как слуга. И каждый трактат, каждая лекция напоминала игру в глухой телефон – искажение истины, мнимое знание. Леонардо же стремился к первоисточнику – к телу.









































