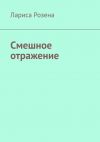Текст книги "Такая вот жизнь, братец"

Автор книги: Валериан Пападаки
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
А вечером мы с Питером и Брайаном пошли на концерт классической музыки в Риджент Колледж, где выступал польский квартет. Играли Гайдна, Шостаковича, Бетховена («Разумовский» квартет), играли великолепно. Народу было мало. Я сидел рядом с виолончелистом из знаменитого квартета «Амадеус», мы даже с ним перебросились парой фраз. А вечером – опять поздний ужин в компании Мартина и Питера.
На следующий день мы с Питером отправились в Музей Виктории и Альберта – V&A – на выставку рисунков итальянского художника Джованни Барбьери (1591—1666) по прозвищу Гверчино (Косоглазый). Рисунки, надо сказать, были действительно блестящие: настоящие шедевры. Питер долго простаивал перед ними, всматривался в блеклые желтоватые линии сепии (?), словно впитывал их в себя. «Что ни говори, а в области рисунка итальянцы остаются непревзойдёнными мастерами», – конфиденциально сообщил он мне. Мне тоже понравилось. Было в них нечто большее, нежели виртуозное отображение натуры: это было чисто ренессансное упоение жизнью, это был восторг художника, открывшего для себя красоту человеческого тела.
Потом я ещё раз побывал в V&A, но теперь уже один. Пошёл просто так – от нечего делать. Музей был рядом, через парк, да и вход бесплатный. V&A – скопище всего на свете. Это что-то вроде нашей Кунсткамеры в Питере, но конечно, гораздо богаче, разнообразнее. Все же, Англия была (когда-то) крупнейшей колониальной империей, и в столицу свозилось всё самое интересное и редкое со всех уголков мира. Здесь и скульптура, и живопись, и коллекции прикладного искусства разных эпох, и много чего другого. Всего не опишешь. В фойе стоит знаменитая скульптурная композиция итальянского скульптора Антонио Кановы «Три Грации». Их выставили на всеобщее обозрение, как «национальную гордость», которую собирается умыкнуть из Англии в США известный американский миллиардер Пол Гетти. На стенде рядом – газетные вырезки, иллюстрирующие кампанию в защиту этого национального достояния. Надо было собрать немалую сумму – 7.6 миллиона фунтов стерлингов, чтобы отстоять для музея этот шедевр. (У нас, в Эрмитаже, если мне не изменяет память, есть целый зал скульптур Кановы. Или это копии? Среди них и его жемчужина – «Три Грации». Всё давно национализировано, и никому даже в голову не придёт спросить кому они когда-то принадлежали). Походил по залам музея. Как и везде, здесь у них полный порядок: охранники, ковролин на полу, освещение под потолком. Коллекции самые разнообразные: китайский фарфор, индийская культовая скульптура, исламские орнаменты. Коллекция костюма за три века, коллекция старинных инструментов. И обо всём можно прочесть в обстоятельных аннотациях. Этот музей, как и другие в Лондоне, – прекрасная наглядная школа по истории человечества. Не нужно университеты кончать, просто ходи по залам, смотри и читай. Я поднялся на шестой этаж, чтобы спускаться оттуда, и там, неожиданно, обнаружил целый зал полотен Констебля (тоже, как и всё здесь, из личной коллекции королевы Виктории и наследного принца Альберта). Картины поразили меня своей свежестью, романтичностью изображаемой природы и красочностью. Краски просто завораживают. Можно сидеть и смотреть часами (некоторые так и делают). Потом я спустился на лифте пару этажей, вышел из лифта, стал бродить по залам и неожиданно наткнулся на жуткую фотовыставку. Фотограф со знакомой фамилией Николас Никсон выставил всем на обозрение черно-белые фото умирающих стариков и старух, а также больных СПИДом, причём на всех стадиях болезни. Вначале в объектив смотрят вполне нормальные люди, потом они худеют, «тают на глазах». В их взгляде появляется мучительная напряжённость и даже какой-то вызов нам, (пока ещё) здоровым людям. На фото, крупным планом, худые, иссохшие руки, ввалившиеся глаза, под конец это просто ходячие (скорее, лежачие) скелеты, а в их глазах все тот же вызов и гордая отчуждённость. Они словно говорят: «мы – такие, но нам, в отличие от вас, скрывать нечего». Так, наверно, умирали Фредди Меркьюри и Руди Нуриев. Я вдруг понял, каким незаметным бывает переход от «здорового» существования к болезни и смерти. Мы все ходим по краю, не осознавая этого. «Блаженство в неведении». И вот что важно: как только это осознание конечности существования «входит в душу», жизнь человека перестаёт быть «безмятежной». Он живёт, как бы, по инерции. И всё уже не так важно. Вот и я: радуюсь, понимая, как мне повезло с этой поездкой, какая это удача, а на самом деле, так ли это? Почему-то мысли перескакивают на мифического японца Бонки, в комнату которого меня поселили. От чего он умер? Он ведь ещё молодым был. Спросить напрямую я не решился, а так – все намёки какие-то. Все обходят этот вопрос стороной. Его комната забита всякой всячиной. В шкафу его рубашки, бельё, костюмы, на полках книги по искусству, истории, беллетристика. Много журналов, есть и порнография. Я такое вижу в первый раз. Но, … не моё это дело. А посему, не будем уточнять.
Итак, наступил день поездки в Оксфорд. Мы выехали рано утром. Было солнечно и по-летнему тепло (хотя на дворе ещё апрель). Меня поражает здешняя погода: за всё время ни разу не было дождя. Как-то не вяжется с представлениями о «Туманном Альбионе». Ехать было одно удовольствие. Мартин сидел на первом сидении рядом с Филиппом, который вёл машину, а я – один на заднем. Филипп вёл машину уверенно и спокойно. Он, вообще, парень спокойный и «надёжный». Немногословный, моложавый, красивый внешне, он всем своим видом внушает уверенность в себе. Всегда любезен, учтив, но без «амикошонства». Говорит с приятным французским акцентом, слегка грассирует. Он уже давно с Мартином. Может, даже, лет десять. Живёт в комнатушке под чердаком дома, а сейчас у него гостит его будущая жена, и она уже «на сносях».
Выехав по красивой развязке на прямую дорогу, мы погнали в сторону Оксфорда. Дороги здесь, надо сказать, превосходные: ухоженные, чистые, удобные для вождения. Масса дорожных знаков, там, где надо, устроены съезды для отдыха водителей. Все продумано до мелочей. Гаишников не видно, но водители ведут себя дисциплинированно: обгоняют только по правилам (как сказал мне Филипп). Чувствуется, что здесь люди ценят комфорт, который несёт с собой цивилизация.
И вот, мы в Оксфорде. На въезде в городок пересекаем крошечную речушку, спрятавшуюся в тенистых, заросших ивняком берегах, под названием Черуэл (Cherwell). Прямо по курсу возвышается мощная четырёхгранная башня с турами на крыше (совсем, как в Кентерберийском Соборе). Это башня колледжа Magdalen (произносится Модлен). Это один из главных колледжей Оксфорда, мы туда зайдём, поясняет Мартин. А пока едем в центр: Мартину зачем-то понадобилось купить фотоаппарат. Идём в ближайший магазин фототоваров, которых здесь пруд пруди – все для нашего брата-туриста, – и Мартин выбирает симпатичную «мыльницу» известной японской фирмы «Минолта», объяснив мне, что ему надо сделать снимки памятных мест. Вооружённый камерой, он направляется в студенческий оксфордский театр, который находится буквально в двух шагах от магазина (я подозреваю, что он всё заранее рассчитал), по ходу дела рассказывая нам с Филиппом про дела своей молодости. О том, как он ещё до войны начал учёбу здесь в Оксфорде в одном из колледжей – Exeter College – под руководством профессора Невила Когила, который и привил ему любовь к Чосеру. Кстати, это один из самых старых колледжей в Оксфорде: он был открыт в XIV веке, что роднит его с автором «Кентерберийских Рассказов».
Внешне театр ничем не примечателен. Это что-то вроде нашего дома культуры. Рядом вполне богемного вида кафешка с длинными крашеными столами и огромными постерами на стенах: «приют оксфордского студента». Как это все мне знакомо по нашему филфаку! Заходим в фойе театра. Навстречу нам выходит кто-то из администрации, а может быть и сам директор или режиссёр театра. Мартин заводит с ним оживлённую беседу. Потом мы идём в зал. Мартин начинает объяснять директору, как зал выглядел до войны: сцена была короче с оркестровой ямой (сейчас её нет), первых рядов тогда не было и т.д., и т. п. В общем, деловой разговор, и оба остаются довольны друг другом.
Потом мы идём по главной (?) улице Оксфорда, Broad street, и Мартин рассказывает, как он встретился здесь со знаменитым английским поэтом Диланом Томасом, который тогда временно проживал где-то на задворках Magdalene College. Мартин хочет сделать снимки сарая, где поэт обитал с женой. Именно по его рекомендации Мартина приняли на работу в Би-Би-Си, где к нему пришёл первый успех на театральном поприще.
Этот Дилан Томас, судя по всему, был колоритной фигурой. Здесь его хорошо знали во всех местных пивных, но особенно в забегаловке под названием The Turf. Он был родом из Южного Уэльса и как многие ребята оттуда, обладал буйным нравом. И писал, судя по отзывам, превосходные стихи. Вот, например, «Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя». … Нет, это из другой оперы. … Но Дилан мог написать что-то подобное:
«Когда я был мал и свободен под яблоневыми кронами,
И дом напевал мне что-то, и я был счастлив,
Как луга счастливы свежей травой,
Как ночь над долиной, усыпанная звёздами зелёными,
И Время меня окликало и позволяло
Быть зеницей ока его – то есть самим собой,
Я был принцем яблочных городков,
Знакомцем всех телег,
И когда-то, ещё до времени, видал, как деревья
Плывут вместе с ромашками и ячменём
По свету, сочащемуся из листопада, вдоль жёлтых рек». (Перевод Василия Бетаки)
Его стихи трудны для понимания и в оригинале. Или, может, их и не надо пытаться «понять», не надо «раскладывать по полочкам», пытаться «перевести» их на наш, обыденный, язык. Их надо просто слушать, вслушиваться в их звучание, и воспринимать, как музыку. … Я не знаю.
Заходим в Модлен Колледж. После короткого объяснения нас пропускают внутрь, и мы проходим под аркой в длинный коридор, своего рода галерею, опоясавшую внутренний двор с его непременным аккуратно подстриженным газоном (cloister). Мы идём по отшлифованным ногами многих поколений студентов каменным плитам под сводами бесконечной галереи. На некоторых можно прочесть стёртые временем имена. Это что, могилы под ногами, спрашиваю я. Нет, просто так увековечили память особо отличившихся преподавателей, говорит Мартин. «И мы по ним ходим», заключаю я про себя. Мы проходим под очередной аркой в другую галерею, и снова длинный корпус учебных помещений из кремового песчаника с бойницами на крыше, башенками и наглухо задраенными окнами. Вся эта псевдоготика выглядит довольно уныло. Смесь рыцарского замка и барака. Одна из стен наполовину заросла буйными побегами пурпурного плюща, как будто природе надоело лицезреть всю эту мрачную симметрию архитектуры. Идём дальше, фотографируемся на фоне, увитых плюющем стен колледжа. Наконец, в саду у самой речушки вижу: стоит сарай. «Вот здесь он жил с женой и ребёнком», торжественно сообщает мне Мартин. «И конечно, писал. Кстати, в этом колледже также жил и работал знаменитый друг и наставник Невила Когила Клайв С. Льюис. Все они встречались под его сводами, обсуждали «вечные вопросы». Всё это, конечно, очень интересно, но пора бы и что-нибудь перекусить, думаю я, но как намекнуть об этом Мартину, не обидев его? На помощь приходит Филипп, который, как все французы, не любит пропускать «обеденный перерыв». И мы идём на розыски кафе.
Потом мы с Мартином отправились в знаменитую Бодлеанскую Библиотеку, где работает его давнишний приятель Рой Фиери. Мартину понадобилось взглянуть на список книг, которые в своё время брал там Дилан Томас. Оказалось, что Рой относится с большой симпатией к нам, советским людям. Мы разговорились (говорил, в основном, он) и в результате, пока Мартин копался в книгах, мне удалось сбыть ему пару палехских брошек за пять фунтов (надо сказать, они так и стоили в Питере). Рой посоветовал мне в следующий раз привезти ему из Союза что-нибудь посолиднее, – как будто мне ничего не стоит приехать к ним в следующий раз. Потом прошли в Камеру Радклифа – просторное круглое здание с высоким куполом. Мы поднялись наверх, и вышли на балкон, устроенный в основании купола, для «обзора местности». Глазам открылось удивительное зрелище: горбатые крыши зданий, шпили, трубы, зубцы и башенки, стены из закопчённого бурого песчаника, тёмные проёмы стрельчатых окон, блестящая на солнце брусчатка улиц, и людишки, снующие из одного конца улицы в другой. Я пожалел, что у меня нет с собой фотоаппарата.
К его родному колледжу – Exeter – мы добрались, когда уже смеркалось. Стояла удивительная тишина, какая бывает к концу дня в деревне, когда коровы уже в стойлах и все разошлись по домам. Нет, здесь, пожалуй, было что-то другое: это была тишина опустевшего муравейника. Золотистый свет зажёгшихся фонарей отражался на мокрой брусчатке, пустота улиц усиливалась черными глазницами окон опустевших зданий. Мы вышли из машины и направились к длинному корпусу колледжа, как бы отгородившему его от внешнего мира. Посреди стены была дверь в караульное помещение. «Здесь нас обычно встречал дежурный, когда мы возвращались после ночных гулянок», – тихо поведал мне Мартин. Он позвонил, дверь открыл привратник, они перекинулись с Мартином парой фраз. «Он меня узнал, хотя мы не виделись уже много лет», – сказал Мартин, пропуская меня вперёд. Филипп с нами не пошёл, вернувшись к машине. Привратник, между тем, позвонил кому-то, к нам вышел дежурный преподаватель, и мы с ним направились по тёмной галерее в главное здание. Войдя в него, мы оказались в просторной красивой часовне с длинными рядами скамей и витражами высоких окон. У самого входа возвышались два темных бюста. «Вот мой учитель», – с гордостью сообщил мне Мартин. «Невил Когил» – прочёл я под бюстом. А другой»? – спросил я Мартина. «Это – писатель Джон Р. Р. Толкин, создатель хоббитов. Они были с Невилом друзья». «Кого-кого»? «Хоббитов», – повторил Мартин, – «ты что, не знаешь? Человеко-кроликов (homo-rabbits). Не читал»? «Нет, но зато много слышал. У нас сейчас мода на Толкина». «Жаль, что не на Чосера», – заметил Мартин. – «Но я думаю, с твоей помощью мы изменим это недоразумение». «Будем надеяться», – подхватил я, хотя внутри никаких надежд не испытывал. Мы вышли из часовни и двинулись вглубь территории колледжа. Мартин обменялся парой фраз с дежурным преподавателем, и тот нас покинул, а мы пошли дальше по каменным плитам дорожек. Пройдя мимо ярко освещённых входов в студенческие общежития, мы оказались в саду. Здесь было темно и сыро. Мартин уверенно шёл вперёд. В конце сада высился холм, на который мы взобрались по замшелым ступеням. Наверху, на одном уровне с крышей корпуса, была площадка со скамьями, на одну из которых мы уселись.
– Вот здесь я часто сиживал по вечерам, – сказал Мартин с грустью в голосе. – Здесь так тихо и покойно. В сумерках можно почувствовать дыхание времени.
Я не очень-то понял его слова, но расспрашивать не стал. Мы сидели в полной тишине. В золотистом свете фонарей площадь, окружённая темными старинными зданиями, казалась сценой из пьесы Шекспира. Тускло поблескивала брусчатка мостовой, огни фонарей отражались на рулях велосипедов, поставленных в ряд в тени стен, на ручках массивных дверей, стёклах высоких окон.
– Днём здесь такая суета, – заметил Мартин, – студенты спешат на лекции, туристы высыпают из автобусов, прихожане тянутся на полуденную мессу, торговые люди завозят товары. А сейчас, словно всё вымерло. … И изо всех углов выползают призраки, тени умерших предков, – шутливо добавил он. А я сидел, заворожённый тишиной и покоем этого вечера, и пытался представить себе Мартина в студенческие годы: живого, крепкого, с пышной копной белокурых волос, стремительной походкой спешащего на встречу со своим учителем. Или сидящего в своей общежитейской комнатушке за столом, уставленным книгами, среди которых особое место занимал Джеффри Чосер. … «Наверно у него с Когилом сложились неплохие отношения, если тот впоследствии передал ему свои права на перевод и драматизацию „Кентерберийских Рассказов“. Может быть, он даже был его любимцем».
– А у твоего учителя были дети?
– Да, конечно, дочка. Не знаю только, жива ли она теперь. Он родилась ещё до войны, в 1928 году.
– Ты ее знал?
– А как же. Даже сватался. Но она мне отказала.
– Почему?
– Сказала, что актёры – ненадёжные мужья… А знаешь, именно здесь мы с Когилом сочинили слова к гимну любви в нашем мюзикле, …конечно, сочинял, в основном, он, а я был скорее заинтересованным слушателем, чем участником процесса. Вот, послушай, – и он начал читать отрывок своим негромким, хрипловатым голосом:
How quick the devil is to rise
And lead us by the bridle;
And seven are the ways he tries
To hold us back from Paradise,
For he is never idle.
He leads us up the bill of Pride
To the volcano Wrath
And down again the other side
To Envy’s den where he is guide,
And chooses out the path.
Thence to the pasture lands of Greed,
Of Idleness and Lust
And Love of Money, yes indeed
He seems to know of ev’ry need
In children of the dust.
But our good angel is at hand
I hear his wings above,
To lead us to a better land
And to the joy that God has planned
For all who follow Love
For Amor vincit omnia
Whatever may befall;
The seven sins will have their day
But they will all be done away
And Love will conquer all!
Вот его примерный перевод:
«Как быстр Нечистый на подъем,
Что б нас держать в узде
Он семь приманок кинет нам,
Что б нам забыть дорогу в Рай:
Ведь, с нами Он везде.
С Ним влезем на Гордыни холм
И станем на краю
Вулкана Гнева, а потом
В клоаку Зависти падём,
Там даст Он нам приют
Оттуда путь лежит в луга,
Где правят Жадность, Лень
И Похоть и Любовь к Деньгам,
Он ищет в нас любую страсть,
Ночь превращает в день.
Но добрый ангел наш со мной
Он свыше шлёт привет.
Он приведёт нас в лучший край,
Откроет нам ворота в Рай,
Где правит Божий свет.
Все, кто идут путём Любви
Сквозь тернии и кровь,
Отбросят семь больших грехов
И обретут невинность вновь:
Все победит Любовь!
…Я обнял его за плечи, и мы просидели в полном молчании ещё минут десять. Домой мы вернулись уже за полночь.
Наконец наступил он, долгожданный день расставания. Наша «пьеса» подошла к концу. Мне временами казалось, что мы устали друг от друга, что мой невнятный английский его утомляет. Что ни говори, а три недели – слишком долгий срок для общения после тридцати лет разлуки. Повидались, посмотрели друг на друга, пора и честь знать. Да и я, тоже, был так переполнен впечатлениями, что думал только о том, как бы мне не «расплескать» их по дороге домой, довести целыми до дому. Главное, чему я был несказанно рад, это то, что все обошлось без «эксцессов», что я не «испортил им обедни». Они мной остались довольны. Ну, и надеются, что я окажусь им полезным.
Сегодня – день покупок. Много чего купил по мелочи, много чего и подарили. Приехал с сумкой, а уезжаю с двумя баулами. Все же, я – мелкая я рыбёшка (a small fry), как здесь говорят. Приехал к человеку, а все заботы только о том, как бы утянуть домой побольше. И где-то подспудно, чувство чего-то упущенного. Будто я упустил здесь что-то главное. Ну, да ладно: упустил, так упустил. Теперь, домой, домой, в свою, родную грязь.
Накануне, мы с Мартином гуляли по «околотку». По дороге зашли в местный M&S, где он сделал мне подарок: купил брюки, и юбку, и кофточку «for Natasha». Потом, на обратном пути, Мартину захотелось показать мне музей какого-то поэта, которого он знал лично, и он стал искать его дом, который оказался поблизости. Вход в музей был платный, но Мартина это не смутило. С присущей ему деликатностью и изысканностью произношения он перебросился парой фраз со смотрителем, заплатив за вход десять фунтов. Мы прошли внутрь здания, интерьер которого был в мавританском стиле. В самом центре дома устроен дворик с мозаичным полом и красивым фонтаном посредине. Мартин пояснил мне, что поэт долгое время жил на востоке, хорошо знал восточную поэзию. После уличной духоты и автомобильной какофонии (здесь гудки не запрещены), искусственная прохлада и журчание струй фонтана подействовали на меня успокаивающе. Я в пол-уха его слушал его рассказ о поэте (не то Лоутоне, не то Лоусоне), размышляя, как же, все-таки, здорово устраиваются люди здесь, на Западе: поэт, а жил в самом центре Лондона, и в шикарном доме, рядом с прекрасным садом Кенсингтон Гарденс. Потом, на пути домой, мы остановились у маленькой обувной лавки, владелец которой был давним знакомым Мартина. Они разговорились, Мартин представил ему меня, тот вежливо поздоровался, заметив, что теперь, можно часто увидеть русских на улице, не то, что раньше. «Да», со смехом согласился Мартин, «то, что раньше покупали богатые арабы, теперь переходит к русским. Но Валериан – всего лишь университетский преподаватель (это, правда, не произвело на его приятеля должного впечатления), и поэтому мы довольствуемся вещами второсортными». Продавец заметил, что у него есть несколько очень пристойных ношеных пар обуви. Мартин попросил показать. Мы выбрали одну пару довольно кондовых, по-моему, туфель, которые Мартин предложил мне померить, что я и сделал, но потом вежливо отказался, сославшись на то, что они мне жмут. Мартин примерил сам, и решил их взять. Туфли стоили, как мне показалось, довольно дорого, но Мартин их взял, потому что, как утверждал продавец, они настоящие английские и им сносу не будет, и мы отправились дальше по направлению к дому.
А сегодня утром Мартин позвал меня к себе в комнату. Я зашёл, смотрю: он стоит посреди комнаты, прямо у кучи грязных рубашек, в руке у него пиджак, и он на него задумчиво смотрит. «Вот, говорит, сшил для одного нашего актёра, а тот вырос!» «Ты имеешь в виду, как актёр?» пытаюсь острить я, а Мартин, довольный шуткой, смеётся. «Нет, говорит, просто разъелся». «На ваших харчах», хотел я подметить, но сдержался, да и слов таких я не знаю.
«Померяй,» говорит, «думаю, тебе подойдёт. Ткань отличная, итальянская». А сам ходит в старом, заляпанным едой пиджаке, говорю я себе, но… беру. Уж, больно костюм хорош: синий в мелкую полоску, материал на ощупь и впрямь превосходный, мягкий и тёплый. Ну, я померил, а он, надо же, в самый раз. Как будто, на меня шили!
«Да, говорит, и туфли возьми, они мне жмут». Я и туфли взял. Те, что он вчера, как бы, для себя купил. И до сих пор их ношу. Туфли – вечные: ничего с ними не делается!
Потом мы посидели с ним в столовой, выпили вина «на посошок» (я даже захмелел чуток), Мартин подарил мне машинописную вёрстку своего мюзикла с его пометками, объяснив напоследок, как ей пользоваться, и мы поднялись из-за стола. Питер вывел машину из гаража, мы погрузили в неё мои баулы и обнялись на прощание. Мартин долго смотрел мне в глаза, потом молча повернулся и пошёл к калитке. Я взгромоздился рядом с баулами на заднее сидение, и Питер нажал на газ. Я повернулся и увидел, что Мартин стоит у калитки и машет мне рукой. Вид у него был усталый.
В аэропорту Питеру пришлось в очередной раз раскошелиться: оказалось, что у меня перебор с грузом багажа. Надо было доплатить за три лишних кило весу. Это стоило ему 16 фунтов, которых, конечно же, у меня не было, что он и сделал без лишних слов. Потрясающий, все-таки, человек этот Питер Натан. Или все англичане такие? Я слышал, что эти люди, если кого полюбят, во всём идут ему навстречу. Если это так, то мне крупно повезло.
И вот, наконец, я в самолёте, нашем, советском, «Иле». Таможню прошёл легко, в мои баулы даже не заглядывали, только спросили, что везу. Узнав, что в основном книги, не стали ничего «досматривать». Просто махнули рукой, как бы говоря: «иди, бедолага». Салон «экономкласса» забит до отказа, в основном, нашими, советскими туристами. У меня за спиной слышится приглушенный русский говорок: двое наших ребят обсуждают свои покупки в «дьюти-фри». Насколько приятнее, всё-таки, звучит наша речь после чужого, не доходящего до души наречия. …Стюардессы с будничными выражениями лиц снуют туда-сюда по проходу, поглядывая то направо, то налево: «будто по головам нас считают».
Вот и всё, говорю я себе. И как будто и не было этих трёх недель, таких суматошных, волнующих, а подчас, и тоскливых. Смог бы ты здесь остаться навсегда? Ответ формулируется сам собой: «вряд ли». В памяти всплывает брезгливое выражение лица Лены М., приехавшей из Штатов с визитом в родной Питер после десятилетней разлуки. Как же ей было всё противно! И это после десяти лет борьбы за выживание в центре «международной помойки», как она обозвала Нью-Йорк, и борьбы с подступающим к горлу раком… Помню, как она сказала тогда: «Здесь (т.е. в Союзе) я бы уже давно была на том свете». … Интересно, как она сейчас там? Но это – уже другая история. Когда-нибудь расскажу. А пока… А пока я слышу очередное объявление: Просим извинения за задержку вылета на 20—25 минут в связи с оформлением документов» … Наконец, после получасового стояния, самолёт выруливает на взлётную полосу. Прощай Хитроу, прощай, гостеприимный «Туманный Альбион». Самолёт набирает высоту, я по привычке поглубже втискиваюсь в кресло, твержу индусские заклинания, стараясь справиться с растущим страхом. В мозгу крутятся какие-то бессмысленные фразы типа: massive stock clearing, position closed, sorry about that. … Когда земля уходит вниз под крыло, бездонная синева неба заползает внутрь салона через иллюминатор. И вот, уже, из репродуктора доносится бодрый голос капитана: высота 2500 метров, скорость – 950 км. в час. Мы летим домой. Почему-то вспоминается цветущий куст вистарии (?), растущий прямо из закопчённой кирпичной стены на въезде в туннель метро у вокзала Виктория: черные кирпичи, и зелёная ветка, упрямо тянущаяся вверх, к свету…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?