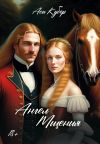Текст книги "Огненный ангел"

Автор книги: Валерий Брюсов
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Однако, несмотря на эти обещания, данные мною и Ренате и себе, тот день послужил образцом для многих других, вылепленных хотя и из другой глины, но в тех же формах, притом с такой точностью, что во всех них занимала свое место Агнесса. Обычно происходило все так, что я шел днем к Агнессе, слушал ее тихие речи, смотрел на ее льняные косы и с душой успокоенной, как заштилевшее море, возвращался к Ренате, по пути напоминая себе, что сегодня буду я владеть собою строго. Дома большею частью начинали мы чтение какого-нибудь назидательного сочинения, причем, преодолевая чувство скуки, старался я вникать в рассуждения, любопытные для Ренаты, – но понемногу близость ее тела увлекала меня, как некий любовный фильтр169, и почти сам не примечая того, я то приникал губами к ее волосам, то теснее прижимал ее руку к своей. Вспоминая теперь эти минуты, думаю, что, может быть, не всегда первый повод подавал я, но что одинаковое со мною чувство испытывала и Рената, которая также влеклась, против воли, к страсти, или что было во всем этом влияние существ, нам враждебных и незримых. Во всяком случае, без одного исключения, все наши чтения, после первого нашего грехопадения, стали завершаться одинаково: сначала исступленными ласками и взаимными клятвами, а потом отчаяньем Ренаты, ее слезами и жестокими укорами и моим поздним раскаяньем. И число этих образов, сходных друг с другом, как листья одного дерева, увеличивалось в нашей памяти каждый день на один.
Так наша жизнь, словно завиваясь суживающимися кольцами водоворота, замкнула наконец в очень тесный круг то, что прежде она обнимала широким обхватом. Первые месяцы нашей жизни с Ренатою были мы чуждыми друг другу; затем в течение двух недель, после моего поединка с графом Генрихом, напротив, близкими, как только могут быть близки люди. В следующий период жизни, длившийся до видения Ренаты, эти смены враждебности и близости свершались в течение нескольких дней, и порою в одну неделю успевали мы быть и лютыми врагами, и страстными любовниками. Теперь такой же цикл замкнулся в краткое время двадцати четырех часов. На протяжении от утра до вечера успевали мы пройти всю высокую лестницу от братской близости через дружескую доверчивость к самой пылкой, самозабвенной любви и дальше, к отточенной, как кинжал, ненависти. Каждый день наши души, как клинки, то раскалялись до белого света на горне страсти, то вдруг погружались в ледяной холод, – и легко можно было предвидеть, что, не выдержав таких переходов, они наконец сломаются.
Я чувствовал себя совершенно измученным всей своей жизнью с Ренатою и снова помышлял втайне о том, чтобы покинуть ее и бежать в другие страны, хотя в то же время мысль лишиться ее и ее ласк была мне так ужасна, что я просто боялся вообразить себя в мире опять одиноким. Вместе с тем и Рената, в часы наших ссор, все чаще решалась говорить мне, что более не может оставаться со мной, что в меня вселился дьявол, искушающий ее, что ей лучше умереть от тоски по мне, нежели совершать смертные грехи ради близости со мной, и что единое пристанище, где ей теперь место, – монастырь. Тогда я не придавал особого значения этим словам, но и мне наша общая жизнь опять представлялась тогда комнатой, из которой нет выхода, в которой все двери мы замуровали сами и в которой теперь мечемся безнадежно, ударяясь о каменные стены.
Но катастрофа, разрушившая эти стены в прах, вдруг бросившая меня в какие-то другие пропасти, на другие острые камни, все же подошла незаметно, словно судьба подкралась в маске и на цыпочках и схватила нас обоих сзади.
Мне памятен тот день, может быть, больше всех иных дней, и потому я знаю точно, что было то 14 февраля, в воскресенье, в день Святого Валентина. Снова был я тогда у Агнессы, причем при беседе нашей присутствовал и Матвей, и мы втроем немало шутили над обычаями и приметами, связанными с этим днем170. Возвращаясь домой, был я опять расположен добродушно и ласково и говорил себе: «Душа Ренаты изранена всем, что пережила она. Надо дать ей тихое успокоение, как больному дают лекарство. Кто знает, быть может, после нескольких месяцев жизни и ясной и мирной, и любовь ее, и покаяние ее вольются в ровное русло, – и для нас с ней станет возможною та счастливая и трудовая жизнь мужа и жены, о которой я уже перестаю мечтать».
С такими благими решениями вошел я к Ренате и, по обыкновению, застал ее среди книг, над фолиантом, в смысл которого она тщетно старалась вникнуть. Была она так заинтересована темным для нее содержанием книги, что не слышала, как я приблизился, и, вздрогнув, обратила ко мне ясные глаза свои, только когда я осторожно поцеловал ее в плечо.
Словно забыв все свои вчерашние жестокие упреки и жалобы, Рената сказала мне приветливо:
– Рупрехт, как я тебя долго ждала сегодня! Помоги мне, – я вижу, что эта книга очень важная, но понимаю очень плохо; здесь есть откровения, которые, если мы будем их помнить, удержат нас от многих зол.
Я присел рядом с Ренатою и увидел, что то была книга, недавно разысканная мною у Глока, так как она уже давно была распродана: прекрасный том, отпечатанный еще в прошлом веке, в городе Любеке, под заглавием: «Sanctae Brigittae Revelationes ex recensione cardinalis de Turrecremata»[67]67
«Откровения Св. Бригитты из отзыва кардинала Туррекре-матского» (лат.).
[Закрыть].171 Книга была раскрыта на описании путешествия Бригитты Шведской по чистилищу и тех родов мучений, какие она там наблюдала. В упор начали мы читать о какой-то грешной душе, голова которой была так крепко стянута тяжелой цепью, что глаза ее, вылезши из орбит, висели на своих корнях до самых колен, а мозг лопнул и вытекал из ушей и из носу; далее изображались мучения другой души, у которой язык был вырван через открытые ноздри и свисал до зубов; еще далее следовали иные формы всевозможных пыток, сдирания кожи, исхищренных бичеваний, терзаний огнем, кипящим маслом, гвоздями и пилами.
Мне не довелось прочесть в этой книге описания мук в самом аду, но в изображении чистилища заинтересовала только сила необузданной фантазии, много терявшая, впрочем, от дурного изложения кардинала, не совсем твердого в латинской стилистике. Зато на Ренату видения святой Бригитты произвели впечатление потрясающее, и, оттолкнув страшную книгу, вся дрожа, она прижалась ко мне, видимо, представляя себе загробные мучения со всей ясностью открывшегося взорам зрелища. С чувством настоящего ужаса, как ребенок, оставшийся один в темноте, она воскликнула наконец:
– Страшно! Страшно! И это грозит всем нам, каждому, мне и тебе! Пойдем, помолимся, Рупрехт, и да оставит нам Бог столько жизни, чтобы загладить все грехи наши!
В эту минуту Рената, наивная и робкая, похожа была на маленькую деревенскую девочку, которую пугает заезжий монах, надеясь с ее помощью распродать побольше индульгенций, и была она мне мила и дорога несказанно. Я охотно последовал за ней к маленькому алтарю, бывшему в ее комнате, и мы стали на колени, повторяя святые слова: «Placare Christe servulis…»[68]68
«Смилуйся, Христос, над твоими рабами…» (лат.)
[Закрыть] Эта общая молитва, когда мы стояли рядом, как два изваяния в церкви, и когда наши голоса смешивались, как запах двух рядом растущих цветков, решила нашу участь, потому что оба мы не одолели вновь желаний, вдруг вставших со дна нашей души, как встает из корзины, на свист заклинателя, – его змея.
Я не хочу обвинять здесь в этом последнем поступке Ренату и не могу принять за нее всей вины на себя, и пусть рассудит это в свое время тот, кому принадлежит судить и разрешать, в руках которого весы верные и кто не зрит на лица. Но кто бы ни был из нас виноват в этом нашем последнем падении, во всяком случае, скорбь, которая поборола Ренату, едва миновало головокружение страсти, еще не имела в прошлом равного ничего. Рената с таким изумлением и с такой дрожью отпрянула от меня, словно я завладел ею тайно, в ее сне, или насилием, как Тарквиний Лукрецией, и первые два слова, произнесенные ею, ударили меня бичом по сердцу сильнее, чем все последующие проклятия. Эти два слова, исполненные беспредельной тоски, были:
– Рупрехт! Опять!
Я схватил руки Ренаты, хотел целовать их, заговорил торопливо:
– Рената! Клянусь Богом, клянусь спасением души, я не знаю сам, как все это произошло! Это все лишь оттого, что я слишком люблю тебя, что я согласен на все мучения Бригитты, только бы целовать твои губы!
Но Рената высвободила свои пальцы, отбежала на середину комнаты, словно для того, чтобы быть от меня дальше, и закричала мне вне себя:
– Лжешь! Лицемеришь! Опять лжешь! Подлый! Подлый! Ты – сатана! В тебе – дьявол! Господи, Иисусе Христе, охрани меня от этого человека!
Я попытался настичь Ренату, протягивал к ней руки, повторял ей какие-то ненужные извинения и бесплодные клятвы, но она отстранялась от меня, крича мне:
– Прочь от меня! Ты мне ненавистен! Ты мне противен! Это в безумии я говорила, что люблю тебя, в безумии и в отчаяньи, так как мне ничего не оставалось больше! Но я дрожала от отвращения, когда ты обнимал меня! Ненавижу тебя, проклятый!
Наконец я сказал:
– Рената, почему ты обвиняешь меня одного, но не себя? Разве ты не одинаково виновата, поддаваясь моему соблазну, как я, уступая твоему? Вернее, не Бог ли виноват, сотворив людей слабыми и не дав им сил для борьбы с грехом?
В эту минуту Рената остановилась, словно пораженная моими богохулениями, дико стала оглядываться и, увидев лежащий на столе нож, схватила его, как оружие избавления.
– Вот, вот, гляди! – крикнула она мне голосом хриплым. – Вот какое средство завещал нам сам Христос, если тело наше искушает нас!
Говоря так, Рената ударяла себя клинком в плечо, и кровь окрасила место раны, а через миг потекла и из рукава ее платья. У меня тотчас мелькнула мысль, что этот порыв – последний, что за ним наступит упадок всех сил, и я хотел подхватить Ренату в руки, как изнемогшую. Но, против ожидания, рана только придала ей новой ярости, и, с удвоенным негодованием, она оттолкнула меня, метнулась в сторону и опять закричала мне:
– Уйди! Уйди! Не хочу, чтобы ты ко мне прикасался!
Потом, совершенно обезумевшая, а может быть, подпавшая под влияние злого духа, Рената с размаха бросила в меня ножом, который еще держала в руке, так что я едва успел уклониться от опасного удара. Тут же схватила она со стола тяжелые книги и стала метать их в меня, как ядра из баллисты, а за ними и все другие мелкие предметы, находившиеся в комнате.
Защищаясь, сколько было можно, от этого града, хотел я говорить и образумить Ренату, но ее каждое мое новое слово приводило в большее раздражение, каждое мое движение возбуждало еще и еще. Я видел ее лицо, бледное, как никогда, и искаженное судорогами до неузнаваемости, я видел ее глаза, в которых зрачки расширились вдвое, – и весь ее облик, все ее тело, находившееся в непрерывной дрожи, доказывали мне, что не она владеет собой, но кто-то иной распоряжается ее телом и ее волей. И вот в ту минуту, слыша повторные крики Ренаты: «Уйди! Уйди!», видя, в какую ярость приводит ее мое присутствие, принял я решение, может быть, неосторожное, но за которое сегодня все же не смею упрекать себя: я решился действительно уйти из дому, полагая, что без меня Рената скорее овладеет собой и успокоится. Кроме того, не мог я оставаться твердым, как марпезийская скала172, слыша непрестанные оскорбления себе, и хотя понимал умом, что Рената за них не ответственна, однако не без труда удерживал я себя, чтобы не крикнуть ей в ответ и своих обвинений.
Итак, я предпочел, повернувшись, быстро выйти из комнаты и слышал за собой неудержимый хохот Ренаты, словно бы она торжествовала долгожданную победу. Приказав Луизе подняться наверх и ждать приказаний госпожи, я накинул плащ и вышел на весенний воздух, в сумерки подступавшего вечера, – и такой странной показалась мне узкая улица, и высокие кельнские дома, и еще белый месяц над ними, после сумасшедшего дома, в котором только что слышал я вопли, скрежет и смех. Я шел вперед, не думая ни о чем, только дыша всей грудью, только вбирая глазами темнеющую синь неба, и вдруг сам удивился, увидя себя у дверей дома Виссманов, куда меня как-то сами завели мои ноги. Я, конечно, не вошел к ним вторично, но, перейдя на другую сторону улицы, заглянул в окна, и мне показалось, что я узнал милый и нежный облик Агнессы. Успокоенный уже этим одним, а может быть, и всей прогулкой, я медленно направился домой.
Но у нас нашел я Луизу в смятении, а комнату Ренаты пустой, причем на полу валялись ее вещи, некоторые части одежды, какие-то лоскуты, веревки, – и все обличало, что кто-то здесь поспешно готовился к отъезду. Конечно, я догадался сразу, что произошло, и охватил меня крайний ужас, как неопытного мага, который втайне заклинал демона явиться и вдруг упал ниц при его страшном появлении. В волнении начал я расспрашивать Луизу, но она немногое могла объяснить мне.
– Госпожа Рената, – так бормотала Луиза, – сказала мне, что вы попрощались с нею и что она уезжает на несколько дней. Она приказала мне помочь ей собрать ее вещи, но запретила за ней следовать. Я же никогда не возражаю господам и делаю все, как они прикажут. Вот только удивило меня, что у госпожи Ренаты вся рука была в крови, ну да я ей рану перевязала чистым полотном.
Спорить с глупой старухой или бранить ее было бесполезно, и я, не отвечая на ее причитания, побежал, с непокрытой головой, на улицу. Мне казалось, что Рената не могла уйти далеко, я надеялся нагнать ее, упросить, умолить вернуться. Я толкал редких вечерних прохожих, я сам натыкался на стены и без толку, с сердцем, бьющимся, как молот кузнеца, пробегал улицу за улицей, пока не послышался звон уличных цепей и не замелькали там и сям во мраке переносные фонари. Тогда я понял бессмысленность своих поисков и вернулся к себе, потрясенный и растерявшийся.
Хотя утешал я сам себя соображением, что не успела, конечно, Рената выйти из города, прежде чем заперли ворота, однако все же первая ночь, которую я провел без нее, была поистине страшной. Сначала я бросился в свою постель и ждал мучительно, против всякого вероятия, что вот раздастся стук в дверь и вернется Рената, – встречая каждый шорох, как надежду, как предзнаменование. Потом, вскочив, я стал на колени и начал молиться с тем же исступлением, с каким молилась сама Рената, заклиная Всевышнего вернуть мне ее, вернуть во что бы то ни стало, какой бы ценой то ни было. Я давал сотни обетов, исполнить которые клялся, если только Рената вернется: клялся заказать тысячу обеден, клялся положить десять тысяч поклонов, клялся пойти пешком ко Гробу Господню, соглашался отдать взамен все другие радости жизни, какие еще могли ожидать меня в будущем, – сам понимал всю нелепость своих обетов и все же произносил их, сжимая руки. Потом бросился я в опустелую комнату Ренаты, где все еще было живо ею, ложился на ее постель, на ту простыню, к которой она еще вчера прижимала свое тело, целовал ее подушки и грыз их зубами, воображал Ренату в своих объятиях, говорил ей все страстные, все нежные слова, которые не успел сказать за дни нашей близости, и бился головой об стену, чтобы чувством боли вернуть себе сознание. Не знаю, как не потерял я рассудка в ту ночь.
Настала заря, и я был уже на ногах, я уже искал Ренату по городу, уже стерег ее у городских ворот и на пристанях, откуда отходят барки. Но я не нашел Ренаты нигде, я не дождался ее дома, – она не вернулась ко мне ни в тот день, ни на следующий, ни в целый ряд других дней, – она не вернулась в ту свою комнату больше никогда.
Глава 11
Как я жил без Ренаты и как я встретился с доктором Фаустом
I
Не сумел бы я описать в подробностях, как я прожил первые дни после ухода Ренаты, ибо в моей памяти они слились в одно мутное пятно, как при тумане сливаются в одно – гавань, и окружные дома, и мечущиеся на пристани люди. Но никогда прежде, даже воображая, как мы расстанемся с Ренатою, не мог я допустить, что с такой неодолимостью схватит меня в свои когти тоска, словно горный орел малого ягненка, и что окажусь я настолько беззащитным и беспомощным пред натиском безумных, неисполнимых желаний. В те дни всю мою душу наполняло до краев, и свыше края, сознание, что счастие моей жизни – в одной Ренате, и что без нее – нет для меня смысла видеть день или встречать ночь. Месяцы, проведенные мною с Ренатою, представлялись мне временем эдемского блаженства, и при мысли, что я мог утратить его так легкомысленно, я готов был в ярости кричать самому себе все проклятия и бить самого себя по лицу, как презреннейшего негодяя.
Конечно, исполнил я все, что только было в моих силах, чтобы разыскать Ренату. Я подробно опросил, не жалея подачек, всех сторожей у городских ворот, не проходила ли или не проезжала ли через эти ворота женщина, подобная Ренате. Я навел все возможные справки в гостиницах, монастырях и всех других местах, где могла бы она найти приют, причем, сознаюсь, в безумии своем, обращался с вопросами даже в публичные дома. Я не постыдился вынести свой позор на улицу и пошел со своими жалобами и просьбами к тем нашим соседкам Катарине и Маргарите, с которыми одно время водила странную дружбу Рената. Но на все мои розыски получал я лишь пожимание плеч, а в иных случаях, когда расспрашивал с излишним волнением и слишком страстной настойчивостью, – и жестокие насмешки или просто брань в ответ.
В то же время, хватаясь за бессмысленную надежду – повстречать Ренату где-либо на перекрестке, неустанно обегал я улицы и площади города, простаивал часами на пристанях и рынках, входил во все церкви, где любила молиться Рената, и воспаленным взглядом всматривался в коленопреклоненные образы, мечтая различить среди них слишком знакомую фигуру. Тысячу раз представлял я себе, как, столкнувшись внезапно с Ренатою где-нибудь в узком проходе, схвачу я ее за плащ, если она торопливо захочет бежать прочь, упаду на колени в уличную грязь и скажу ей: «Рената, я – твой, опять – твой, навсегда и совсем! Возьми меня, как раба, как вещь, как Господь Бог берет душу! Делай со мною что хочешь: сомни меня, как горшечник свою глину, приказывай мне, – я буду счастлив умирать для тебя!» Говоря короче, пережил теперь я сам, со всей точностью, все то, что переживала когда-то Рената, ища безумно своего Генриха на улицах Кельна, и думаю я, что мои чувства ничем не разнились от ее огненного безумия тех дней.
В вечерние часы, которые проводил я дома, открывались мне безмерные просторы отчаяния, и время до утра было для меня порою безжалостной пыткой, которой подвергал я сам себя. Несмотря на то, унизительным казалось мне прибегнуть к какому-либо успокаивающему средству, и я не хотел выпить ни стакана вина, предпочитая встречать скорбь лицом к лицу, без забрала, как честный рыцарь на поединке, чем купить временное спокойствие ценою забвения о Ренате. Снова, как в первую ночь без Ренаты, переходил я из одной комнаты в другую, то запирался у себя, чтобы не видеть, не помнить вещей, к которым прикасалась Рената и на которые мне нестерпимо было смотреть, то опять кидался на ту самую постель, в которой она спала, целуя подушки, к которым прижимались ее щеки, стараясь вспомнить все нежные слова, которые она произносила. Усталость смыкала мне наконец глаза, и тогда во сне она поникала в мои объятия, прижималась к моей груди своим маленьким, хрупким телом, или шла ко мне навстречу из зеркальных зал, торжествующая, как царица, мне дарующая венец, или, напротив, входила бледная, больная, истомленная, простирая руки, прося защиты… Я просыпался, словно падая с высокой башни счастия во мрак и холод своего отвержения…
Так провел я в мечтаниях несколько дней, а потом овладело мною последнее отчаянье и безнадежность крайняя, так что не стало у меня сил даже для поисков. Я круглые сутки оставался в своих комнатах, наедине с тоской, словно преступник, запертый в тюрьме вместе с дикой обезьяной, которая каждый миг опять бросается на него и его душит своими цепкими руками. Порой призывал я к себе Луизу и начинал в сотый и сто первый раз расспрашивать ее об обстоятельствах, при которых ушла Рената, особенно упорно повторяя вопрос: «Так она сказала, что уезжает лишь на время?» – и мучил бедную старуху до тех пор, пока она, качая головой, не уходила от меня сама. Тогда предавался я воспоминаниям о Ренате, перебирая в уме все дни и часы, какие мы с нею провели, подобно тому как скряга пересыпает с ладони на ладонь скопленные им монеты, и иногда смеясь от радости, как идиот, когда в памяти вдруг всплывало забытое слово, забытый взгляд Ренаты. А то еще выдумывал я всякие приметы, одну нелепее другой, которыми не то чтобы обольщал, но как-то тешил себя. Так, смотря в окно, я говорил себе: «Если справа по улице сейчас пойдет мужчина, то Рената ко мне вернется». Или так: «Если я сосчитаю, не сбившись, до миллиона, то она еще в Кельне». Или еще: «Если я вспомню по именам всех своих товарищей по университету, то я встречу ее завтра». И в таком состоянии бессилия и безволия проходили опять дни, и мне становилось все более странно подумать о том, что я могу вернуться к людям, а образ самой Ренаты уже казался мне не воспоминанием о живом человеке, но каким-то святым символом.
Однажды придумал я новую игру, а именно, сидя в кресле, закрывал глаза и воображал, что Рената здесь, в комнате, что она переходит от окна к столу, от постели к алтарю, что она подходит ко мне, касается моих волос. В увлечении я действительно словно слышал шаги, шуршание платья, словно ощущал прикосновение нежных пальцев, и этот самообман был мучителен и сладостен. Так упивался я фантазией целые часы, и слезы не раз наполняли мои глаза, но вдруг сердце мое остановилось и тотчас забилось мятежно, а руки похолодели: я услышал реальный шорох платья и отчетливые женские шаги в комнате.
Я открыл глаза: передо мною была Агнесса.
Медленным, словно несознательным движением Агнесса приблизилась ко мне, опустилась передо мной на колени, как, бывало, я перед Ренатою, взяла мою руку и прошептала мне:
– Господин Рупрехт, отчего вы давно не рассказали мне про себя все?
Была такая ласковость в ее голосе и он так осторожно коснулся ран моего сердца, что не было мне ни стыдно своей скорби, ни страшно присутствия чужого в этой комнате. Я тоже сжал руку Агнессе и так же тихо, как говорила она, сказал в ответ ей:
– Останьтесь со мной, Агнесса; благодарю вас, что вы пришли.
И тут же, так как я не мог в тот час думать ни о чем ином, стал я говорить Агнессе о Ренате, о нашей любви, о моем отчаяньи. Нашла свое утоление давно томившая меня жажда назвать вслух, громко, свои чувства, с беспощадностью, в точных терминах, определить свое положение, – и слова вырывались у меня как-то против моей воли, без удержу, иногда без связи, как у сумасшедшего. Я видел, как бледнела Агнесса от моих признаний, как светлый и всегда беспечный взгляд ее застилался слезами, но воздержаться уже не имел силы, ибо вид чужого страдания как-то облегчал мое собственное. Если же Агнесса пыталась вставить свое слово, чем-нибудь утешить меня, я насильственно прерывал ее речь и продолжал свою еще в большем исступлении, словно меня уносил в бездну на своих крылах какой-то демон.
Безумный порыв мой длился, вероятно, около часа, и наконец Агнесса, не выдержав той пытки, какой я подверг ее, вдруг, зарыдав, упала на пол и повторяла: «А обо мне, обо мне вы и не думали никогда!» Тут я несколько опомнился, поднял Агнессу, усадил ее в кресло, говорил, что я признателен ей за ее доброту бесконечно, и действительно, в ту минуту испытывал к ней всю нежность любящего брата. Когда же Агнесса успокоилась, отерла покрасневшие глаза, привела в порядок растрепавшиеся волосы и стала торопиться домой, чтобы отсутствие ее осталось незамеченным, я на коленях умолял ее прийти завтра вновь, хотя на минуту. А после ухода Агнессы испытывал я какое-то странное успокоение, словно раненый, который долго лежал на поле битвы без помощи и наконец попал в руки внимательного медика, промывшего ему, не без мучительной боли, его глубокие раны и перевязавшего их чистым полотном.
Агнесса вернулась ко мне на другой день, а потом пришла и на третий, и на четвертый, и стала появляться в моих комнатах ежедневно, умея как-то обмануть и бдительность брата, и аргусовский взор соседних кумушек. Конечно, я не мог не догадаться тотчас, почему она приходила ко мне, да ее дрожь, когда я к ней прикасался, покорность ее взгляда и робость ее слов достаточно объясняли мне, что она ко мне относилась со всей нежностью первого чувства. Но это не могло помешать мне мучить ее своими признаниями, потому что мне Агнесса была нужна только как слушательница, перед которой мог я свободно говорить о том, чем жила моя душа, и перед которой я мог вслух произносить сладостное мне имя Ренаты. Таким образом, в обратном отражении повторились для меня те часы, когда я сам слушал рассказы Ренаты о Генрихе, ибо на этот раз я был не жертвою, но палачом. И, глядя на маленькую Агнессу, ежедневно шедшую ко мне на мучения, думал я, что мы четверо: граф Генрих, Рената, я и Агнесса – сцеплены между собою, как зубчатые колеса в механизме часов, так что один невольно впивается в другого своими остриями.
Я скажу, что Агнесса с неожиданной для нее бодростью переносила эти испытания, так как любовь, по-видимому, всем, и самым слабым, дает силы титана. Забыв свою девическую скромность, покорно слушала она мои рассказы о днях нашего счастия с Ренатою, – рассказы, в которых нравилось мне вспоминать и о самом сокровенном. Преодолевая свою детскую ревность, шла она за мной в комнату Ренаты и позволяла показывать себе любимые места Ренаты, кресло, где она часто сидела, алтарь, у которого она молилась, ту постель, у подножия которой я, бывало, спал, не смея поднять глаз выше. Заставлял я Агнессу и обсуждать со мною вопрос, как мне теперь поступить, и робким, прерывающимся голосом убеждала она меня, что мне бессмысленно было бы ехать на поиски по всем городам немецких земель, особенно когда я не знал даже, где родина Ренаты и где живут ее близкие.
Впрочем, случалось нередко, что я не соразмерял своих ударов с силами своей жертвы, и тогда Агнесса, вдруг уронив руки, шептала мне: «Я не могу больше!» – и вся как-то поникала, или опускалась, с тихими слезами, на пол, или стыдливо припадала лицом в кресло. Тогда истинная нежность к этой бедной девочке возникала во мне, я обнимал ее ласково, так что смешивались наши волосы и губы сближались в поцелуй, для меня, однако, не значивший ничего другого, кроме дружбы. Может быть, ради этих кратких минут и приходила ко мне Агнесса и, в ожидании их, готова была принять все мои обиды.
Так прошло времени около десяти дней, а я все медлил в Кельне, во‐первых, потому, что действительно некуда было мне ехать, а во‐вторых, потому, что безволие все еще опутывало меня словно густой сетью и страшно мне было расстаться с последней пристанью, еще остававшейся у меня на земле: с привязанностью Агнессы. Душа моя в те дни так была размягчена всем мною пережитым, что никто бы не признал во мне сурового сподвижника великих конквистадоров, водившего экспедиции через девственные леса Новой Испании, но, напротив, весь погруженный в смену своих чувств, напоминал я скорее какого-нибудь «кортеджано», столь тонко изображенного остроумным Бальдассаре Кастильоне173. И, может быть, не имея воли сделать решительный шаг, еще много дней длил бы я свой странный образ жизни, если бы не положило ему конец происшествие, которое вернее признать естественным выводом из всего бывшего, чем случайностью.
Однажды, на склоне дня, а именно в субботу 6 марта, когда Агнесса, не выдержав снова тех испытаний, каким я подверг ее, лежала в бессилии у меня на коленях, а я, снова раскаиваясь в своей жестокости, осторожно целовал ее, – дверь нашей комнаты вдруг распахнулась, и на пороге показался Матвей, который, увидев неожиданную картину, весь как-то замер от изумления. Агнесса при появлении брата вскочила с криком и, растерянно метнувшись к стене, прижала к ней свое лицо; я тоже, чувствуя себя виноватым, не знал, что сказать, – и в течение, вероятно, целой минуты представляли мы какую-то немую сцену из пантомимы уличного театра. Наконец, получив дар речи, Матвей заговорил так, в сердцах:
– Вот этого, брат, я от тебя не ожидал! Что хочешь про тебя думал, а уж честным малым тебя считал! Я-то смотрю, что он перестал ко мне ходить! То, бывало, каждый день, каждый день, а то – две недели глаз не кажет! Сманил, значит, птичку; думает: теперь она ко мне и сама летать будет. Ну, нет, брат, ошибаешься, это тебе легко не сойдет с рук!
Говоря так и сам от своих слов приходя в ярость, Матвей наступал на меня чуть ли не с поднятыми кулаками, и я тщетно пытался образумить его. Потом, заметив вдруг Агнессу, Матвей ринулся на нее и, еще более задыхаясь, стал осыпать ее непристойными, бранными словами, каких никогда не посмел бы я произнести в присутствии женщины. Агнесса, слыша жестокие обвинения, зарыдала еще отчаяннее, задрожала вся, как опаленная на огне бабочка, и упала на пол, наполовину без чувств. Тут я уже решительно вступился в дело, загородив Агнессу, и сказал Матвею твердо:
– Милый Матвей! Я очень перед тобой виноват, хотя, может быть, и не настолько, как ты это думаешь. Но сестра твоя не виновна ни в чем, и ты должен оставить ее, пока не выслушаешь моих объяснений. Пусть госпожа Агнесса идет домой, а ты сядь и позволь мне говорить.
Уверенность моего тона подействовала на Матвея; он примолк и грузно опустился в кресло, ворча:
– Ну, послушаем твою диалектику!
Я помог Агнессе подняться, так как она едва сознавала, что делает, проводил ее до двери и тотчас запер эту дверь на засов. Потом, вернувшись к Матвею, сел против него и стал говорить, стараясь казаться беспечным. Как то со мной всегда бывает, в минуту, когда надо действовать, – ко мне вернулась тогда и ясность мысли, и твердость воли.
Я объяснил Матвею, насколько то можно было человеку грубому и простоватому, какие обстоятельства жизни довели меня до крайнего отчаянья, и изобразил посещения Агнессы как дело милосердия, подобное посещению больниц или темниц, на что благословляет и церковь. Настаивал я, что ни с моей стороны, ни со стороны Агнессы не было речи о любви, не говоря уже о более низменных пожеланиях, и что наши отношения не переступали дозволенного между братом и сестрою. Ту же картину, свидетелем которой был Матвей, объяснил я исключительно добротою Агнессы, которая плакала над моими страданиями и волновалась видом моей неутешной скорби. При этом, конечно, старался я говорить со всей убедительностью, какой только способен был достигнуть, и полагаю, что сам Марк Туллий Цицерон, отец ораторов и лицемеров, прослушав мою святошескую речь, похлопал бы меня по плечу благосклонно.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.