Читать книгу "Туманность Водолея. Томительный дрейф"
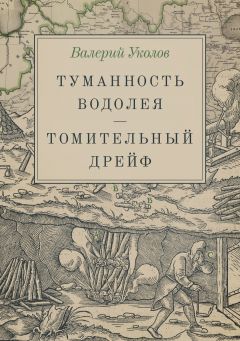
Автор книги: Валерий Уколов
Жанр: Социальная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Пока Герман отгонял гитарным грифом собак, Евгений вытащил одежду. Толпа сельчан сопровождала всё дружным хохотом, подковырками и съёмкой на мобильники. И только разразившийся ливень и грозовые разряды, зажёгшие соседний дом, позволили Евгению и Герману прекратить мученичество и покинуть посёлок в расстроенных чувствах.
20nn+5-й год от рождества Христова. В России в который раз поднимается вопрос смертной казни. Многочисленные диаспоры китайцев и выходцев с Ближнего Востока и Африки требуют ввести хотя бы ограниченное число таковой формы высшей меры. После долгих думских дебатов постановили следующее: к преступнику, приговорённому к высшей мере, применяют пожизненное заключение, при этом постоянно следят за состоянием его здоровья с помощью многочисленных датчиков и регулярных анализов. Как только становится ясно, что он при смерти, но ещё не умер, вызывается дежурный палач и ждёт показания приборов. В момент зафиксированного аппаратурой угасания жизненных импульсов подаются звуковые и световые сигналы. Тогда палач, если осуждённый – выходец из США, включает рубильник и пропускает через осуждённого ток. Если приговорённый, к примеру, из Мексики или Южной Америки, исполнитель наносит удар ножом в сердце. В остальных случаях стреляют в голову. Такое учитывание национальных особенностей и вместе с тем европейских традиций гуманизма, по мнению думского большинства, снизит напряжённость в полиэтническом обществе, не посягая на менталитет самих этносов.
Головной болью столичных властей оставались стихийные рынки, палаточные городки протестующих и нелегалов, постоянно возрождавшиеся в разных местах. Москвичи-активисты требовали решительных мер. С одобрения городской думы приводился в исполнение план под кодовым названием «Нерон»: по ночам жгли рынки, палаточные городки и заодно ветхие строения, одновременно разъясняя по громкоговорителям торговцам, обитателям палаточных городков и жителям ветхих строений их же пользу и получение материальных благ городом от плановых пожаров.
На подёрнутую ледяной коркой гладь пруда осторожно, словно боясь её надломить, садились утки. Они давно уже не улетали на зиму, да и лететь-то давно уже было некуда. Все с этим давно уже смирились и мирно уживались рядом на небольшом водоёме Чистых прудов. Утки быстро привыкли к пеликанам, а позже и к пингвинам. Сердобольные москвичи-пенсионеры подкармливали их круглый год. Школьники на уроках труда вырезали из пластиковых бутылок кормушки и расставляли их вокруг пруда. Нагловатые марабу часто оказывались первыми и быстро опустошали содержимое кормушки. Тогда обрезанные пятилитровые пластиковые бутыли с кормом стали пускать по воде, украшая их китайскими фонариками с подсветкой.
Евгений и Герман из полумрака кафе наблюдали эту мультифеерию на тёмной глади пруда и медленно потягивали глинтвейн. Евгений перевёл взгляд на газету, оставленную на столике предыдущим посетителем. В глаза бросилось заглавие статьи: «Ещё раз о духовности русских» и подзаголовок: «Сумерки Африки». Текст: «Меня часто спрашивают: как отличить русскую духовность от духовности остального мира? Я отвечаю: прежде всего, бойтесь суррогата духовности, изящных, а потому соблазнительных подделок под всяческие проявления духа. Это главное. Вот я был когда-то в Африке, ещё той Африке – на жарком и цветущем континенте. И я много слышал и даже видел, как тамошние фермеры выжигают луга и отстреливают животных, нападающих на их скот. И я говорил им: «Что вы делаете? Вы не духом противостоите трудностям и бедам, а огнём и железом». Они вроде бы соглашались со мной или делали вид, что согласны, но я видел в их глазах только жажду наживы и животный инстинкт. Кивком головы они давали мне понять, что согласны со мной, и тут же стреляли в слона, забредшего на их поле. И вот я говорю вопрошавшим меня: вот же он – суррогат духовности, явленный на деле. Не то с нашим фермером. Православный фермер никогда не будет стрелять в слонов. И если, например, сейчас, в наше время, когда слоны уже появляются на русских равнинах, фермер увидит эту животину у себя, он, упаси бог, не схватится за ружьё, коего, к слову сказать, у него никогда и не было за ненадобностью, а ласково потреплет слона за ухо и даст вволю ему насытиться хоть на ржаном поле, хоть на кукурузном. Потому что знает фермер наш, что заодно он с природой, да и слон в долгу не останется: помёт слоновий много пользы даст, сдобрит полюшко, поможет труженику русскому в борьбе с заразой западной – амброзией – да жуком колорадским. Уйдёт слон, насытившись, а фермер православный перекрестит вслед его да за плуг возьмётся. Вот она, духовность наша подлинная, не заёмная у кого-нибудь, а нами от самих же себя и полученная. А Африка нынче в сумраке да во льду пребывает. Я же говорил им…» Конец статьи был заляпан соусом и не читался. Евгений перевернул лист. В разделе «Новое во Вселенском молитвослове» говорилось о Франциске Ассизском как о первом гуманисте-экологе, проповедующем любовь ко всякой твари и творениям, аки к Творцу. Печаталась экологическая молитва: «Боже Всеблагий и Всемилостивый, всё сохраняй своею милостию и природолюбием, смиренно молю Тя предстательством святителя Николая и всех святых, сохрани от внезапной погибели и всякой напасти миротворение Твое. Боже Милостивый! Избави меня от злаго духа нечистот и выбросов зловонных, смертоносныя язвы и всякого душепагубного обстояния, вызывающих напасти и скорую мучительную смерть без покаяния. Помози мне, Господи, дожить до глубокой старости без отягощения совести бременем битых бутылей, пластиков смрадных, преданной огню листвы палой и потравленного по нерадению моему люда и всякой твари Твоей и сохрани от огненного запаления и всякого зла траву, сеющую семя и древа плодовитые. Помози нам силою молитвы своей остановить движение шедших погубить создания Твои, ныне приостанови все замыслы врагов твоих, не допускай им покуситься на деяния твои, избави от козней диавольских предающихся постыдной страсти истребления, бесовского искушения. Пусть Святая Сила остановит их на том месте, где постигнет их. И даруй всем по молитвам их здравие и спасение душ и телес, наипаче же Царство Небесное и да всего жития нашего обновление в чистотельной бане покаяния, яко да всехвально воспевающе память Твою, и да прославится имя Твое святое Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь».
– Ты знаешь, – Евгений обратился к Герману, – мы все в России в какой-то мере люди с ограниченными возможностями.
– Это почему?
– Вот назвали мы Русь святой, а значит, должны быть повсюду признаки святости. И человек русский постоянно озабочен их поиском.
– Да не все и озабочены.
– Да эти просто верят, и всё. И всё равно создают себе трудности. Вот, например, Гуанду святой никто не называет, и сами гуандинцы об этом и не помышляют даже – и не заморачиваются. И ничего, живут себе хреновенько и живут, голову не ломая. А мы же чувствуем, что святости не хватает, маловато её на всех. И вроде как неполноценность какая-то возникает, как у инвалидов. Вот хочет хроменький человек пробежаться, думает: «У меня же две ноги» – а не выходит. Вот и со святостью у нас ограниченные возможности, а значит, нам приплачивать надобно.
– Не переживай. Ты что, не знаешь, что всем русским рай обеспечен? Да он уже и настаёт.
– Как бы его в ад не превратить по привычке да потребности своей.
– Ад взывает русского человека к жизни.
Официант включил телевизор. Шёл сюрреалистический мультик про колобка. Колобок проснулся на бильярдном столе в роли шара-биты. Удар кия – и бита-колобок разбивает пирамиду из смешариков. Его гоняют по столу, и он выбивает всех смешариков в лузы. Удар кия – и колобок, покрывшись пятнами, отлетает на поле настольного футбола. Теперь он мяч. Легионеры в латах и бутсах с алмазными шипами. Ворота с колючей проволокой вместо сетки. Удар – и мяч-колобок улетает за пределы поля на VIP-трибуну и, ударившись о бусы из смешариков, падает знатной даме в бюстгальтер. Дама визжит и требует достать колобка. Десятки длинных гипертрофированных рук в перстнях и цепочках устремляются на поиски колобка, но не достают, а только пропихивают его ниже. Дама визжит истошнее, и десятки длинных гипертрофированных рук в перстнях и цепочках срывают с неё всю одежду, но колобок ускользает из длинных гипертрофированных рук и, прыгая по головам зрителей, попадает на голову огненно-рыжего мужика, воспламеняется и устремляется в космос. Теперь он колобок-спутник. У него вырастают усики-антенны. Но после первого витка вокруг Земли он сталкивается со спутниками-смешариками и, снизившись, входит в плотные слои атмосферы. Подрумяненный и без антенн, он пробивает крышу дома и падает на стол к дедушке и бабушке, разбивая посуду. Обрадованные старики радостно голосят и зовут внучка. Внучек в хип-хоповом прикиде забирает колобка и идёт играть им в баскетбол. Забрасывает колобка в корзину. Из корзины-лузы колобка достаёт длинная гипертрофированная рука и кладёт на бильярдный стол. Удар кия… Конец.
– Какой бред, – заключает Герман.
Евгений. Это сюрреализм. Высвобожденная фантазия на заданную тему.
Герман. Тогда вот тебе заданная тема: шеф наш ещё одну кашу заварить хочет. У одного букиниста на Сухаревской есть редчайшие письма. Это переписка Ницше с Толстым.
Евгений. Что за лажа? Толстой терпеть не мог Ницше да и писать бы ему не стал. Тут подстава явно. Смотри, как бы не вляпались с этими фальшивками.
Герман. Да я тоже так думал. Но потом свели меня с одним историком-литературоведом, а он толк в переписках знает. Так вот, он рассказал мне, что Толстой был вынужден отвечать. А первое письмо написал сам Ницше. Ему якобы кто-то сказал, что граф из России весьма интересуется сверхчеловеком, но интерес этот Толстым будто бы для того был проявлен, чтобы разнести это сверхсущество в пух и прах. Это-то отца сверхчеловека и задело. Сказали бы, что граф просто заинтересовался, – Ницше бы не повёлся. Так вот, шеф эти письма заполучить хочет и выручить за них неслабо. Но, как их взять, я пока не представляю. К историку сходим завтра, а геолога будем додавливать тихо-мирно и перманентно. Так что давай утром встретимся в Столешникове у этого литисторика. Получим подробную информацию – и на разведку к букинисту.
Столешниковский литисторик был, можно сказать, стар, но его старость с годами олитературилась, и новейшую историю он собой не портил. Более того, знал современных авторов и разбирался в трендах. Старался быть с молодёжью. Носил майку с надписью: «Sex & Pistols». Михаил Фёдорович Достоев не спросил гостей сразу о конечной цели визита, а сунул им под нос распечатку новой вещицы молодого автора Ваньки Торгенева:
– Вот парниша не заморачивается. Живёт в Берлине, сидит на грантах да вот такое на-гора выдаёт. Полюбуйтесь.
Материя – Дух. Борение.
(от Vani from Berlin)
духу худо
находит дух
худобу духа
материи мат
иди ходом духа
материя мать твою там
дух удушен
атомарна материя
метр за метром мертвеет
в мать материю ту
дух иди на хуй
материя
дух
– Это к чему? – уточнил Герман.
– К истончённому искусству. Концептуальное решение, – пояснил Михаил Фёдорович.
Евгений. Тогда можно понять.
Михаил Фёдорович. Вот как! Ну да ладно. Сей опус он перевёл на несколько языков и выдал за русский примитив. По нему уже поставили две пьесы и репетируют оперу. А вот это вот творение. Оцените. Это уже для внутреннего пользования.
Дядя Стёпа – оборотень в погонах
Кто не знает дядю Стёпу?
Стёпа-крыша всем знаком!
Просекли, что дядя Стёпа
Был когда-то моряком.
Он крышует по району
От ларька и до ларька,
И опять на нём погоны,
Знают всюду паренька.
Он с кокардой на фуражке,
Он в шинели под ремнём,
Кобура висит на пряжке –
Рынки держатся на нём!
Он идет из отделенья,
И в районе гопоту
Разом прёт от изумленья:
Чуют «крышу» за версту.
Дядю Стёпу уважают
Все, от взрослых до ребят.
Встретят – взглядом провожают,
С уважухой говорят:
– Да-а! Ментов такого роста
Встретить запросто не просто!
Да-а! Такому молодцу
Быть в полиции к лицу!
Если встанет на посту,
Пропасёт всех за версту!
Возле площади расклад:
Мерс врубился бэхе в зад –
Понаехала братва,
Нет движенья никуда…
Сто машин стоят, гудят –
С места тронуться хотят.
Три, четыре, пять минут
Им проезда не дают.
Как бы тут из ниоткуда
Дядя Стёпа подвалил:
– Что, брателы, дело худо?
Кто кого тут завалил?
Из подержанной «семёрки»
Пацаны ему в ответ:
– Нас, Степан, достали тёрки!
Разрулить как, дай совет!
Рассуждать Степан не стал –
Сигареты «Кент» достал,
Взглядом строгим всех обвёл,
По понятиям развёл…
В то же самое мгновенье
Пацанов пропал и след.
Восстановлено движенье,
Никаких заторов нет!
Нам ребята рассказали,
Что вот с этих самых пор
Пацаны Степана звали
На любой в Москве разбор.
Постовым такого роста
Гнать туфту совсем непросто.
Пацаны гребли у зданья,
Что на площади Восстанья,
Вдруг секут – стоит Степан,
Им знакомый великан!
Все застыли в одуренье:
– Стёпа! Чё, бля, за понты?
Не твоё здесь отделенье
И не твой район Москвы!
Стёпа «коркой» козырнул,
Улыбнулся, подмигнул:
– Я подмазал всё начальство –
И теперь мой рынок весь
И в погоду, и в ненастье,
Я крышую смело здесь!
В «Детском мире» – магазине,
Где игрушки на витрине,
Появился наркоман.
Он салазки опрокинул,
Из кармана шприцык вынул,
Продырявил барабан.
Продавец ему: «Платите!».
Он в ответ: «Не заплачу!». –
«Вы, наверное, торчите?»
Отвечает: «Да, торчу!».
Только вдруг у наркомана
Ломка началась в груди:
Светлый образ он Степана
Заприметил позади.
– На кого ты бочку катишь?
– Чё ты! Чё ты! Не качу!
– Деньги мне сейчас заплатишь!
– Сколько нужно? Заплачу!
Постовой Степан Степанов
Был грозой для наркоманов.
Как-то утром, в воскресенье,
Вышел Стёпа со двора.
Стоп! Ни с места!
Нет спасенья:
Облепила пацанва.
На крышуху смотрит Ванька –
Напустил для форсу пар:
– Ты, Степан, нас извиняй-ка!
– Что такое?
– Есть базар!
– Почему ты с парохода
Вдруг в полицию пошёл?
Неужели ты работу
Лучше этой не нашёл?
Постовой брелоком крутит,
Стёпу тот вопрос не тупит,
Говорит: «Ну что ж, готов
Я ответить без понтов!
Я скажу вам так по дружбе,
Что в полиции служу
Потому как за день службы
Косарей я семь кошу!
Кто крышует с пистолетом
На посту зимой и летом?
Наш обычный постовой –
Это тот же часовой!
Ведь недаром сторонится
Полицейского поста
Не привыкший с ним делиться
И чья ксива нечиста.
К сожалению, бывает,
Что полицией пугают
Непослушных торгашей.
Как властителям не стыдно?
Это глупо и обидно!
И когда я слышу это,
Я краснею до ушей…»
Герман. Это прокатит.
Михаил Фёдорович. Да и, похоже, не только у нас. В Штатах готовят его американскую версию: плохой белый полицейский вымогает деньги у рэперов-афроамериканцев и крышует мафию, состоящую из белых ублюдков.
– Политкорректность, – заметил Герман. – Скоро там появятся «Белые пантеры».
– У нас тоже началось. Слышали о проекте в Министерстве культуры? Собираются запретить «Му-Му» Тургенева: «за издевательство над человеком с ограниченными возможностями» и «жестокое обращение с животными». Так-то вот. Так с чем пожаловали? – осведомился Михаил Фёдорович.
Евгений. Дело щекотливое. Полностью мы в нём не уверены, поэтому к вам и обращаемся. Речь о тех письмах, о переписке Толстого с Ницше. Признаться, в это всё-таки трудно поверить, что они вот так в письменном виде общались. Нам вы сказали, что письма эти у одного букиниста есть. Так вот, мы хотели у вас ещё раз справиться насчёт подлинности этих писем. Что скажете?
Михаил Фёдорович достал пачку сигарет «Бродский». Больше половины портрета поэта с сигаретой во рту на пачке было залеплено социальной рекламой со слоганом: «Кури и сдохни!». Закурил.
Михаил Фёдорович. Это вы про письма, что у того букиниста на Сухаревке хранились? Я их видел. Он мне их показывал. Я читал у него дома. Навынос он не давал. Он также сомневался в их подлинности и привлёк меня. Того букиниста звали Буквальнов. Он ещё и пописывал. Сочинял мистический детектив «Адский круг МКАДа». Так вот, он сидел со мной рядом, чтоб я не спёр чего, когда письма просматривал. Я задумал сфотографировать их на мобильник, но он постоянно за мной следил. И вот мы пошли пить чай на кухню. Буквальнов забрал письма с собой. Я уже отчаялся их снять. Сидим, чай пьём. Папка с письмами на кухонном столе. Вдруг на лестничной площадке засмеялись таким нездоровым смехом. Буквальнов напрягся, выругался и сказал, что эта гопота его достала – шумят, ссут между этажами – и что он постоянно с ними ругается. За дверью послышалась нецензурная брань, и Буквальнов не выдержал, оставил папку на столе и пошёл разбираться. Открыл дверь, закричал, чтоб убирались. Я вынул письма и стал быстро снимать их на мобильник, пока хозяин ругался. Потом вдруг поймал себя на мысли, что всё тихо, а хозяина нет. Тут я почуял неладное и выглянул на лестничную клетку. Между этажами под мусоропроводом лежал Буквальнов в луже крови. Никого больше не было. Его пырнули ножом. Я попробовал пульс и не нащупал его. Буквальнов не дышал. Я вернулся на кухню, собрал письма и позвонил в полицию. Потом меня ещё таскали к следователю, допрашивали как свидетеля. Но дело так, по-моему, ничем и не закончилось. А письма теперь у меня. Нет, не дома, так что обыск не нужно устраивать.
Герман. Вот это поворот. Ну, так как вы всё-таки оцениваете эти письма? Подлинные они?
Михаил Фёдорович. Весьма может быть. Насколько я знаю, они появились в России после Второй мировой войны. Один советский полковник привёз из Германии трофеи – какие-то статуэтки, завёрнутые в куски бумаги. Среди этих бумаг были и письма. Я связывался с немецкими биографами Ницше, и они сообщили мне, что сестра Ницше, заведовавшая после смерти философа всем архивом, нашла пачку писем от Толстого. Она заинтересовалась ими и, когда в России грянула революция, через немецких агентов разыскала одного из толстовцев, который и хранил письма Ницше Толстому после смерти самого Льва Николаевича. Тот толстовец ни за какие деньги не хотел продавать письма. Тогда сестра Ницше опять-таки через агентов решила убрать толстовца. На него был составлен донос. Толстовца расстреляли как контру, а в его доме сделали обыск. Среди чекистов был и немецкий агент. Он-то и нашёл письма и переправил их сестре Ницше. Та хранила их до самой смерти в тридцать пятом году. После её кончины все письма забрал барон фон Бергер – нацистский генерал, помешанный на Вагнере, Анне Карениной и китайском фарфоре. В войну, видимо, наши войска оказались в особняке фон Бергера, откуда полковник и забрал ценности, завернув их в письма. Как они попали к букинисту – не знаю. Он никогда об этом не говорил, хотя я и спрашивал. Но наш общий знакомый, тоже букинист, сказал мне уже после смерти Буквального, что сам Буквальный проходил службу в полку, которым командовал тот полковник. Я думаю, Буквальнов каким-то образом попал в дом к полковнику и обнаружил эти письма. Может, переносил ящики с фарфором или ещё что.
Евгений. Так если письма у вас, то, может, и поговорим об их приобретении. Шеф даст немало.
Михаил Фёдорович. Вы не первые.
Герман. Может, покажете снимки писем.
Михаил Фёдорович. Покажу. Они у меня на компакт-диске. Посмотрим на большом экране.
Достоев включил DVD-проигрыватель, вставил диск. Включил телевизор, попал на рекламу. Рекламный ролик: коршун клюёт печень у Прометея. Но Прометей не испытывает боли и даже улыбается. Слоган: «Наш препарат – эффективная защита печени от внешних посягательств. Проверено Прометеем». Достоев перевёл телевизор в режим DVD.
Михаил Фёдорович (нажимая кнопку пульта). Сейчас глянем. Снимки не везде хорошие, но читается всё. Ницше пишет Толстому по-немецки. Толстой отвечает по-немецки, по-французски и по-русски. Очерёдность не всегда удаётся проследить. Каждый всё больше о своём печётся. Я выстроил их согласно своим выводам, и наверняка это не все письма. Я не думаю, что букинист что-то прятал. Ему также была интересна последовательность, а её мог определить только я, видя все письма. К тому же я перевёл их все. Здесь есть и переводы.
На экране появлялись в режиме слайд-шоу листки бумаги, испещрённые мелким почерком. Некоторые письма обрывочны.
– Мы вряд ли разберём их, – сказал Евгений. – Нам важно знать, подлинные ли они и согласны ли вы продать их.
– Они подлинные, – уверенно заявил Достоев. – Но насчёт продажи не могу ничего сказать. У меня таких планов нет.
– Можно мы скинем копию писем на флэшку? – попросил Герман. – Мы всё-таки хотим ещё проконсультироваться.
Михаил Фёдорович. Скопировать можно, но определить подлинность по электронной копии нельзя.
Евгений. Ну, мы хотя бы прочтём. Это нам интересно.
– Копируйте вон на том компе, – согласился Достоев. – А что, вам действительно интересно?
Герман. Очень. Вот если б вы ещё рассказали о переписке популярно.
Михаил Фёдорович. Тогда к столу. У меня славный коньячок и горький шоколад.
– Общее у Толстого и Ницше – отрицание метафизики, – начал Достоев. – У Ницше человек с безграничеными возможностями – сверхчеловек. Толстой же выступал против эксплуатации человека сверхчеловеком, говоря постоянно о добре и народе.
Евгений. Да, Толстого трудно представить с ядерным чемоданчиком.
– Это точно, – подтвердил Достоев. – Так вот: Ницше любил греков и римлян, но у греков была в чести покорность судьбе. У Ницше – борьба с судьбой. Он был судьбоборец.
Достоев хмелел. Пил много, говорил быстро:
– Ницше уходит в свой мир, не приглашая в него. Он аристократ. Толстой идёт в мир к мужику, стремясь изменить его под себя: «делай, как я», «иди за мной».
– Послушайте, – не выдержал Герман, – может, всё-таки продадите письма, а мы сами посмотрим.
Достоев резко смолк и уставился в пол. После минуты молчания, уже изрядно захмелевший, он с напряжённым лицом повернулся к Герману, перевёл взгляд на Евгения и сказал тихо:
– Если б вы знали… Я за эти письма… – он вдруг закричал. – Я за эти письма Буквального убил! Да, убил! Его гопники только по голове ударили, оглушили. А я, когда к нему подошёл и понял, что он без сознания, решил, что вот он, шанс. Его ловить надо. Письма у меня перед глазами были. Я не хотел делиться. Я забежал на кухню, вынул из ящика с инструментами сапожный нож и ударил им букиниста в живот, потом свалил всё на гопников. Пока ехали менты, я несколько раз поднимался к букинисту проверить, как он там подыхает. Один раз даже не выдержал и ещё раз пырнул его ножом. Взял только письма. Больше ничего не брал. Я же не сволочь последняя, чтобы красть чего. Я только письма взял. Они у меня должны быть все до одного. Вон отсюда! Мои они! Вон!
Евгений и Герман спустились в метро:
– Может, пошантажируем его? – предложил Герман.
Евгений. Мы же его на диктофон не записали, а так… что предъявишь? Да и всё это на бред пьяный смахивает. По ходу, нечего там ловить.
Герман. И всё же завтра нужно звякнуть, так сказать, по горячим следам.
В опустынненом вагоне Евгений вставил флэшку в лэптоп и стал читать письма в переводе. Герман дремал. Текст, Ницше – Толстому: «Граф, я уверен, что такой не европеец, но миссионер высокого идеализма, как Вы, возделает оазис истинного счастья. Я всегда полагал, считает ли кто-либо что-либо «истинным» или собирается считать, зависит, скорее, от его внутренней решимости, от степени его решимости. У Вас эта решимость есть, и Вы об этом хорошо осведомлены. Я-то сам нечасто отваживаюсь на то, чтобы знать о себе. И часто говорю об этом. Но имейте в виду, что философия, какой владею я, уподобилась могиле, и в ней уже не живёшь, а незаметно существуешь. Но с этим можно умирать, а это сильнее, чем если бы с этим можно было бы жить. Я этим и не хвалюсь перед Вами, и Вами-то особенно, но считаю нужным объяснить тот факт, что мне и только мне виднее отсюда, из моей среды-обители, как оболванивают умы механистическими идеями с одной стороны и возделывают оазисы пышных добродетелей под маркой «очеловечивания» с другой, придерживаясь благочестивой морали. Вы, граф, правы, твердя повсеместно о «греховном землетрясении», но разве был бы кто неправ, твердя обратное? Мало ли бездомных проповедников, тыкающих в мир пальцем и говорящих о его кончине. А дальше – проповедь, а там, где проповедь, там и угроза. И чем нравственнее авторитет, тем более действенны угрозы проповедника. Но разве не пустыню оставляет он вокруг себя, выдавая себя же за оазис спасения?».
Толстой – Ницше: «Только протест мой против искажения истины и искание твёрдой основы для правды подтолкнули меня на ответ Вам. Вас, господин Ницше, я считаю безумцем со спутанными, отрывочными мыслями, ничего стройного и последовательного не имеющим. А безумец – прежде всего тот человек, которого не понимают. Вы такой. Вы ниспровергатель, и ниспровергатель отъявленный, и Вас не поймут, а за непонятыми не идут. Пренебрежение к аскетическим идеалам и глубокое неприятие всенародного равенства, Ваши аристократические крайности, Ваше презрение к этике сострадания для меня не вполне объяснимы. И может ли это быть объяснимо и понято кем-то ещё? Что до востребованности, то да: модное у нас любят, жалуют и берут на вооружение те, кому по душе такое оригинальничание. Вы проповедуете ложное отношение к философии, которая должна задаваться вопросом «что делать?», а то, что есть, нам и без того известно. Но не одной философией Вы ограничились. К искусству у Вас также ложное отношение, и литература Вами не забыта. Декадентская наглость, отрицание, неуёмный разврат – вот Ваши темы, как и у подобных Вам эстетов. И всё это Вы зовёте новой культурой. А между тем нет никакой культуры. Есть добро, и оно выше всякой культуры и науки. Но Вы его нещадно попираете. И хуже всего то, что за Вами всё же идут».
Ницше – Толстому: «Вы, граф, называете меня ниспровергателем и отрицателем. Я же пишу вам из Ниццы, из места под солнцем, где сама мысль о ниспровержении и отрицании является неуместной. То ли дело Ваш север. Мой знакомый профессор-филолог, пребывающий ныне в Петербурге, читает там лекции и пропагандирует мои работы. Я скажу Вам то, что сказал и ему, а именно: мне жаль Вас на Вашем в нынешнем году особенно зимнем и угрюмом севере. Как там вообще удается сохранить душевные силы?! Я преклоняюсь едва ли не перед каждым, кто под пасмурным небом не теряет веру в себя, не говоря уж о вере в «человечество», в «брак», «собственность» и «государство»… В Петербурге я был бы нигилистом; здесь я верю, как верит растение, в солнце. Солнце Ниццы – это, и в самом деле, не выдумка. Мы наслаждаемся им за счёт остальной Европы. А что до аскетизма, то Вам известно, граф, моё болезненное состояние. Эти непрекращающиеся боли – мой ужас, и он заставляет меня жаждать конца. Я надеюсь, это спасение, этот последний удар многое разрешит. Но я не боюсь каждую ночь спускаться в ад. Бесконечные мучения подвигали меня к самоограничению, и я превратился в аскета. Но душа моя прояснилась настолько, что мне не нужны ни проповеди, ни религия, ни искусство. Моя боль очистила меня. Мой ужас сделал меня сильнее. И я не обвиняю жизнь. И никакая боль не сможет заставить меня лжесвидетельствовать против жизни, какой я её вижу. Есть много средств, чтобы стать сильнее и широко расправить крылья: лишения и боль относятся к их числу, они – средства из арсенала мудрости. Вновь и вновь торжествующая над всеми невзгодами песнь радости, не правда ли, это жизнь! Такой она может быть. Вы упомянули добро, граф. Но в чём есть добро для слабого? – сделаться сильным. Что есть братская любовь всех людей? – лишиться рабской морали. Но рабу всегда будут недоступны наука и культура – это слишком тонкое, как яблочная кожура, состояние для него, а значит, любить он будет самого себя и подобных себе. Вы пытаетесь убить старого бога рабов и творите нового бога – бога добра для плебеев. Рабство – это серость. Серость не потерпит ни Вас, ни меня. С тем, с чем они не могут сосуществовать и ужиться, они попытаются расправиться. Просто не дадут тому быть. Но Вас ещё кое-кто из них послушает, потому что собственность можно разделить в общине, а здесь они толк знают. И в этом их главный идеал. И не проповедь, и уж тем более не философия им нужна. Они жаждут своего оправдания – оправдания себя. Рабство не отменяется в человеке, даже если он меняет веру. Сказано же: «Недостаточно рабу стать христианином, чтобы его можно было считать свободным человеком». Эти люди – рабы своей морали, морали рабов. Такова уже, видно, судьба слабейших: всегда они служили и служат средством для сильных, иначе сила перейдёт ко многим и многим слабейшим с рабской моралью. Если не послужат они воле, то пусть доставляют хотя бы христианские утешения. Невыносимо видеть Европу, истоптанную толпами рабов».
Толстой – Ницше: «Ваш тон по поводу людей, как Вы выразились «плебеев», весьма дурный, и я списываю всю эту Вашу новомодную желчь на Ваше болезненное состояние, коему и солнце Ниццы помочь не в силах. Я же среди людей низкого или простого происхождения наблюдал ситуацию, обратную Вами описанной. Простой крестьянский и рабочий люд, если они не погрязли в низости и вульгарщине, но действительно очутились в бедственном положении, нередко вместе с возрастанием душевных страданий и противостояния опасности прибавляют и в силе, продуманности, и уместности выражения в своих речах, без всякого осознания того и представления о том, что ситуация это исключает. Это распространяется даже на физические страдания, которые вы описывали, применительно к себе. Видел я простых людей в боли и страдании, в болезнях и на операциях у хирургов. В молодые годы я видел однажды на операционном столе в хирургической клинике одного старика из низшего сословия, которому обпиливали его больной костяк. Уже вначале, пока его раздевали и перевязывали сосуды, он, стеная и охая, жаловался на боль; однако, когда пошла пила и страдания возросли, жалобы становились громче и громче, но все артикулированней, так сказать, оформленней и достойней. Не беспорядочный крик, не отвратительные взвизгивания, но всё явственнее произносимые слова. А охи и ахи в промежутках хотя и ноющие, но звучащие на излёте всё сдержанней. Говорю и пишу я об этом часто и не только Вам. Считаю своим долгом говорить об этом, чтобы знали, а то и не знают ничего о простых людях и знать не хотят. Вот в чьих душах искра Господня. А где её нет, там пустота и наказание. Если господин Ницше не верит, в то, что бог наказывает, поскольку и в бога-то он не верит, то пусть уразумит, что и само отсутствие бога наказать может. Ведь добрый человек и живёт-то помыслами от бога и действует сообразно с ними. А что как нет их? В том и наказание. Без добра человек ущербен, слеп и немощен духом. Что должно быть главным по отношению к человеку? Природный божественный закон, а не условное постановление государственной машины – вот что должно быть главным по отношению к людям. Вот юрист рассказывает, что печётся о мужике, защищает его на процессе. Говорит, что доброе дело делает, а сам посредником служит между государственной машиной и тем, кто вынужден в ней находиться. И не истину ищут эти защитники, а свою роль как посредников играют и цену набавляют. Обслуживать народ нужно не по принуждению, а добровольно и с охотой. А ведь должно понимать и помнить, что истина открывается мужику не в книгах законников и делопроизводителей и не здесь, посреди этого собрания, а в его собственном сердце и в мужицком разумении. Верить должно не хитроумным писаниям человеческим, а своему открытому сердцу – ему и открывается бог. А где добро, там и бог. Разве добро – это нечто фантастическое? Религиозное сознание нашего времени в осознании добра должно быть».
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































