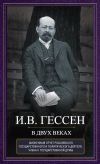Автор книги: Василий Маклаков
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Казалось, все сошло благополучно. Решение состоялось в том смысле, как мы обещали и как хотел попечитель. Деньги великой княгине были отвезены депутацией, в которую вошли председатели и казначеи старой и новой комиссии. Мое участие в этой депутации позднее слева мне поставили тоже в вину. Но, несмотря на благополучный исход, студенческая инициатива с концертами наверху не понравилась. Не понравилось в ней именно то, что нас привлекало: то, что студенты показали себя хозяевами собственного дела, что оказалось необходимым считаться с волей общего собрания, что не начальство, а мы распоряжались. Это противоречило не только духу Устава 1884 года, но [и] духу режима.
Несочувствие не замедлило обнаружиться. Наступило время весеннего концерта. Новая комиссия понимала, что давать концерт в свою пользу теперь было еще невозможней, чем осенью, и возбудила вопрос об устройстве второго концерта на тех же основаниях. Но наверху «продолжения» опыта уже не хотели. Попечитель сообщил комиссии, что разрешения не будет. Кто на этом настоял, осталось загадкой; решение шло, очевидно, не от него, а против него. Возник вопрос: что же делать? Было последовательно одно: от концерта совсем отказаться; давать его в свою пользу было очевидно нельзя. Хозяйственная комиссия предложила это собранию. Она просила меня прийти ее защищать. Я согласился охотно, так как такому решению очень сочувствовал. Но в день заседания попечитель потребовал, чтобы я с речью не выступал, и напомнил, что я у него на поруках. Я подчинился. Предложение комиссии защищали другие. Но настроение было не прежнее. С. В. Завадский был главным оратором против проекта комиссии. Он понимал, что мы отдали первый концерт голодающим, но не мог понять, что мы от концерта хотим совсем отказаться. В его воспоминаниях об этом концерте память ему изменила; спорить ему пришлось не со мной[264]264
См.: Завадский С. В. Указ. соч.
[Закрыть]. При голосовании сошлись голоса правых и левых. Правые не хотели идти против желания власти, а левые защищали нужды студенчества, тем более что новой «подписки» нам бы не разрешили. А демонстрации за чужой счет они не хотели. Предложение хозяйственной комиссии было отвергнуто. Несколько членов ее вышли в отставку, и в нее были выбраны «новые люди». Моя личная связь с новой комиссией оказалась разорванной.
Мне пришлось столкнуться с новым отношением власти и по другому вопросу. Я упомянул, что ушел из хозяйственной комиссии потому, что затевал новое дело, которое мне казалось еще более благодарным. Вот в чем оно состояло. Как известно, студентам было трудно обходиться без литографированных лекций. Издание их сделалось для отдельных студентов источником дохода; издатель нес риск, но зато и наживался, на многолюдных курсах даже чрезмерно. Мы затеяли организовать «общественное издание» лекций, без предпринимательской прибыли. Централизовать издание в одних выборных руках, платить справедливо за труд, но не давать никому наживаться на общей потребности и поставить все дело под контроль выборных студенческих органов. Нас особенно соблазняло, что такая организация была бы более широкой, чем оркестр и хор, охватила бы весь университет без исключения и показала бы всем преимущество общественной самодеятельности. И инспектор, и попечитель опять на это пошли. Профессора нас поощряли. Мы скорее встретили сопротивление в прежних издателях, которых этот план бил по карману. С их стороны предъявлялись возражения самых различных порядков. Но раньше, чем мы окончили разработку проекта, инспектор нас предупредил, чтобы мы не торопились, что против нас ведется интрига, что нас обвиняют в желании создать свою литографию и собирать суммы на «неизвестные цели». Могу засвидетельствовать, что об этом тогда мы не помышляли. Говорили тогда же, что возражения исходили не только от студентов-издателей, но и от некоторых профессоров, которые, как Боголепов, сами издавали свои лекции. Не знаю, где была правда, но едва ли для такого отношения властей надо искать особенно глубоких причин.
Если наши власти были бы способны иначе смотреть, вся их политика была бы иная; но тогда не было бы и «освободительного движения», а потом революции. Тогда общественные силы не ворвались бы на сцену бурно, как непримиримые враги самодержавия, а стали бы выступать постепенно, сначала как простые сотрудники власти, а потом как ее заместители. Поскольку сама власть не хотела такого исхода и продолжала бороться с зародышами самоуправления в обществе, она не могла позволить, чтобы студенчество получило права, в которых власть отказывала взрослому обществу. Нельзя было серьезно мечтать, чтобы правительство покровительствовало студенческому самоуправлению и у нас появилась бы «Парижская ассоциация». Легализаторское движение имело временный успех потому, что его опасности не заметили сразу; потому, что у нас были еще патриархально-благодушные администраторы Добров, Капнист, кн[язь] В. А. Долгоруков, которые не были типичны для занимаемых должностей и один за другим скоро ушли. Капнист, над которым так смеялись студенты, был всегда их ярым защитником. Позднее из напечатанных воспоминаний Н. П. Боголепова я увидел, как злобно он относился к Капнисту[265]265
В действительности об отношении Н. П. Боголепова к графу П. А. Капнисту В. А. Маклаков мог узнать из воспоминаний не Н. П. Боголепова, а его вдовы – Е. А. Боголеповой. «После брызгаловской истории, – писала она, – значительно участились студенческие беспорядки, которые стали повторяться чуть ли не каждый год. Они вызывали полную растерянность, в образе действий инспекции, попечителя и министерства, при торжестве и злорадстве большинства профессоров: последние видели во всем случившемся доказательство, что без них академическая жизнь невозможна. Министерство вместе с попечителем действовали близоруко. Решив прислушиваться к голосу профессоров, они стали слушать не голоса более благоразумных, а соображения и мнения более настойчивых. Наступил период беспокойных уступок профессорам и студентам. Ректор Иванов, человек бесхарактерный, настоящий тип кабинетного ученого, с трудом разбирался в путанице новых отношений и исполнял все придирчивые, неуместные требования как профессоров, так и студентов; также и инспектор Добров, гонявшийся за популярностью, всячески угождал несправедливым притязаниям недовольных студентов. Пользуясь своим правом частого доклада попечителю помимо ректора, он придавал делу желаемую окраску и успешно добивался своих целей. Скромные, но добросовестные университетские деятели, жаждавшие успокоения университета, оставались в стороне» (Николай Павлович Боголепов. II. Записки его супруги, Екатерины Александровны (урожденной светлейшей княжны Ливен) // Русский архив. 1906. Кн. 3. С. 387).
[Закрыть]. Н. П. Боголепов на все смотрел совершенно иначе. Я мог это испытать на себе. Капнист взял меня на поруки; а когда в Москве открылась Глазная клиника и было торжественное ее освящение, на котором присутствовал Боголепов, как ректор, мой отец, как директор клиники, меня представил ему. Боголепов холодно и внимательно меня осмотрел и только сказал: «А, это тот самый, подвергавшийся». Скоро он сменил Капниста на посту попечителя, и когда П. Г. Виноградов меня представил к «оставлению при университете», он отвечал: «Пока я попечителем, Маклакову кафедры не видать»[266]266
Позднее В. А. Маклаков вспоминал: «Я до сих пор точно не знаю, почему Боголепов принял против меня эту меру. Думаю, что для этого был только личный мотив. У меня с ним в его бытность ректором произошла маленькая неприятность. Возможность отплаты за нее показывает характер этого человека. Когда в 1891 году хозяйственная комиссия давала концерты уже в пользу студентов, а не голодающих, по Москве пошли слухи, что Боголепову на этом концерте будет устроен такой же скандал, как когда-то Брызгалову. Для меня было ясно, что все это вздор. Тогда мы имели уже средства об этом наверное знать, если бы это была правда. Но Боголепов, поверив слуху, пришел на концерт, окруженный кольцом педелей и распорядителей так, что подойти близко к нему было нельзя. Он не ограничился такой демонстрацией. Когда концерт благополучно окончился, он созвал тех, кто его оберегал, и благодарил их за то, что они его спасли от скандала. Я тогда был еще не равнодушен к репутации оркестра и хора, и такое публичное обращение, как будто подтверждавшее, что на концерте, где студенты были хозяевами, только полицейская сила ректора оберегла, по моему пониманию, компрометировало студенческое учреждение. Я написал Боголепову письмо, в котором его заверял, что он ошибся, и просил для достоинства университета этому слуху не позволять укореняться. Я не ожидал, что, отправляя это письмо для защиты репутации университета, я этим его, ректора, оскорбляю. Но он на это письмо посмотрел только как на нарушение дисциплины и пожаловался на меня попечителю. Об этом было много толков в Москве. Жалоба не имела последствий, так как попечитель ответил, что ректор, если хочет, может сам предать меня суду правления, где он был председателем. Для экстраординарного же вмешательства попечителя в частную переписку повода не было. Боголепов потерпел неудачу, но дождался оказии и это припомнил» (Маклаков В. А. Воспоминания. С. 181–182).
[Закрыть]. Кн[язь] В. А. Долгоруков на посту генерал-губернатора был заменен великим князем Сергеем Александровичем. Старая Москва уходила. На ее место приходили люди без благодушия и добродушия. Они поняли то, чего не понимали старые администраторы: что наше течение могло стать политически опасным, если бы дать ему развиваться свободно. Более проницательные догадались, что можно в полицейских целях использовать склонность к легальным общественным организациям. Из этой догадки выросло то своеобразное русское явление, которое стало называться зубатовщиной[267]267
Зубатовщина – политика полицейского социализма, проводившаяся в России по инициативе начальника Московского охранного отделения С. В. Зубатова, которому в конце XIX – начале XX в. покровительствовали московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, московский обер-полицмейстер Д. Ф. Трепов и министр внутренних дел В. К. Плеве. В русле этой политики в целях легального решения рабочего вопроса по инициативе охранных отделений, местных учреждений Департамента полиции, создавались профессионально-просветительные организации рабочих. Попытки московской полиции регулировать отношения между рабочими и фабрикантами в пользу первых имели место еще в 1898 г. В 1901 г. С. В. Зубатов изложил в особой записке Д. Ф. Трепову, поданной им Сергею Александровичу, идею создания легальных организаций рабочих под контролем полиции с целью улучшения их быта и отвлечения пролетариата от влияния на него революционных учений. В том же году в Москве возникли две первые зубатовские организации – общества взаимного вспомоществования рабочих в механическом производстве и ткачей. В 1902–1903 гг. подобные объединения были созданы также в Киеве, Минске, Николаеве, Одессе и Харькове. Кроме того, С. В. Зубатов инспирировал создание Независимой еврейской рабочей партии, которая появилась в конце 1901 г. и рекрутировала рабочих Северо-Запада. С назначением С. В. Зубатова в 1902 г. начальником Особого отдела Департамента полиции он начал насаждать свою систему и в Петербурге, однако зубатовщина способствовала не канализированию, а дальнейшему развитию рабочего движения. В 1902 г. зубатовские организации организовали стачки на московских фабриках, а также в Минской губернии, в июле 1903 г. – всеобщую забастовку фабрично-заводских и портовых рабочих Одессы. Хотя тогда же С. В. Зубатов получил отставку, зубатовщина продолжалась и впоследствии. В феврале 1904 г. с разрешения Министерства внутренних дел был утвержден устав Собрания русских фабрично-заводских рабочих С.-Петербурга во главе со священником Г. А. Гапоном.
[Закрыть].
Интересно и поучительно то, что недоброжелательству властей помогли и новые студенческие настроения. Конечно, они были и раньше, но в известное время они начали овладевать студенческой массой, которая стала поддерживать их, как раньше она поддерживала «легализаторство». Всякое явление трудно заметить вначале. А для меня это было тем труднее, что в это приблизительно время я сам отошел от студенческой общественной деятельности и переживал полосу другого увлечения, которое пришло неожиданно, как почти всё в моей жизни. Я позволю себе на нем остановиться.
В том же 1891 году, как и голод, в Британском музее был открыта рукопись Аристотеля, «Ἀθηναίων πολιτεία»[268]268
«Афинское государство» (др.-греч.).
[Закрыть], из которой до тех пор был известен только отрывок из пяти строк. Об этой рукописи тогда появилось много специальных работ, и не было специалиста по греческой истории, который бы по ней не проверял своих старых воззрений. П. Г. Виноградов на своем семинарии задал студентам работу «Об избрании жребием в Афинском государстве» на основании сочинения Fustel de Coulanges’a и Headlam’a. Оба сочинения стояли на разных позициях; оба были написаны до открытия рукописи Аристотеля. И, однако, после открытия ее оба нашли, что Аристотель их воззрения подтвердил. Fustel de Coulanges’a в живых уже не было, и это сделал за него издатель его сочинений, профессор Jullian[269]269
См.: Fustel de Coulanges N. D. Questions historiques. Revues et complétées d’après les notes de l’auteur par Camille Jullian. París: Hachette, 1893.
[Закрыть], который недавно умер в Париже. А Headlam сделал это сам, издав к своей книге Appendix[270]270
См.: Headlam J. W. Election by lot at Athens. Prince Consort dissertation, 1890. Cambridge: At the University Press, 1891.
[Закрыть], в котором отмечал, насколько Аристотель его в его взглядах подтверждает[271]271
Имея в виду новонайденное сочинение Аристотеля, В. А. Маклаков позднее вспоминал: «Немудрено, что изучение этого сочинения было поставлено первой программой “семинария” для специалистов и привлекало к нему даже посторонних людей. На этом семинарии состоялось и мое посвящение в ученый цех. Виноградов стал задавать его участникам доклады по различным вопросам греческой истории, которые совместно с ним обсуждались. Одной из первых заданных Виноградовым тем была “Избрание жребием должностных лиц в Афинском государстве”. Он поручил доклад об этом двоим: мне и Готье, впоследствии профессору русской истории в Московском университете. Материалом для разработки этих докладов должны были быть два сочинения: одно Фюстеля де Куланжа, вышедшее в издании его посмертных статей под редакцией французского профессора Жюльяна, и другое недавнее сочинение – Headlam’a “Election by lot”. Второй книги в продаже в Москве еще не было, и Виноградов давал для прочтения личный свой экземпляр. Он его и отдал сначала Готье. Я же начал работать над заданной темой, имея только статью Фюстеля де Куланжа, который развивал в ней те самые взгляды, что и в своей классической “Citè Antique”. Читая эту работу, где жребий изображался как религиозный обряд, имевший целью привлечь выражение воли богов к избранию властей, я отмечал себе слабые стороны этой теории и постепенно составил другую. Когда Готье кончил читать данный ему экземпляр и я его от него получил, я был огорчен тем, что книга Хедлама почти целиком соответствовала тому, что я сам надумал: я открывал Америку уже открытую. Но тогда меня заинтриговало уже другое. Оба сочинения были написаны до открытия пергамента Аристотеля, но вышли в свет уже после этого. Жюльян, издавший Фюстеля де Куланжа, снабдил его статью примечанием, в котором доказывал, что аристотелевский трактат теорию Фюстеля де Куланжа подтвердил, и подчеркивал гениальность ученого, который это предвидел. Хедлам же сам прочел его до выпуска своей книги и успел потом приложить к ней Appendix, в котором доказывал, что Аристотель взгляды его подтверждает. Получился курьез: два ученых в одном и том же сочинении нашли подтверждение своим противоположным теориям; очевидно, здесь сказывалось влияние предвзятого взгляда» (Маклаков В. А. Воспоминания. С. 169–170).
[Закрыть]. Отчасти по этой причине, а отчасти по другим, о которых не стоит рассказывать, я вышел за пределы поставленной Виноградовым задачи и попытался дать объяснение жребию исключительно на основании непредвзятого отношения к Аристотелю[272]272
Более подробно о подготовке своего семинарского доклада В. А. Маклаков писал позднее: «Я решил взять исходным пунктом не Фюстеля де Куланжа и не Хедлама, а самого Аристотеля: посмотреть без предвзятости, что именно он об этом сказал. Это было интересной работой, потому что приходилось идти новым путем, считаться с новыми фактами и самому для них искать объяснения. Сразу стало ясно, что оба ученых, в сущности, говорили о разных эпохах. Фюстель де Куланж – о глубокой древности, где можно было, не рискуя существованием государства, доверить жребию как выразителю воли богов избрание своих правителей, другой – о позднейшей эпохе развитой демократии, когда подобное основание выборов должностных лиц было немыслимо; Хедлам объяснял, и очень наглядно, почему при позднейшем государственном устройстве Афинской республики, когда государством управляли не должностные лица, а “неизменная экклезия” – народное собрание, которое ни от жребия, ни от выборов не зависело, избрание всецело подчиненных ему должностных лиц жребием было возможно и даже желательно. Было легко видеть, что между обеими точками зрения настоящего противоречия нет, и потому можно было найти в Аристотеле подтверждение и того, и другого. Но оставался все же пробел. Что происходило в эпоху между стариной и тем позднейшим развитием демократии, когда всем правила уже экклезия? Как исчезал прежний жребий и как появлялся второй? Ответ на это я и нашел в трактате Аристотеля, правда, в виде намеков, отдельных штрихов, относящихся сначала к эпохе Солона, а потом – Клисфена. Но это позволило мне предложить гипотезу о жребии как естественном выходе из непреодолимого затруднения. В эпоху Солона таким затруднением было существование четырех родовых фил, на которые распадалось государство и которые требовали для себя равного участия в управлении всем государством; в позднейшую же эпоху таким затруднением была необходимость назначения второстепенных властей таким способом, который бы не позволил им считать себя выше экклезии, то есть народного собрания, которое должно было оставаться в государстве суверенным властителем. Этот смысл демократического жребия и был блестяще выяснен Хедламом. Моя работа свелась к изображению исторического процесса в эту эпоху, выяснению связи жребия с реформой Клисфена, который заменил родовые филы территориальными. Все это находило подтверждение и объяснение в пергаменте Аристотеля. И я кончал мой доклад такими словами: “Жребий сам по себе не имеет никакой политической сущности, не есть выражение определенной государственной идеи, будь то народоправства или олигархии; он действовал в разное время, по разным поводам и с разными последствиями. Ошибочно считать демократию понятием, его создавшим; при возникновении своем он не был вызван ни политическим принципом, ни конституционной теорией. Если искать то общее, что заставляло греческую мысль прибегать к жеребьевке как в VI, так и в V веке, то мы найдем, что причиной жребия в политической сфере было то же, что и в обыденной жизни: к жребию обращались тогда, когда почему-нибудь становилось невозможным избрание. Когда в эпоху Солона дело шло о назначении одного магистрата из четырех кандидатов, представленных равноправными филами, или когда в V веке идея народоправства требовала избрания народом, а сами избиратели имели и равное право, и равную претензию на занятие должностей, нетрудно видеть, что выбор, который и исторически, и логически предшествовал жребию, делался невозможным, и тогда жребий становился наилучшим исходом даже с нашей предубежденной против него точки зрения. Жребий возник, следовательно, не как плод политической изобретательности, а скорее как уступка практической необходимости и начал действовать в Афинах раньше, чем была придумана государственная теория, его объясняющая”. Таков был мой научный дебют: он дал мне ряд поводов для тщеславия. Я ничего не говорил Виноградову о ходе моей работы, а передал ему уже готовый доклад за несколько дней до семинарии. По заведенному порядку, на нашем семинарии каждый излагал свой доклад, а Виноградов потом давал свое заключение. В данном случае Виноградов начал с того, что похвалил Готье, который правильно указал, что коренного противоречия между двумя сочинениями нет, но прибавил, что он не может на этом остановиться, так как доклад Готье поглощен моим, который изложил новые соображения, из которых он не хочет вычеркивать ни одного слова, и потому просит меня мой доклад полностью прочесть. Во время чтения он меня останавливал, чтобы объяснять и дополнять студентам то, что могло в докладе казаться им непонятным. Кончил тем, что мою гипотезу жребия лично он, Виноградов, вполне принимает: он на втором курсе уже читал о Солоне и в следующей лекции внесет в свое изложение те поправки, которые вытекают из моего реферата» (Маклаков В. А. Воспоминания. С. 171–173). Ср. в воспоминаниях Ю. В. Готье: «Я выбрал тему о происхождении обычая избрания по жребию в Афинах на государственные должности, но большого успеха не имел. На разборе П[авел] Г[аврилович Виноградов] сказал, что хотя мой реферат мог бы служить предметом разбора, но его содержание покрывается другим, автором которого был В. А. Маклаков, тогда студент 3-го курса и усердный слушатель Виноградова» (Готье Ю. В. Университет // Московский университет в воспоминаниях современников: сборник. М., 1989. С. 562).
[Закрыть]. Моя работа так понравилась Виноградову, что он напечатал ее в «Ученых записках Московского университета»[273]273
Имея в виду П. Г. Виноградова, В. А. Маклаков позднее вспоминал: «После окончания семинария он позвал меня в свой кабинет, еще раз выразил мне свое удовольствие и сказал, что этот доклад надо непременно напечатать, но что будет необходимо над ним еще поработать, возразить тем, кто в своих сочинениях об этом судил иначе. Все это потребовало немало труда: мне пришлось для этого прочесть несколько сочинений, в том числе даже одно, написанное немецким ученым Зауппе по-латыни, – “De creatione archontum”, и другого нашего московского, ученейшего, но скучнейшего и бездарного профессора Шефера. Когда моя работа была напечатана в “Ученых записках” Московского университета, в ней было уже 92 печатных страницы вместо 10–15 рукописных в ученической тетрадке. Вместе с моей работой была напечатана и очень специальная статья Гершензона об Аристотеле и Эфоре, далеко не лучшая из того, что писал Гершензон. В предисловии к обеим работам Виноградов написал, что “работа Маклакова предлагает интересное и оригинальное объяснение двухстепенности выборов древних афинских магистратов. Признание или отвержение предложенной автором гипотезы будет в значительной степени зависеть от авторитета, который тот или другой ученый признает за свидетельством Аристотеля”» (Маклаков В. А. Воспоминания. С. 173).
[Закрыть]. Я получил сотню авторских оттисков, которые по его указанию рассылал русским ученым – классикам и историкам[274]274
См.: Маклаков В. А. Избрание жребием в Афинском государстве // Исследования по греческой истории. I. Избрание жребием в афинском государстве. В. Маклакова. II. Аристотель и Эфор. М. Гершензона. М.: Университетская типография, Страстной бульвар, 1894. С. 1–94.
[Закрыть]. Они вызвали несколько рецензий и с похвалою, и с критикой, на которые я опять отвечал в специальных журналах[275]275
Впоследствии В. А. Маклаков отмечал: «“Ученых записок” университета, по-видимому, никто не читал, но я получил от типографии более сотни оттисков, которые по указаниям Виноградова рассылал различным профессорам и ученым. Работа не прошла незамеченной в мире специалистов, о ней появились статьи в разных журналах (например, профессора Мищенко), на которые, по совету Виноградова, а также и А. Н. Шварца, я тогда отвечал. Профессор Харьковского университета Бузескул выпустил свою книгу, если не ошибаюсь, двухтомную историю Греции, где, говоря об эпохе Солона, часто мою работу цитировал или упоминал о ней в примечаниях» (Маклаков В. А. Воспоминания. С. 173–174).
[Закрыть]. Эта работа, а главное, этот успех меня захватил. Я стал много работать у Виноградова, стал кандидатом в ученые и на студенческую общественную деятельность у меня не хватало ни времени, ни внимания. Я не сделал ученой карьеры; как я говорил, Н. П. Боголепов отказался меня при университете оставить. П. Виноградов уговаривал меня не смущаться и готовиться к магистерскому экзамену дома. «Такой дурак, как Боголепов, – утешал он меня, – долго попечителем не пробудет». В этом он не ошибся, но только Боголепов из попечителей попал в министры народного просвещения[276]276
Н. П. Боголепов был назначен управляющим Министерством народного просвещения 12 февраля 1898 г.
[Закрыть]. Но совету Виноградова я не последовал. Я был прав. Закулисная сторона моей ученой работы мне показала, что у меня не было настоящей жилки ученого. Барьеров, которые мне ставил отказ Боголепова и которые перепрыгнуть было нетрудно, я брать не хотел. Я подал прошение о дозволении держать мне государственный экзамен на юридическом факультете экстерном, не слушая курсов, выдержал его и стал адвокатом.
Вспоминаю курьезы в связи с этим эпизодом. Я был членом Государственной думы, когда моя сестра[277]277
Имеется в виду Мария Алексеевна Маклакова.
[Закрыть] встретила у депутата М. Я. Капустина казанского профессора-филолога Мищенко. В свое время Мищенко о моей статье напечатал рецензию[278]278
См.: Мищенко Ф. Г. Русские новости греческой историографии // Ученые записки Императорского Казанского университета. 1894. Кн. 5. С. 1–40.
[Закрыть]. Он поинтересовался узнать, не знает ли моя сестра судьбы молодого ученого, носившего ту же фамилию, напечатавшего когда-то интересную работу по истории Греции и потом с научного горизонта исчезнувшего. Узнавши, что это я, он долго не верил, а потом со вздохом сказал: «А мы от него так много ждали». Еще забавнее, что здесь, в Париже, М. И. Ростовцев случайно узнал от меня, что я был автором этой статьи. Он рассказал, что ее сам не читал, но, по выдержкам из нее в книге профессора Бузескула[279]279
См.: Бузескул В. П. «Афинская полития» Аристотеля как источник для истории государственного строя Афин до конца V в. Харьков, 1895. См. также: Бузескул В. П. Рецензия на книгу: Исследования по греческой истории. I. Маклаков В. Избрание жребием в Афинском государстве. II. Гершензон М. Аристотель и Эфор. М., 1894 // Филологическое обозрение. 1894. Т. 7. Отдел 2. С. 3–9.
[Закрыть], ею был заинтересован и запрашивал Бузескула, где была помещена эта статья. Тот ответил, что не имеет понятия; что когда-то он получил авторский оттиск и больше об авторе ничего не слыхал. Насколько помнил, я изложил М. И. Ростовцеву свои тогдашние выводы, и он мне говорил, что эта работа и теперь не потеряла бы своего интереса. Я сделал попытку достать «Ученые записки» этого года. Профессор Курчинский в Дерпте пересмотрел их за 1894 год, но моей статьи не обнаружил. Правда, самые «Ученые записки» в Москве не просматривал и имел в руках только оттиски – но они были не миф, и я недоумеваю, как объяснить это исчезновение[280]280
Мне недавно удалось получить из Москвы оттиск этой работы и воочию убедиться, что это не миф.
[Закрыть].
Вот эта неудавшаяся попытка войти в цех ученых помешала мне заметить первые сдвиги налево в студенческих настроениях. Как всегда, они предварили аналогичные сдвиги среди взрослого общества. Историк говорит, будто общественное оживление можно приурочить к 1891 году, к тогдашнему голоду и неуменью правительства собственными силами справиться с ним[281]281
«Историком» В. А. Маклаков называет А. А. Кизеветтера, который вспоминал: «В 1888 году я окончил университет, а в 1891 году разразился неурожай и голод, и общество встрепенулось. 1891 год явился решительною гранью в ходе общественных настроений. Начинавшиеся 1890-е годы обещали быть во многом непохожими на только что изжитое десятилетие». В главе 5 своих воспоминаний, под характерным названием «Оживление», А. А. Кизеветтер писал: «Эта двухлетняя “работа на голоде”, в которой приняли участие многочисленные добровольцы, повлекла за собой решительный поворот в общественных настроениях. Картины народного бедствия произвели на всех, кто “работал на голоде”, потрясающее впечатление и вызвали в обществе глубокое раздумье. Дело было не в том, что Россию постиг неурожай хлебов. То было стихийное бедствие, объясняемое атмосферическими условиями. Но почему неурожай обрек крестьянское население неурожайных местностей на голодную смерть? Почему деревня оказалась беззащитной перед лицом стихийного бедствия? Почему у нее не нашлось тех запасов, которые могли бы помочь ей пережить без особых страданий неурожайный год? Было совершенно очевидно, что ответа на эти вопросы нужно было искать уже не в атмосферических условиях, а в социально-политической обстановке. Становилось слишком ясным, что в этой социально-политической обстановке кроется какой-то глубокий порок, который никак нельзя было долее оставлять без внимания, не рискуя разорением крестьянского хозяйства, которое составляло фундамент всей экономической жизни страны. В чем же состоит основная болезнь русского государственного организма и как ее лечить? Вот вопросы, которые встали тогда перед общественным сознанием и к которым общественное внимание устремилось не во имя отвлеченно-теоретических интересов, а под давлением жгучей тревоги за дальнейшие судьбы родины. Ужасы голодного 1891 года предстали перед глазами общества как некий итог предшествующего периода контрреформ, когда правительственная власть вела политику, не отвечавшую насущным интересам и потребностям народной массы, а общество охладело к вопросам государственной жизни и заняло позицию равнодушного постороннего зрителя того, что совершается на государственной арене. Работа на голоде и вывела общество из этого временного столбняка. Новое настроение прежде всего выразилось в среде земских деятелей. В начале 1890-х годов в земских кругах обнаруживается значительное оживление и снова выдвигаются давнишние стремления к созданию представительного государственного строя» (Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий: воспоминания 1881–1914. М., 1997. С. 136, 139–140; впервые: Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий: воспоминания 1881–1914. Прага, 1929).
[Закрыть]. Через немного лет после этого на общественной сцене заняло прочное место новое явление «марксизм» и его схватки со старым «народничеством». Так кончился период апатии и уныния. Марксизм, не говоря о внутренней его ценности, принес с собой то, что толпе всегда импонировало, – самонадеянность, нетерпимость и агрессивное отношение к старым авторитетам. Тогда началась переоценка ценностей, пересмотр прежней тактики, появились, наконец, «властители дум». Помню эти разорвавшиеся бомбы – книги Плеханова, Струве[282]282
Подразумеваются следующие книги: Плеханов Г. В. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю. СПб., 1895; Струве П. Б. Критические заметки к вопросу об экономическом развитии России. СПб., 1894.
[Закрыть] и др., диспуты о низких ценах, марксистские журналы[283]283
Имеются в виду журналы «Новое слово», «Начало», «Мир Божий».
[Закрыть], осмеяние старых интеллигентских рецептов и «курс» на фабричных рабочих. Все это было позднее; и прежде всего это отразилось, как в выпуклом зеркале, на студенческой жизни. Но в мое время этого еще не было. Самое слово «марксизм» тогда еще не имело права «гражданства». Появились поклонники только «экономического материализма», противники «индивидуальных» политических действий, проповедники то «научных», то «диалектических» методов в общественном деле. Это не было новым поколением; они были моложе нас всего на несколько курсов. Но настроение их уже было иное.
Чтобы задним числом оценить это переломное время, мне было интересно и очень полезно прочесть его описание в тех мемуарах Чернова, которые я уже цитировал выше. Я не помню, встречался ли я с ним в университете; он был моложе меня и стал играть роль в студенческой жизни, когда я от нее отошел. Но если даже личных столкновений с ним у меня не было, то его воспоминания многое мне открывают.
Вместе с явившейся тогда «сменой» в студенчестве вновь воскресло «подполье» как классический, традиционный тип русской организации. Наше прежнее стремление к открытой организации, для чего мы были готовы делать большие уступки, заменилось с руководством из тайного центра. В этом подполье выделялись новые, свои вожаки, с особыми свойствами и талантами; многие из них свое влияние потеряли, когда позднее им пришлось действовать уже открыто. Руководящий центр, естественно, подпал под влияние крайних политических партий; это – Немезида режимов, которые загоняют в подполье. Таким новым центром в студенчестве явился Союзный совет, сменивший прежнюю скромную и не претенциозную Центральную кассу. Союзный совет смотрел на себя как на руководителя всей студенческой жизнью, и тенденция «легализаторства» являлась для него конкурентом; Союзный совет решил ее задушить, чтобы не дать студенчеству соблазниться преимуществами «легального существования».
Вопреки тому, что пишет Чернов, «легализаторство» не было сколько-нибудь организованным, тем более кем-то управляемым течением. Лучшее доказательство этого, что главой его Чернов называет меня. «Легализаторство» было всего больше общим обывательским настроением, которое неизменно поддерживало случайных инициаторов. Оттого борьба с ним получила невольно не лишенный комизма характер.
Так, из книги Чернова я впервые узнал, что «Союзный совет назначил большое собрание, по несколько представителей от каждой студенческой организации, для обсуждения вопроса о легализаторстве. Приглашен был высказаться и сам Маклаков»[284]284
Ср.: «Наш “Союзный совет” слишком демонстративно держался в общеполитических вопросах, то и дело обращаясь к студенчеству с прокламациями: то по поводу 19-го февраля, то – Татьянина дня, то по поводу недостаточно достойного поведения профессорской корпорации. Особенный шум возбудила бумажка “Совета” по поводу обращения французского студенчества к русскому перед днями франко-русских торжеств. Мы напоминали французскому студенчеству о том времени, когда Франция и Париж светили всему миру, бросая вызов тиранам и угнетателям всех стран, и сопоставляли с этим жалкую нынешнюю эпоху заискивания и кокетничанья с русским самодержцем. Уже за одно это самое неблагосклонное внимание “недреманного ока” было за нами обеспечено. Наши “легализаторы”, разумеется, видели в этой нашей деятельности помеху своим планам. Кое в каких землячествах уже начиналась исподволь агитация за выход из “Союза”. Была пущена в обращение даже мысль об упразднении “Союзного совета”. Приходилось “брать быка прямо за рога”. Союзный совет назначил большое собрание, по нескольку представителей от каждой студенческой организации, для обсуждения вопроса о “легализаторстве”. Приглашен был высказаться и сам Маклаков» (Чернов В. М. Записки социалиста-революционера. Берлин, 1922. С. 113–114).
[Закрыть].
Все это правда, и я это собрание помню, хотя тогда не знал, из кого оно состояло и для чего оно собиралось. Тут уже вступали в силу новые приемы подполья. Они бы были смешны, если бы в них не было чего-то недостойного нормальной, здоровой общественности. Еще до собрания, о котором пишет Чернов, я как-то узнал от товарищей, что Союзный совет интересуется деятельностью оркестра и хора и обсуждает вопрос о своем отношении к ним. Это учреждение я считал своим детищем и попенял, что меня не спросили. «Да, ваше показание там было прочитано», – ответили мне; и мне рассказывали, что «снятие допроса» с меня было поручено трем студентам, в том числе моему приятелю А. Е. Лосицкому, позднее известному статистику. Я действительно раз зашел к нему по его приглашению, и мы разговаривали с ним об оркестре и хоре, но он ни слова мне не сказал, зачем и по чьему поручению он со мной говорил. Я тогда с досадой пенял Лосицкому, что он разыграл со мной комедию. Оказалось, что двое других членов комиссии даже не были в комнате, а слушали разговор из-за двери. Лосицкий был сконфужен и извинялся. Вот когда уже начинались приемы охранки, которые расцвели при большевиках. Но и собрание, о котором пишет Чернов, поступило не лучше. Мне и на нем никто не сказал, что это собрание есть суд над целым «движением». Меня не предупредили, в чем и меня, и других обвиняют. Мой однокурсник по филологическому факультету, с которым мы очень дружили, Рейнгольд просил меня прийти на вечеринку, где несколько человек хотело со мной поговорить об оркестре и хоре, о землячествах, о Парижской ассоциации, Монпелье и т. д. Такие расспросы очень часто происходили и раньше. Помню, как я был удивлен, застав там целое общество, которое, как мне объяснили, пришло меня слушать. Мне было досадно, что я не приготовил доклада, думая, что будет простой разговор за чайным столом; ни один человек, даже из близких людей, не счел мне нужным сообщить, какая была затаенная цель у собрания.
Я, как правильно вспоминает Чернов, на этом собрании ни на кого не нападал и ничего не пропагандировал[285]285
Ср.: «Он говорил хорошо – плавно, выразительно, красиво, но без всякого entrain [увлечения (фр.)]. Он скорее объяснялся и оправдывался, чем пропагандировал свои идеи. Все выходило скромно и просто» (Там же. С. 114).
[Закрыть]. Для этого не было повода. Я только объяснял нашу идею; я указывал, что для одних функций удобны открытые, а для других подпольные организации, что соединение всех функций вместе вредно и для тех, и для других. Так как в землячествах есть стороны, в которых можно работать открыто, то нерасчетливо держать людей в подполье ради того, чтобы исполнять там, кроме того, и подпольные функции. Я помню еще, чего, кажется, не помнит Чернов, что в этом со мной согласился сибирский студент-медик С. И. Мицкевич, очень лево настроенный и вскоре сосланный[286]286
В декабре 1894 г. С. И. Мицкевич был арестован за печатание и распространение нелегальной литературы и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. В феврале 1897 г. его приговорили к ссылке на пять лет в Колымский край.
[Закрыть]. На этом собрании никто мне не возражал и мотивы, которые сейчас против нас приводит Чернов, никем изложены не были[287]287
Ср.: «Гладкое красноречие лидера “легализаторов” нас не успокоило. Материальная основа взаимопомощи, заложенная в основу нашей организации и подкрепленная принципом земляческого товарищества, обеспечивала широту охвата студенческой массы. Присоединение к этому отстаиванья общими силами достоинства и прав студенчества естественно выдвигало самую деятельную и передовую его часть, его авангард, на руководящее место. Раздергать эту организацию по косточкам, выделить “желудочную” сторону в самодовлеющую, отдать ее под покровительство самодержавных законов – не значило ли это подкапываться под непримиримость студенчества, действовать в духе “примиренчеств” и приспособления к существующему? Нет, мы горой стояли за status quo [существующее положение (лат.)], при котором инициативное меньшинство стояло во главе организации, и притом не путем захвата, а по избранию, когда организация студенчества была интегральной, охватывая все интересы студенчества, материальные и идейно-политические. Такая организация должна быть нелегальной, пока существует самодержавный режим, при котором “вне закона” все живое… Итак, мы предупредили атаку наших позиций “легализаторами”, мы взяли в свои руки “боевую инициативу”, мы стали нападающей стороной. Обвиненные в подкапывании под единство и силу студенческого движения, “легализаторы” были вынуждены оправдываться и защищаться. Победа легко осталась за нами, тем более что легализаторы были беспочвенники: они могли только воздыхать о законности; общий курс правительственной политики направлялся неуклонно в сторону “ежовых рукавиц” и “бараньего рога”. Тактика легализаторов была лишь “голосом вопиющего в пустыне” по адресу глухо-рожденной власти. А ведь они приглашали нас, так сказать, временно разоружиться самим, чтобы морально обезоружить подозрительную власть. Всего гладкого красноречия юноши Маклакова было мало, чтобы сделать эту тактику популярной. Дело было явно безнадежное» (Там же. С. 114–115).
[Закрыть]. Так нас осудили, не предъявив обвинения. И мотивов приговора я тоже не знаю. Но зато я видел, как приговор был приведен в исполнение над оркестром и хором. Я узнал, что в хор стали массой записываться, чтобы эти учреждения взрывать изнутри. Соответственно такой цели был выбран и состав новой комиссии. По просьбе старых товарищей по оркестру и хору я пошел на очередное собрание. Я увидал на нем незнакомую прежде картину. Зал был переполнен, но многие сидели с книжками или лекциями, не слушая, но аплодируя и голосуя как по указке. На собрании было «сплоченное большинство», которое умышленно дело губило. Я участвовал в прениях. Не помню, о чем именно мы тогда спорили. Как курьез, вспоминаю, что председателем собрания и моим оппонентом был теперешний редактор «Возрождения»[288]288
«Возрождение» (Париж; 1925–1940) – эмигрантская газета умеренно-консервативного направления.
[Закрыть] Ю. Ф. Семенов. Союзный совет своей цели достиг. Оркестр и хор были уничтожены. Так не в первый и не в последний раз сходились и помогали друг другу «реакционеры» и непримиримые «левые». От этого всегда страдает «либерализм». Студенческое ликвидаторство и было прикончено тою же комбинацией сил. Это могло послужить прообразом того, что происходило позднее в более крупном масштабе.
Отдел второй. Оживление
Глава V. Начало оживления в общественном настроении
Я упоминал, что историки считают голод 1891 года началом того общественного оживления, которое затем росло беспрерывно до «освободительного движения»[289]289
То есть до «освободительного движения» 1902–1905 гг.
[Закрыть]. Я этот год отчетливо помню. В нем, несомненно, произошло нечто новое. Тогда впервые выступила на сцену «общественность» в ее противопоставлении «власти».
Бедствия 1891 года, в тех размерах, в которых оно произошло, никто не предвидел; а люди еще не так очерствели, как в наши дни, и равнодушно к нему отнестись не могли. Сплошное вымирание деревни, толпы голодных, которые, бросив все, шли в города, суррогаты хлеба, которыми позднее Нансен хотел тронуть Женеву[290]290
В августе 1921 г. Женевская конференция утвердила Ф. Нансена верховным комиссаром организации по оказанию помощи голодающим в Советской России. В 1921–1922 гг. норвежский путешественник возглавлял Международный комитет помощи голодающим со штаб-квартирой в Женеве и филиалами в Берлине, Москве и Харькове.
[Закрыть], – все это было тогда. Не могу сравнивать этого с тем, что происходило в России в 1920 и 1933 годах, но картина была того же порядка; она встревожила и испугала сытое общество. И еще более его испугало то, что власть пыталась это замалчивать и отрицать, как это делала в наше время большевистская власть. Газетам было запрещено говорить о неурожае; хлеб грузился в южных портах для вывоза за границу, а на тех, кто пытался об этом кричать, смотрели как на вредных «смутьянов»; так в наше эмигрантское время на это смотрели как на злоупотребление «гостеприимством». Но это продолжалось недолго. Власть была не большевистская; да и общество не было задавлено страхом, не могло поверить, чтобы власть могла быть равнодушна к вымиранию целых губерний. Началась первая борьба представителей общества с «властью». С ее обличением выступили не только люди, которых можно было по крайности причислить к неблагонадежным, вроде Короленко и Владимира Соловьева, но [и] те, полная лояльность которых была вне всяких сомнений, как Д. Ф. Самарин или гр[аф] В. А. Бобринский с его нашумевшим письмом к губернатору В. К. Шлиппе[291]291
Данный эпизод относится не к 1891–1892 гг., а к 1898 г., когда председатель Богородицкой уездной земской управы граф В. А. Бобринский 11 мая в № 127 газеты «Санкт-Петербургские ведомости» обратился с открытым обличительным письмом к тульскому губернатору В. К. Шлиппе по поводу последствий неурожая в Тульской губернии. В связи с этим В. Г. Короленко записал 12 мая 1898 г.: «Бобринский печатал в газетах воззвания о помощи голодающим его уезда. Шлиппе донес министру, что эти и другие сведения о нужде в Тульской губ[ернии] – неверны, а случаи, указанные Бобринским, проверены и опровергнуты комиссией: ни голода, ни тифа эта комиссия не нашла. [И. Л.] Горемыкин [министр внутренних дел], эта тряпица, на которую российские обыватели когда-то возлагали какие-то упования, счел возможным и нужным напечатать это сообщение в виде “опровержения” в “Нов[ом] времени” и обязал перепечатать это офиц[иальное] опровержение во всех других изданиях, заимствовавших первоначальные сведения Бобринского. Таким образом последний был, так сказать, административно ошельмован на всю Россию лжецом. Теперь, благодаря особому положению “С[анкт-]П[етер]б[ургских] ведомостей”, его письмо появилось в этой газете. Оно производит впечатление настоящей пощечины официальным лгунам: Бобринский опровергает сообщение Шлиппе по пунктам. Оказывается, между прочим, что в донесении его сделаны ссылки на врача и священника, которых комиссия даже не опрашивала и которые ничего подобного приписанному им не говорили! Весь интеллигентный и официальный Петербург читает это письмо. Это новость в русской жизни: газетная полемика частного лица с ложью правительственного сообщения» (Короленко В. Г. Дневник: В 4 т. Полтава, 1927. Т. 3. С. 131).
[Закрыть]. Еще более упорная работа шла за кулисами власти. И власть вдруг сдала. Она приняла ряд решительных мер. Последовал Высочайший указ, запретивший вывоз хлеба за границу, были сделаны большие ассигнования, приняты экстраординарные, не всегда удачные меры по транспорту и т. д. Но самое главное: была разрешена частная инициатива для помощи голодающим. Этому же примеру ненадолго попытались последовать в 1920 году и большевики[292]292
В конце июня 1921 г. А. М. Горький предложил Политическому бюро ВКП(б) привлечь к борьбе с голодом 1921–1922 гг., затронувшим прежде всего Поволжье, российскую и международную общественность. Политбюро ВКП(б) поддержало это предложение, после чего 21 июля 1921 г. Президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета утвердил Положение о Всероссийском комитете помощи голодающим. В комитет, председателем которого стал Л. Б. Каменев, а заместителем А. И. Рыков, вошли представители как советской власти, так и небольшевистских организаций, в частности Н. М. Кишкин, Е. Д. Кускова и С. Н. Прокопович. Однако 27 августа 1921 г., после того как благодаря комитету было обеспечено поступление продовольственной помощи из США, он был распущен Президиумом ВЦИК.
[Закрыть].
Чем руководилась власть, разрешая это естественное, но для русских нравов необычное отношение к общественной самодеятельности? Едва ли сознанием необходимости общественной помощи; бедствие было так громадно, что вся общественная помощь была каплей в море в сравнении с тем, что было нужно; государство могло дать и дало для борьбы с голодом бесконечно больше, чем общество. Конечно, общественность могла выставить бескорыстных, преданных делу работников, каких не было в распоряжении власти; но дело было, очевидно, не в этом. Важно, что этим разрешением государство отклоняло энергию общества от борьбы с властью на борьбу с голодом. Это было умной политикой; если бы она везде проводилась, позднейшего «освободительного движения» не стало бы нужно. Общество организовалось бы для содействия, сотрудничества с властью, а не для одного сопротивления. Но если власть поняла, что в данную минуту и на таком деле надо сделать уступку, то она совсем не хотела, чтобы это стало переменой политики; при первой возможности все уступки были взяты назад. Так в 1920 году поступили и большевики, и притом гораздо скорее.
Но в тот первый момент, когда запрещения были сняты, общественность с воодушевлением бросилась помогать голодающим, собирать деньги, устраивать столовые и другие виды помощи. Одушевление и энтузиазм были не меньше, чем когда позднее общественность «организованно» стала приходить на помощь войне[293]293
Речь идет о Первой мировой войне 1914–1918 гг.
[Закрыть], когда началась работа «союзов» и «комитетов»[294]294
Подразумеваются созданные в июле 1914 г. Всероссийские Земский союз и Союз городов помощи больным и раненым воинам и образованный в июне 1915 г. Центральный военно-промышленный комитет с подчиненными ему местными военно-промышленными комитетами.
[Закрыть]. Но настроения были не те, и 1891 год поучителен в сравнении с эпохой войны.
В основе общественных выступлений в 1891 году не было желания «соревноваться» с властью. Власть была настолько сильнее нашего общества, что общество об этом соревновании и не думало. Люди просто шли помогать страшной беде и были рады, что в этом им не мешали. Беда и необходимость что-то сделать были так несомненны, что Л. Толстой, который поехал к Раевским посмотреть их столовую в Епифанском уезде совсем не за тем, чтобы им помогать, а, напротив, чтобы убедиться в правильности своего отрицательного отношения к этому «общественному увлечению» и найти материал для статьи, которую он в это время готовил, когда увидел, что там происходило, забыл свои принципиальные возражения и доктрину свою, остался у Раевских, стал во главе громадного дела помощи голодающим и начал сам собирать «пожертвования» для этого дела.
Конечно, он нашел для этого и мотивы, которые были душе его близки. Я тогда по его поручению занимался размещением лошадей из голодающих местностей у тех, у кого был корм, чтобы вернуть лошадей хозяевам к весенним работам. Это был один из видов помощи, придуманный одним калужанином. Помню, как Толстой радовался, что голодающий будет знать, что где-то далеко неизвестный ему человек, чтобы ему помочь, за его лошадью ходит, а этот другой будет рад сознанию, что делает незаметно доброе дело[295]295
Позднее о своих отношениях с графом Л. Н. Толстым В. А. Маклаков писал: «В 1891 году мне пришлось с ним познакомиться, и это было началом близости с семейством Толстых. Поводом к этому был голод этого года. Многие от этого именно года ведут оживление русского общества. ‹…› Этим настроением заразился и сам Лев Николаевич, хотя он не был склонен поддаваться “общественным увлечениям” и, кроме того, уже отрицательно относился к благотворительности, которой себя оправдывают богатые люди. “Если всадник видит, что лошадь замучена, – говорил он, – он должен не стараться поддерживать ее, сидя на ней, а просто с нее поскорее слезть”. Видя всеобщее увлечение устройством столовых и разного вида благотворительной помощи, он приготовил статью, где на эти приемы обрушивался. Его друг И. И. Раевский, сам занимавшийся устройством столовых, позвал его посмотреть, что у них делается. Толстой поехал к нему с готовой статьей, чтобы укрепиться в отрицательном к этому отношении, поехал на два дня, и остался там на два года, и стал во главе самого грандиозного общественного начинания помощи голодающим. Эта деятельность у всех еще в памяти. Началось с воззвания Софьи Андреевны Толстой в газетах. И хотя в это время были и другие центры сборов, были высокопоставленные комитеты, где за пожертвованием могла следовать лестная, почетная, а иногда и небезвыгодная благодарность, хотя таким образом конкуренция Софье Андреевне Толстой была громадная, но наплыв денег по ее адресу превзошел все ожидания, а главное – туда шла действительно лепта вдовицы, “прожженная, битая, трепаная ассигнация” неизвестного жертвователя. Зов Толстого напомнил некрасовскую сцену призыва Ермила на базарной площади, когда там “как бы ветром” отворотило у всех “полу левую”. А сам Толстой тогда жил в деревне, уйдя в практическую сторону дела, жил и работал наряду со всеми, объезжая деревни на пространстве десятков верст, переписывал едоков, распределял пособия, открывал столовые – словом, делал то черное, трудное дело, на котором надорвался и умер Раевский. И, глядя на него, на этого старичка, к которому все шли с просьбами и претензиями, никто бы не подумал, что это – тот, за кем следил весь мир, на чей призыв зашевелилась Россия. Люди самых различных направлений и настроений вкладывались тогда в это дело. Многие бросали свои привычные профессии, шли на устройства столовых, а позднее, когда началась голодная эпидемия, на помощь врачам. На этой работе многие навсегда теряли и свои места, и здоровье. Все так называемые толстовцы приняли в этом участие. Те, кто был революционно настроен, может быть, огорчались, что народ часто считал их “посланцами царя” и что своей помощью они его авторитет укрепляли. Но и эти политические соображения меркли перед сознанием долга помогать страдающему от голода населению. При виде такой работы и мне стало стыдно, что моя помощь сказалась пока только в том, что я воспользовался голодом для поднятия престижа оркестра и хора. И я был рад, что получил возможность сделать и нечто другое. В одном из воззваний своих Толстой рекомендовал вниманию публики совет, поданный, по его выражению, одним “калужским жителем”. Этот житель был Владимиров, выведенный позднее Боборыкиным в его романе “Василий Тёркин” как новый тип деятеля. Владимиров советовал помещикам брать на зиму к себе крестьянских лошадей, которые иначе подохли бы с голода, а после зимы возвращать их владельцам. Толстому этот способ помощи особенно нравился потому, что каждый крестьянин будет чувствовать, что о нем вдали кто-то заботится и оттуда ему помогает. Толстовцы привлекли к этому делу меня, и мне благодаря знакомствам и случаю удалось разместить более трехсот лошадей на этих началах. Этому я и оказался обязан личным знакомством с Толстым. После его приезда в Москву толстовцы пришли ему рассказать, что они делали, и меня как своего сотрудника с собой к нему привезли. Тогда я в первый раз его близко увидел и с ним говорил. Он, между прочим, прочел своим гостям какую-то статью, сидя за тем самым столом с решеткой, который изображен на картине Крамского. Все это казалось так естественно и просто, что я должен был заставлять себя понимать свое счастье и осмысливать, где я сижу. Жена Л. Н. Софья Андреевна из кабинета, где были все “темные”, позвала нас в общую столовую. Потом я стал бывать у Толстых очень часто, до самой смерти его. Это было для меня великой удачей. Литературные произведения Толстого знает весь мир, религиозные знают не все, обыкновенно только частями, и их не всегда верно понимают. Знать же живого Толстого, испытывать на себе его обаяние было дано очень немногим» (Маклаков В. А. Воспоминания. С. 141–144).
[Закрыть]. Но все это исключительно моральная сторона. Других мотивов и побуждений в то время в обществе не было. Я помню, как многие из непосредственных работников среди голодающих рассказывали как о курьезе, что все голодающие твердо убеждены, что деньги на помощь голодающим даны царем, что общественные работники были присланы им и что поэтому своей работой они служили только его прославлению. Это была та незнакомая интеллигенции народная психология, которую она неожиданно открывала при соприкосновении с настоящим народом. И это никого не остановило, не смутило и не охладило. Тогдашняя общественность была выше этих соображений. Только власть этого не захотела ни понять, ни оценить, ни использовать. Она сама, когда острое время прошло, принялась вводить все в прежнее русло, закрывать столовые, делать обыски и искать злоумышленников. За эту правительственную идеологию эпохи Александра III пришлось заплатить его преемнику.
В 1914–1917 годах все было другое. Общественность помогала войне, тоже привлекая те силы, которых у правительства не было; это правда; но наряду с простым «патриотизмом» у нее было стремление воочию показать преимущество «общественной» работы над «бюрократической». Вся работа союзов была поэтому работой и политикой. И еще знаменательней перемена народного настроения. В эпоху войны союзы жили только на государственные ассигнования, все их деньги шли от правительства. Но на этот раз никто этого знать не хотел; комфорт и удобства земских санитарных отрядов и госпиталей сопоставлялись с бедностью казенной военной санитарии, которой приходилось обслуживать все, а не только то, что они выбирали. И в преимуществах общественных учреждений видели преимущество самой «общественности» над правительством. Все старания власти и ревниво относившейся к этому императрицы объяснять, что все это сделано на средства казны, опубликовывать точные цифры не встречали в войсках никакого доверия. Отношения переменились.
Если голод 1891 года был началом оживления общества, которое не уничтожилось сразу только потому, что его потом запретили, если немедленно за голодом и не без причинной с ним связи возникла идейная полемика марксизма и народничества, в которой неразумное правительство поощряло своих более опасных врагов, то настоящий и резкий перелом в настроении совпал с переменой царствования. В России было традицией, что перемена политики совпадала со сменой ее самодержцев. Все давало основание ждать такой перемены при воцарении Николая II. Он вступил на престол в благоприятных условиях[296]296
Николай II вступил на престол 20 октября 1894 г., после кончины своего отца Александра III.
[Закрыть]. Ему не пришлось перешагнуть, как Александру III, через окровавленное тело отца. Общество казалось спокойным; кончина Александра III сопровождалась проявлением скорби, которого не вызвал даже трагический конец Александра II. Самодержавия никто не оспаривал. Ультиматума, вроде письма Исполнительного комитета, никто не предъявлял государю. Возвращение к нормальным условиям жизни не могло показаться доказательством слабости. Было естественно ждать поворота.
И его ждали. Жадно ловили малейший намек на него. Надеялись на молодость государя, которая должна была его сделать более доступным человеческим чувствам. В день своей свадьбы он распорядился удалить полицию, охранявшую «молодых». А. А. Пороховщиков в своей газете на основании этого немедленно объявил этот день, 14 ноября, концом «средостения»[297]297
Имеется в виду газета «Русская жизнь» (Петербург, 1890–1895), которую издавал и редактировал А. А. Пороховщиков. В. А. Маклакову изменила память, поскольку в «Русской жизни» в статье о состоявшемся 14 ноября 1894 г. бракосочетании Николая II и Александры Федоровны о «конце “средостения”» ничего не сообщалось. См.: Бракосочетание Государя Императора с великой княжною Александрою Феодоровною // Русская жизнь. 1894. № 305. 15 нояб.; Петербургская хроника // Там же. 1894. № 306. 16 нояб. Очевидно, В. А. Маклаков в модифицированной форме воспроизвел информацию из воспоминаний земского деятеля А. А. Савельева, который, имея в виду Николая II, писал: «Говорили также, что он не с охотой вступает на престол и отклонил всякие чрезвычайные меры охраны его особы, говоря, будто бы, что он не искал царства, а оно дается ему в силу закона помимо его воли и желания. Надо заметить, что в числе этих толков для меня представлялось особенно любопытным мнение издателя-редактора “Русской жизни” А. А. Пороховщикова, который, характеризуя прежнего царя Александра III, говорил мне, что его деятельность смягчала, будто бы, много государыня Мария Федоровна и что не будь ее, был бы не Александр III, а Павел II, т. е. государь, подобный Павлу I. Государыня, по словам Пороховщикова, имела большое влияние на него и очень любит министра внутренних дел Дурново, вследствие чего нельзя ожидать смены его, пока она в Петербурге и имеет влияние на сына ‹…›. Молодой же царь, по его словам, действительно отверг всякие меры охраны его особы, говоря, что не видит в этом надобности, а если есть недовольство в обществе, то он готов и уйти; а с другой стороны меры охраны и бесполезны, так как деда его оберегали очень сильно, а все же не уберегли от убийц» (Савельев А. А. Два восшествия на престол русских царей (Из воспоминаний земского деятеля) // Николай II: материалы для характеристики личности и царствования. М., 1917. С. 98–99).
[Закрыть]. Рассказывали с восторгом, будто новый государь тяготился «охраной» и выезжал гулять без предупреждения; будто в Варшаве он говорил по-французски, «чтобы не задеть поляков»; надеялись на «либерализм» молодой императрицы. Эти слухи показывали, какой кредит ему тогда делали. Но если все надеялись на перемену политики, то никто не требовал, чтобы она началась с уничтожения «самодержавия». Никто не ставил этого непременным условием. Не потому, чтобы боялись сказать; общество в тот момент этого и не добивалось.
Помню банкет в Москве в честь тридцатилетия Судебных уставов (20 ноября 1894 года) – первое публичное собрание после кончины покойного императора. На него собралось все либеральное общество. Все было полно радужных слухов. Незадолго до этого «Русские ведомости» напечатали передовицу, в которой восхваляли отметки, сделанные новым государем на докладе по народному просвещению[298]298
В программном предисловии к своду первых высочайших отметок, сделанных Николаем II на всеподданнейших отчетах генерал-губернаторов, губернаторов, военных губернаторов и градоначальников, отмечалось, что «коренным препятствием к осуществлению великодушных предначертаний Вашего величества» являются «безграмотность и отсутствие просвещения, при которых и сельские власти, и сами крестьяне всегда останутся в руках людей, имеющих выгоду воспользоваться их темнотою. Мало того, грамотность, развитие просвещения – это краеугольный камень всего экономического, умственного и нравственного процветания народа, ибо только просвещенный народ в состоянии “понять пользу всех мер, предпринимаемых для улучшения его быта и благосостояния”, а следовательно, только просвещенному народу могут эти меры приносить всю пользу, которую от них ожидают. Приведенная мысль, высказанная саратовским губернатором, удостоилась особого внимания Вашего величества. Настоятельная потребность народа в образовании заявлена в губернаторских отчетах самым категорическим образом: число учеников превышает школьные средства и еще множество детей лишено обучения. В целом ряде отчетов Вашему величеству благоугодно было обратить внимание на это печальное положение, по объяснению же астраханского губернатора Ваше императорское величество повелели “прийти на помощь населению в этом насущном для него вопросе”» (Свод высочайших отметок по всеподданнейшим отчетам за 1893 г. генерал-губернаторов, губернаторов, военных губернаторов и градоначальников. СПб., 1895. С. XVII – XVIII).
[Закрыть]. Похвала государю была не в стиле «Русских ведомостей». Но и они усмотрели в высочайших отметках наступление «новой политики». Вполголоса сообщали, будто сановники догадались, что наступило время крутых изменений, и забегали вперед; что Государственный совет подал государю меморию о необходимости отменить для крестьян телесное наказание. Поэтому речи на банкете были полны оптимизма. Когда присяжный поверенный Н. В. Баснин сказал несколько слов о перспективах, которые теперь открылись дли просвещения, встал старый М. П. Щепкин. «Учить, – сказал он, – и в то же самое время сечь – немыслимо; если в России будут учить и после все-таки сечь, я скажу, что у нас народ учат только затем, чтобы он больнее чувствовал свое унижение. И я верю, что скоро раздастся мощное слово нашего молодого государя, который положит конец этому стыду!»
Старый либерал, ученик и поклонник Грановского, пострадавший за то, что в свое время написал о Герцене некролог[299]299
М. П. Щепкин, будучи профессором и заведующим кафедрой политической экономии Петровской земледельческой и лесной академии, в № 3 за 1870 г. газеты «Русская летопись», которую он основал и редактировал совместно с М. В. Неручевым, поместил некролог «А. И. Герцен», после чего под давлением начальства был вынужден подать в отставку.
[Закрыть], Щепкин в таких выражениях говорил о самодержце. И это никого не оскорбляло; это было общим явлением этого «сладкого мига» нашей новой истории. Как далеко это было от ультиматума народовольцев 1881 года!
Иллюзии о Николае II разделялись даже в том Тверском земском адресе, который вызвал знаменитый окрик государя и облил холодной водой либеральные упования. Об этом адресе рассказал его составитель Ф. И. Родичев («Современные записки», № 53[300]300
См.: Родичев Ф. И. Из воспоминаний // Современные записки. 1933. № 53. С. 285–296.
[Закрыть]). В нем не было ни единого намека на конституцию. Он заканчивался фразой: «Мы ждем, государь, возможности и права для общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам, их касающимся, дабы до высот престола могло достигать выражение потребностей и мысли не только представителей администрации, но и народа русского… Мы верим, что в общении с представителями всех сословий, равно преданных престолу и отечеству, власть Вашего Величества найдет новый источник силы и залог успеха в исполнении великодушных предначертаний Вашего Императорского Величества»[301]301
«Ваше императорское величество, – говорилось в адресе Тверского земства, – в знаменательные дни начала служения Вашего русскому народу земство Тверской губернии приветствует Вас приветом верноподданных. Разделяя Вашу скорбь, Государь, мы надеемся, что в народной любви, в силе, надежде и вере народа, обращенных к Вам, Вы почерпнете успокоение в горе, столь неожиданно постигшем Вас и страну Вашу, и найдете твердую опору в том трудном подвиге, который возложен на Вас провидением. С благодарностью выслушал народ русский те знаменательные слова, которыми Ваше величество возвестили о вступлении своем на российский престол, мы вместе со всем народом русским проникаемся благодарностью и уповаем на успех трудов Ваших в достижении великой цели, Вами поставленной: устроить счастье Ваших верноподданных. Мы питаем надежду, что с высоты престола будет услышан голос нужды народной. Мы уповаем, что счастье наше будет расти и крепнуть при неуклонном исполнении закона, ибо закон, представляющий в России исполнение монаршей воли, должен стоять выше случайных видов отдельных представителей этой власти. Мы горячо верим, что права отдельных лиц и права общественных учреждений будут незыблемо охраняемы. Мы ждем, Государь, возможности и права для общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам, их касающимся, дабы до высоты престола могло достигать выражение потребностей и мыслей не только представителей администрации, но и народа русского. Мы ждем, Государь, что в Ваше царствование Россия двинется вперед по пути мира и правды со всем развитием живых общественных сил. Мы верим, что в общении с представителями всех сословий, равно преданных престолу и отечеству, власть Вашего величества найдет новый источник силы и залог успеха в исполнении великодушных предначертаний Вашего императорского величества» (цит. по: Родичев Ф. И. Из воспоминаний // Николай Второй. Воспоминания. Документы. СПб., 1994. С. 39–40).
[Закрыть].
Позднейший либерализм был склонен настаивать на неизменности своей политической линии. А. А. Кизеветтер в книге «На рубеже двух столетий» оспаривает мнение Богучарского об отсутствии конституционных требований в земских собраниях[302]302
См.: Богучарский В. Я. Активное народничество семидесятых годов. М., 1912.
[Закрыть] и утверждает, будто Ф. И. Родичев сказал речь, в которой совершенно ясно указывал на необходимость конституционных гарантий[303]303
Ср.: «На основании текста этого адреса [В. Я.] Богучарский высказал в своей книге “Активное народничество” то мнение, что в тот момент даже такие прогрессивные земцы, как Родичев и Петрункевич, стоявшие во главе Тверского земства и явившиеся там вдохновителями этого адреса, не шли в своих стремлениях далее лишь совещательного народного представительства. Это мнение Богучарского, конечно, не выдерживает критики. Земские адреса 1891–1895 гг. вовсе не отразили полностью стремлений прогрессивной части земцев, и тот же Родичев, предлагая Тверскому губернскому земскому собранию выработать адрес государю, сказал речь, в которой совершенно ясно указывал на необходимость конституционных гарантий. Земские адресы 1894 г. были лишь осторожным пробным шаром, первоначальным нащупыванием почвы, а вовсе не исчерпывающим изложением подлинных стремлений прогрессивных общественных кругов» (Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий: Воспоминания 1881–1914. М., 1997. С. 142–143). В упоминаемой А. А. Кизеветтером книге В. Я. Богучарского об относящихся к 1894 г. «стремлениях» И. И. Петрункевича и Ф. И. Родичева ничего не сообщается.
[Закрыть]. Эту легенду теперь разрушил сам Родичев, напечатав в № 53 «Современных записок» свою тогдашнюю речь. Она приводит к обратному выводу. Вот что Родичев тогда говорил: «…закон, ясное выражение мысли и воли монарха, пусть господствует среди нас и пусть подчинятся ему все без исключения и больше всего представители власти». Здесь нет намеков на конституцию; закон определяется как мысль и воля монарха. Родичев надеется только, что «голос народных потребностей, выражение народной мысли всегда будут услышаны государем, всегда свободно и непосредственно, по праву и без препятствий»[304]304
«С нынешним земским собранием, – сказал Ф. И. Родичев, – мы вступаем в новый период истории. Вместе со всем народом русским мы пережили тревожные дни нынешней осени, вместе со всем народом мы отдали долг печали, долг почтения памяти императора Александра III и вместе со всем народом с трепетом надежды услышали слово молодого государя, в котором столько светлой веры, светлого упования. Мы не можем оставаться глухи к этому призыву, раздавшемуся с высоты престола, – к призыву на работу для счастья русского народа. Мы не будем глухи и не останемся немы. Перед государем Николаем II не мертвая страна, погруженная в немой покой и неподвижность бессилия. Перед ним народ, полный надежд, скрытой, еще не высказанной деятельной мысли, полный стремления, чувства, полный живых сил, жаждущих простора и веры, требующей выражения. Ее мы должны выразить. Мы должны высказать Государю надежды, которые мы на нем сосредоточиваем. Мы прежде всего желаем господства закона. Закон, ясное выражение мысли и воли монарха, пусть господствует среди нас, и пусть подчинятся ему все без исключения, больше всего и прежде всего представители власти. Это первое жизненное условие мира и правды. Счастье народа в свободном росте его живых сил, достоинства личности, в сознательной деятельности. Только в живом, деятельном, свободном союзном труде растет счастье народа, счастье каждого. Эта деятельность, права на нее отдельных учреждений, как и отдельных лиц, пусть будут сохранены и незыблемы. Мысль народная, потребности наши должны находить выражения. Мы надеемся, что голос этих потребностей, выражение этой мысли всегда будут услышаны Государем, всегда свободно и непосредственно, по праву и без препятствий дойдут до него. Мы ждем развития и свободного роста живой общественной работы, дающей народной жизни содержание. Если собрание встречает эти мысли, эти чувства согласием, я позволю себе предложить проект адреса» (Родичев Ф. И. Указ. соч. С. 38–39).
[Закрыть]. Если это намек, то только на совещательное представительство при самодержце. Самодержавие остается незыблемым: народу мнение, воля – государю. Родичев мог в душе думать иное, но иного он не сказал, и свою речь он кончил словами: «Господа, в настоящую минуту наши надежды, наша вера в будущее, наши стремления все обращены к Николаю II. Николаю II наше ура!»