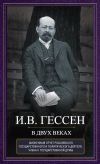Автор книги: Василий Маклаков
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 42 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Участие в беспорядках сблизило меня со студенческой массой. Без них этого сближения могло и не быть. Для москвича поступление в университет не меняло всей жизни. Только провинциалы, приезжая в чужой город, держались друг друга, жили семьей старых и новых товарищей. Они создали кружки, землячества, общежития и другие суррогаты со своими традициями. Запрет коллективной жизни загонял студентов в подполье, которое оставалось для власти за «пределами досягаемости». Беспорядки сблизили меня с этой средой. Я ей многим обязан. Кончая гимназию, я казался подготовленным не хуже других. Но студенчество открыло мне области, о которых я не знал ничего. На одной вечеринке спросили меня: «Считаю ли я Лассаля практиком или теоретиком?» А я тогда еще ничего не слыхал о Лассале. Я стал под руководством старших товарищей изучать, что полагалось знать в то время передовому студенту. Наука была не хитра. Было достаточно прочесть список запрещенных в библиотеках книг. В этих книгах было много отсталого. Но против яда толстовской гимназии это было и полезным противоядием, и необходимой школой ума.
Я настолько тесно сблизился тогда со студенческой жизнью, что могу ставить вопрос: что представляло собой студенчество этих годов? Характерно, что этот вопрос мы тогда ставили сами.
Мы раз затеяли даже разрешить его научным путем. Мы собрались разослать всем студентам вопросники: к какому каждый принадлежит мировоззрению, что, по его мнению, сейчас нужно делать, как он относится к различным популярным людям и т. д. «Анкетой», которыми сейчас журналы забавляют читателей, мы хотели определить физиономию поколения.
Это показывало, что у нас было неблагополучно. Люди смотрятся в зеркало, когда подозревают, что у них не все в порядке. И это мы ощущали. У нашего поколения не было идейных вождей. Не было веры; были «знания» и «скептицизм». В юные годы на нас вымещались разочарования наших отцов. Ключевский имел привычку говорить в своей вступительной лекции: «У всякого поколения свои идеалы; у меня одни, у вас, господа, другие; но жалко то поколение, у которого нет идеала». Слушая его, мы себя спрашивали: «Не на нас ли он намекает?»
Увлечения 1860-х годов нам казались наивны. Мы не увлекались ни «материализмом», ни «атеизмом», ни «позитивизмом». Все это мы переросли – и уже не понимали, что Писарев мог быть властителем дум. Но у нас не было и противоположных верований. Мы на все глядели глазами скептиков. Помню людей, в которых была какая-то жажда во что-то «поверить» и которые предмета веры не находили. Так бывают женщины, которым страшно хочется полюбить, но которые этого не могут.
Всего нагляднее наш скептицизм обнаруживался в «политической» области. 26 ноября на Страстном бульваре нас оттолкнуло самое слово «политика»; в проекте вопросника никому не пришло в голову спросить о принадлежности к партии.
Мы не принесли с собой своего «нового слова»; не пережили политической катастрофы, не были «дети страшных лет России»[208]208
Слова из стихотворения А. А. Блока «Рожденные в года глухие…» (1914).
[Закрыть]. У нас не было оснований для того душевного перелома, когда молодежь сжигает то, чему поклонялись отцы. Никогда не было так мало принципиальной розни между «детьми» и «отцами»; мы бы были рады их слушать. Но что могли нам дать они с их психологией побежденных и это сознавших? Их идеалы мы принимали за наши; готовы были им следовать. Но что с ними надо было делать в условиях тогдашней русской действительности?
В старых революционерах мы готовы были видеть «героев»; возмущались, когда на них нападали. Но в успех их деятельности больше не верили. Попытки, впрочем исходящие, быть может, от «провокаторов», перевести нас в революционную веру соблазняли отдельных людей, но не создали заметного направления. Недавний поучительный опыт не был забыт.
Не удовлетворял и классический «либерализм». Мы понимали, что самодержавие наше несчастье. Но что надо было делать «конституционалистам» без конституции? Нам рассказывали о величии шестидесятых годов. Но тогда власть хотела реформ; а что делать теперь, когда она их уничтожает? Соблазнять нас рассказами о 1860-х годах было равносильно тому, чтобы сейчас в Советской России расписывать, как хорошо жилось при конституции 1906 года. Что нам было делать? Старый либерализм ответа на это не давал; но мы и не могли смотреть на него с осуждением, с которым теперешняя молодежь смотрит на нас:
Наши отцы ничего не «промотали», как мы в наше время. Они были побеждены грубою силою. Но новой мечты и мы с собой не принесли. То, что было типично для 1880-х годов, т. е. отказ от великих «надежд», проповедь «малых дел» и «достижений», приспособление к действительности, не могло увлекать молодежь. И она от политики отстранялась. Моим однокурсником на естественном факультете был тогда А. И. Шингарев. Кто знал его позже, с трудом может поверить, что он интересовался только наукой – ботаникой; в беспорядках участия не принимал и, пока был студентам, никакой общественной деятельностью не занимался.
А тот, у кого билась жилка общественной деятельности, искал выхода ей в какой-нибудь легальной работе. Ведь именно этому учили нас сломленные жизнью наши отцы. Мы знали стихотворение Некрасова Щедрину. Некрасов звал его вернуться на прежний путь:
Это считалось необходимостью. Иначе нельзя. Необходимость уступок и компромиссов нас не смущала, точно так же, как в былое время революционеров не пугала опасность. Так поступали и старшие. Это было время, когда Н. М. Астырев пошел в «волостные писаря», зная, на что он идет[211]211
Под влиянием народнических идей литератор Н. М. Астырев отправился «в народ» и в 1881–1884 гг. служил волостным писарем в Воронежской губернии.
[Закрыть]. Тот же Астырев в книге своей рассказал о громадной пользе, которую народу принес становой пристав Бельский[212]212
Реальный персонаж книги Н. М. Астырева «В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления» (М., 1886), первоначально опубликованной в виде серии художественно-публицистических очерков в № 7 и 8 за 1885 г. журнала «Вестник Европы».
[Закрыть]. Самой одиозной реформой 1880-х годов было Положение о земских начальниках[213]213
Имеется в виду Положение о земских участковых начальниках 1889 г.
[Закрыть]. А я помню, как М. О. Гершензон меня старался уверить, что нет более полезного и почетного дела, как быть земским начальником. И в них действительно шли не одни «обуздатели», а и идейные люди, А. А. Чернолусский[214]214
Правильно: В. И. Чарнолуский.
[Закрыть], С. Л. Толстой. Конечно, они не преуспели, но дело не в этом, а в том, что они на это пошли и что никто не клеймил этого как измену.
Люди более крайние принимали и решения более радикальные. 1880-е годы стали эпохой толстовства. Если религиозная проповедь Л. Толстого большинству была непонятна, то имело успех устройство «колоний». Это была попытка создать ячейку «идеального общества», но опять-таки в рамках существовавшего государства. Это мы принимали[215]215
Вспоминая позднее о своем участии в одной из толстовских колоний, В. А. Маклаков писал: «Личное знакомство с толстовцами у меня вышло случайно. Моя старшая сестра, которая училась в классической гимназии С. Н. Фишер, не раз рассказывала дома про их преподавателя Новоселова как прекрасного учителя и человека. Он сам был сыном директора 6-й московской гимназии; увлекся Толстым, бросил учительство и куда-то исчез из гимназии. Еще до беспорядков на естественном факультете со мной слушал лекции незнакомец в штатском платье, которого мы считали обыкновенным вольнослушателем. Очутившись однажды рядом со мной на скамье, он сказал, что знает мою сестру, и назвал свою фамилию. Это и был Новоселов. Мы разговорились. Многими своими суждениями он показался мне интересен; я стал к нему заходить, и он постепенно мне излагал свои взгляды. ‹…› Вместо захвата государственной власти, то есть простой перемены “насильника”, надо людям на практике показать “общество”, где живут по справедливости и без насилия. Если люди увидят подобное общество, они по этой дороге пойдут, как при переправе через опасную реку все последуют за тем, кто укажет им брод. Не пойдут за этим только ненормальные люди, которых из человеколюбия другие будут лечить, а не карать и не искоренять. Новоселов для этого дела собирался устроить колонию; он приобрел землю в Тверской губернии, Вышневолоцкого уезда, на берегу прекрасного озера. На этой земле и должна была жить пробная колония единомышленников; при земле был сосновый лес, который он подарил крестьянам соседней деревни. ‹…› Зимой, когда уже образовалась колония, я еще раз ненадолго приехал туда. Кроме Новоселова были там Ф. А. Козлов, доктор Рахманов, А. В. Алехин, скромный лаборант химической лаборатории… ‹…› В колонии были еще две подруги, окончившие Высшие женские курсы, В. Павлова и М. Черняева. ‹…› Самым глубоким человеком в этой колонии был Ф. А. Козлов, задумчивый и молчаливый, напоминавший, если не лицом, то головою, Сократа… ‹…› Я прожил в ней очень недолго и вернулся в Москву “очарованный”. Иллюзии, будто они дали пример, за которым весь мир постепенно последует, у меня не было, но я видел, что то, чего жаждали эти люди, то есть найти такой образ жизни, который удовлетворял бы их “совесть”, ими был действительно найден. Они все были счастливы этим. Тогда была зима, свобода от страдных сельских работ, но труда по домашнему хозяйству хватало на всех. Были заняты все, ничем не гнушаясь. Бывшие “курсистки” готовили пищу, стирали наше белье, шили и штопали. Доктора и ученые чистили выгребные ямы. ‹…› Все это делалось с радостью и убеждением, что за то зло, которое господствует в мире, они более не “ответственны”; то, что лично они могли сделать, чтобы в нем не участвовать, они теперь сделали. Все это было предметом горячих бесед, которые велись в колонии вечером. Была общая атмосфера какого-то всеобъемлющего “медового месяца” наступившего счастья. ‹…› Конец новоселовской колонии был очень трагичен, но пришел не оттуда, откуда его ожидали. Он показал, что, как ни старались толстовцы развивать в себе и в людях добрые чувства, это не всегда удается. Иллюзии колонистов были разбиты действительностью. Через немного времени, я уже не помню точно, когда именно, окружающая колонию крестьянская среда сделала из ее существования совсем не те выводы, на которые рассчитывали члены колонии. Узнав, что соседние “господа” очень добрые и даже советуют “злу не противиться”, двое из соседней деревни пришли и для “пробы” увели лошадь только на том основании, что она самим им нужна. В колонии велись переговоры: как на этот факт реагировать? Можно ли обратиться к властям? Было, конечно, решено на этот путь не вступать, но послать одного из своих, чтобы усовестить крестьян и отдать похитителей на суд самой деревни. На другой день к ним пришла вся деревня; колония торжествовала, думая, что в них совесть заговорила. Но они ошиблись: крестьяне пришли взять и унести с собой все, что у них еще оставалось. Я там сам не был, а о подробностях они не любили рассказывать, но после этого оставаться в колонии никто не хотел; все оттуда уехали, а имение было куплено кем-то в личную собственность. Сам Новоселов скоро принял “священство”, стал миссионером и в последний перед революцией год в специальной духовной печати обличал Распутина» (Маклаков В. А. Воспоминания. С. 65–72).
[Закрыть]. Все это были явления эпохи упадка, блуждания, индивидуальные попытки найти хотя бы для себя дорогу в пустыне, в которой все заблудились. Но сознание, что мы «в пустыне», нас не покидало. Оно было всеобщим. Мы не догадывались, что эта эпоха упадка доживает последние дни и что скоро придут и вера, и деятельность.
Эти настроения отражались в студенческой жизни этого времени.
Беспорядки 1887 года кончились нашей победой, потому что мы хотели немногого. Брызгалова удалили, и для умиротворения этого уже оказалось достаточно. Синявского не помиловали, но о нем скоро забыли. Требование «Долой новый устав» было фразой, которую всерьез не принимали. Еще до возобновления занятий я говорил об этом с Ключевским. Рассчитывая, что его слова дойдут до других, он мне доказывал, почему нельзя требовать этого. Устав 1884 года сочинялся многие годы; его нельзя просто взять да отменить; надо будет его пересматривать, а покуда это будет сделано, нас давно в университете не будет. Ключевский притворялся серьезным. Но он не предвидел, что в августе 1905 года по совету Д. Ф. Трепова именно так будет поступлено с Уставом 1884 года[216]216
Имеется в виду подготовка, при участии товарища министра внутренних дел генерала Д. Ф. Трепова, Указа 27 августа 1905 г. «О введении в действие временных правил об управлении высшими учебными заведениями ведомства Министерства народного просвещения». Этот указ фактически восстановил университетскую автономию, упраздненную Уставом 1884 г.
[Закрыть].
Когда через полтора месяца университет был снова открыт, уже без Брызгалова, студенты могли убедиться, что не только в рамках существовавшего строя, но даже в рамках Устава 1884 года жизнь фактически могла измениться. Студенты продолжали считаться «отдельными посетителями университета», всякая корпоративная деятельность по-прежнему им запрещалась. Но на деле все пошло по-иному.
Беспорядки нам показали, как студенчество плохо организовано, и как только гнет над ним был ослаблен, начался естественный процесс организации. Сверху ему не мешали. Землячеств не разрешили, но на них смотрели сквозь пальцы, и они расцвели. Создалось даже их объединение: Центральная касса. Позднее, когда она стала именоваться «Союзным советом», она изменила характер и сыграла в жизни университета заметную роль руководителя. Основалось землячество «Москвичей». В нем прежде надобности не ощущалось. Но на землячество мы уже стали смотреть не с точки зрения «самопомощи», а как на обязательный способ организации всего студенчества в целом. В качестве такового оно стало нужно. С несколькими товарищами мы его создали. Помню, как многие все-таки идти в него «сомневались».
Но земляческая среда для объединения была слишком громоздка. К ней присоединили другую; на старших курсах медицинского факультета существовал институт курсовых старост для распределения студентов на группы при практических занятиях в клиниках. Этот институт мы решили распространить повсеместно. Курсовые старосты выбирали из себя факультетских; из них составился некий центральный орган из четырех человек. Полушутя мы его называли высокопарным термином «Боевой организации». Так возник аппарат объединения студентов «по-аудиторно».
Стали восстанавливать и другие уничтоженные или придушенные учреждения; например столовую, под покровом «Общества вспомоществования нуждающимся студентам». Стали расти и множиться кружки саморазвития. Это не выходило за рамки студенческих интересов. Студенты оставались чужды политике и на провокацию к ней не поддавались. Охранное отделение было бы радо в нее студентов втянуть, но для этого и оно оказалось бессильным. «Политики» не было даже тогда, когда по внешности можно было бы ее заподозрить. Расскажу пример этого.
В 1889 году умер Н. Г. Чернышевский[217]217
Н. Г. Чернышевский скончался 17 октября 1889 г.
[Закрыть]. Он был из ссылки уже возвращен, жил в Саратове, не занимался политикой. Но его громкого имени всё еще боялись. Незадолго до его смерти в «Русской мысли» была напечатана его статья против дарвинизма, за подписью Старый трансформист[218]218
Имеется в виду статья Н. Г. Чернышевского «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь» (см.: Русская мысль. 1888. № 9. С. 79–114).
[Закрыть]. Все знали, кто автор, но имени его называть позволено не было. Молодое поколение Чернышевского уже не читало. Но его не забыли. Тогда даже в учебнике русской истории Иловайского был помещен пренебрежительный отзыв о его романе «Что делать»[219]219
Характеризуя художественную литературу царствования Александра II, Д. И. Иловайский отмечал, что «в некоторых органах русской печати явилось вредное направление отрицательное (или так называемое “нигилистическое”), совершенно противоположное сантиментальному направлению прежней эпохи. В таком злоупотреблении более свободным печатным словом естественно выразился недостаток основательного образования. Легкомысленные писатели, подражая некоторым западным мечтателям (и даже не изучая их серьезно), принялись в особенности развивать так называемые социальные идеи, направленные против семейных уз и собственности – этих первых основ человеческой гражданственности, без которых человечество возвратилось бы к дикому состоянию. Между прочим, под видом эманципации женщин, взамен чувства долга, проповедовалось поклонение грубой чувственности. Подобные писатели-радикалы в сущности развивали те же черты нравственной распущенности, которые были порождены долгим господством крепостного права и весьма поверхностным образованием». В примечании к последнему предложению Иловайский писал: «Представителем такого грубого поклонения чувственности и нигилизма явился в особенности Чернышевский в своем романе “Что делать”. Последний напечатан в журнале “Современник”» (Иловайский Д. И. Краткие очерки русской истории: Курс старшего возраста. М., 1895. С. 335–336).
[Закрыть]. А в студенческой песне сохранялся куплет:
Чернышевский был для нас символом лучшего прошлого. Кроме того, он пострадал за убеждения, был жертвой несправедливости. Его смерть кое-что во всех затронула.
Власти хотели бы, чтобы она прошла незаметно. Лаконичное оповещение о ней было допущено в газетах в отделе известий. Панихид назначено не было. Мы, студенты, решили, что этой смерти без отклика оставить нельзя. Не предупреждая священника, мы заказали в церкви Дмитрия Солунского, против памятника Пушкина, панихиду в память «раба Божия Николая». Объявлений в газетах не помещали, но посредством нашей «Боевой организации» оповестили студенчество по аудиториям.
Призыв имел необыкновенный успех. Церковь была переполнена; многие стояли на улице. Я с паперти наблюдал, как со всех сторон непрерывными струями вливались студенты. Встревоженный священник сначала отказался служить; его упросили, запугали или подкупили – не знаю. Власти панихиды не ожидали; мер принять не успели. Это было скандалом. В декабре 1887 года, в десятилетие смерти Н. А. Некрасова[221]221
Н. А. Некрасов скончался 27 декабря 1877 г.
[Закрыть], была задумана панихида по нем в той церкви Большого Вознесения, где была свадьба Пушкина и которую большевики разломали. Некрасов не чета Чернышевскому; он был человеком легальным. Годовщина его смерти была всей прессой отмечена. И все-таки только потому, что инициаторами панихиды были неизвестные люди, которые что-то организовали без ведома власти и разослали приглашения на панихиду, церковь заперли, подходящих к ней переписывали, и нескольких лиц – Фальборка, Новоселова (позднее основателя Толстовской колонии, а еще позднее священника) арестовали. Но на нашей панихиде произошло нечто совсем неожиданное. Из церкви все сами собой пошли процессией в университет. Это было по тому времени уже чрезвычайным «событием». Громадная толпа студентов шла по Тверскому бульвару и по Никитской без криков, без пения, спокойно и стройно. Но это все же была уличная демонстрация; она всех захватила врасплох. Мы прошли мимо дома обер-полицмейстера; несчастные городовые не знали, что с нами делать. Дошли до университета и вошли толпой в сад. Это была уже «сходка». И опять характерно для этого времени. Некоторые хотели демонстрацию продолжать, произнести соответствующие случаю речи. Большинство тотчас же заподозрило в этом «политику» и не захотело. А когда стали настаивать, поднялись споры и шум, и все разошлись.
«Поход по Тверскому бульвару», как его тогда называли, произвел впечатление. Генерал-губернатор[222]222
Этот пост занимал князь В. А. Долгоруков.
[Закрыть] был недоволен. Замешан был Чернышевский; это казалось «политикой». Кроме того, обнаружилась организация. Администрация не была способна понять, что этот «инцидент», наоборот, показал, насколько студенчество, даже организованное и передовое, было все же лояльно настроено. Конечно, выступление обнаружило, что студенчество было не тем, чем его хотели бы видеть; оно не относилось враждебно к 1860-м годам, почитало прежних властителей дум. Но выражение сочувствия памяти Чернышевского не превратилось в антиправительственную демонстрацию, не осложнилось выходками против властей. Оно со стороны студенчества было выражением человеческого сочувствия, а не политической манифестацией. Панихида не была борьбой с властью. Но администрация этого и не понимала, и не умела использовать.
У этой истории было одно продолжение. Оно интересно.
В день панихиды на моем курсе читал К. А. Тимирязев. Без церемоний мы решили отменить его лекцию. Как староста курса, я уведомил Тимирязева, что мы идем на панихиду и просим его не читать. Мы не думали, что этой просьбой его компрометируем. Он согласился. Когда же началось расследование о панихиде, добрались и до этого. Перед началом следующей лекции Тимирязева явился декан и вошел в аудиторию вместе с профессором. Тимирязев нам объявил, что в его согласии не читать лекцию по просьбе студенчества был усмотрен с его стороны «как бы заговор» и что ему за это сделано замечание[223]223
К. А. Тимирязев получил выговор от Министерства народного просвещения «за неявку на лекцию» 17 октября 1889 г., в день панихиды по Н. Г. Чернышевскому (см.: Щетинина Г. И. Указ. соч. С. 174).
[Закрыть]. Не знаю, кто был инициатором такого нелепого обращения к нам. Едва Тимирязев окончил, декан Н. В. Бугаев добавил своим пискливым голосом, что он надеется, что студенты в «своем нравственном чувстве найдут основание, чтобы понять, насколько они были неправы, обращаясь к профессору с такой неосновательной просьбой». Я вскочил отвечать. Но декан уже махал на меня рукой и уходил. К. А. Тимирязев сразу лекцию начал. Когда он кончил, мы долго ему аплодировали. Субинспектор вбежал в аудиторию, но мы продолжали при нем.
Через день я получил повестку, вызывавшую меня к попечителю. Там я застал человек десять своих однокурсников. Это показало, по какому делу нас вызвали; мы не могли только объяснить выбора, который был сделан в среде нашего курса. Попечитель обратился к нам с речью. Если бы в наши годы мы были умнее, она должна была нам показать, каким благожелательным человеком был тогдашний попечитель Капнист. Но в нем, как во всяком начальстве, полагалось видеть врага, и мы потом издевались над его речью, придираясь к неудачным словам. Он напомнил, что аплодисменты профессорам запрещаются, но что в данном случае дело было не в них: «Вы не дети, да и я не дети, – неудачно сказал он. – Не будем играть в прятки. Вы хотели сделать демонстрацию, которая связана с именем Чернышевского; вы просили не читать лекции, чтобы быть на его панихиде. Но какое отношение к вам, студентам естественного факультета, имел политико-эконом Чернышевский?» Обращаясь к стоявшему с краю, он спросил: «Скажите, какие сочинения Чернышевского вы читали?» Вопрос захватил его врасплох. Студент, большой, рослый уфимец Кротков, сконфуженно пробормотал: «Я ничего не читал». Такой ответ ободрил попечителя. Он обратился к другому, тот ответил то же. Мы становились смешными. Чтобы спасти положение, я заявил, что Чернышевского мы поминали не как студенты-естественники и не как политико-эконома. Кровная связь Чернышевского со студенчеством не оборвалась до сих пор, что видно из студенческой песни. Капнист понял, что я на этой скользкой почве могу зайти слишком далеко, и перебил: «Нельзя отменять лекций из-за песенок». Затем стали говорить начистоту. Он указал, что мы сами знали, что Чернышевский в свое время были осужден как преступник, что правительство чествовать его не позволило. Почему мы, студенты, могли думать, что общее правило к нам одним не относится? «Я позвал вас, – сказал он в заключение, – не для наказания, даже не для замечания. Слава богу, все окончилось благополучно: но если бы, к несчастью, произошла на улице какая бы то ни было стычка с полицией, то где бы был сейчас каждый из вас, одному Богу известно. Но я прошу вас повторить всем, что я вам говорю. Мои права ограничены, я не всегда буду в состоянии вас защитить. Я пригласил именно вас не потому, чтобы считал вас более виноватыми, чем других. Я не знаю, кто затеял эту историю, и не хочу этого знать; но вы, конечно, их знаете и это им от меня передайте». Они затем объяснил, почему нас выбрал для передачи. Всех оснований не помню; тому прошло 45 лет. Одни были стипендиатами и могли лишиться стипендии; другие были рецидивистами, ибо уже подвергались дисциплинарным взысканиям. «А вас, – сказал он мне, – я пригласил специально из-за вашего темперамента; нужно, чтобы вы прежде думали, а действовали только потом. Учитесь управлять собой раньше, чем, может быть, вам придется управлять и другими».
Не знаю, есть ли кто-либо в живых из тех, кто эту речь слышал вместе со мной и кто помнит, как мы к ней отнеслись. Уйдя от попечителя, мы по свежей памяти его речь записали, подчеркивая ее смешные места; их было много. Потом с насмешками распространяли ее, как бы исполняя данное нам поручение. Это не было ни умно, ни благородно. Однажды, читая эту речь с интонациями перед профессорами, собравшимися у моего отца, я был удивлен, что они не смеялись. В отношении попечителя к нам сказался не только сам Капнист с его доброй и хорошей душой. В нем было и правильное понимание положения. Несмотря на демонстрацию, которую можно было выдать за политическую, конечно, опасными для порядка мы не были. Но зато мы показали, как многого не понимали и не умели ценить.
Приблизительно в это время началось кратковременное, но характерное и заметное движение в студенчестве, которое стали называть «легализаторством». Я не только к нему принадлежал, но [и] считался самым несомненным его представителем. Об этом я узнал из мемуарной литературы, главным образом из книжки В. М. Чернова «Записки социал-революционера». Эти его воспоминания многое мне в моем собственном прошлом показали с другой стороны, чем я в своей наивности думал.
Вот что по этому поводу пишет Чернов: «Вокруг студента-юриста IV курса В. А. Маклакова[224]224
Это ошибка. Я не был ни юристом, ни четырехкурсником.
[Закрыть], только что вернувшегося из-за границы, сплотился кружок, лелеявший идею о легализации студенческих землячеств. Идея принадлежала лично Маклакову. Он написал в “Русск[ие] вед[омости]” два-три фельетона о разных типах студенческих организаций, корпораций, научно-литературных кружков и т. п. за границей[225]225
Имеется в виду статья В. А. Маклакова «Парижские студенческие ассоциации», которую он опубликовал под псевдонимом В. М. в № 298 «Русских ведомостей» за 1889 г. Этот фельетон стал первым литературным опытом Маклакова.
[Закрыть]. Говорили о каком-то “докладе” Совету профессоров, о шансах аналогичного доклада в более высоких сферах. Покуда что, явилось “легализаторское” течение в студенческой среде. Его сторонники говорили о необходимости, в особенности на время “кампании” за узаконение студенческих организаций, воздержаться от всякого рода выступлений»[226]226
Чернов В. М. Записки социалиста-революционера. Берлин, 1922. С. 112–113.
[Закрыть].
В этих словах не все точно, и моя роль очень преувеличена. Но раз она все-таки сделана предметом чужих воспоминаний, я имею право рассказать то, что действительно было. Оно было гораздо скромней и безобидней.
Глава IV. Новые течения в студенчестве
Осенью 1889 года я поехал с отцом в Париж на Всемирную выставку[227]227
Всемирная выставка 1889 г. проходила в Париже с 6 мая по 31 октября (по н. ст.) и была приурочена к 100-летию Великой французской революции 1789 г.
[Закрыть]. Для студента такая поездка была редкой удачей. Даже с точки зрения формальных законов ему поехать за границу было не просто. Было необходимо свидетельство врача о болезни. Проф[ессор] Дьяконов свидетельство дал. Надо было его утвердить во Врачебном управлении[228]228
Имеется в виду Московское губернское врачебное управление – медицинско-административное учреждение при Московском губернском правлении.
[Закрыть]. Губернский врач, не взглянув на меня, написал на свидетельстве, что с коллегой согласен. Эта бесцельная ложь считалась необходимой; она напомнила мне потом процедуру бракоразводных процессов.
Это показывало, как мало власть сочувствовала поездкам молодежи за границу и старалась ее уберечь от впечатлений. Это было неумной политикой. Заграничные впечатления для русской молодежи могли быть полезны. Если большевистская власть боится пускать свою молодежь за границу – это понятно. Но тогдашняя власть не была в таком положении.
Заграничная поездка стала для меня откровением. Я упросил отца оставить меня в Париже подольше; он возвратился один, и я пробыл в Париже месяц после него. Это время было и для Парижа исключительным временем. Была не только Всемирная выставка; было столетие Французской революции и апогей политической борьбы с буланжизмом, выборы 1889 года, которые буланжизм разгромили[229]229
Буланжизм – политическое движение, которое возглавлял генерал Ж. Э. Буланже, лидер правой, националистической фракции палаты депутатов, намеревавшийся реформировать парламентарный режим в смысле усиления власти правительства за счет полномочий парламента. «Всей жизни Франции я не мог охватить, – описывал свои парижские впечатления В. А. Маклаков в других мемуарах. – Но за это именно время я мог видеть, как сами французы к своему режиму относились, ибо он был поставлен тогда на серьезное испытание. Им был “буланжизм”. В основе политических успехов этого генерала, кроме личной его популярности как генерала, лежало, очевидно, и законное недовольство многих слоев населения, желавших улучшить свое положение; недаром Буланже выдвигал радикал Клемансо, тогда еще “низвергатель всех министерств”. Буланже был избранником не правых, а левых; только позднее он попытался объединить вокруг себя всех недовольных, не исключая принципиальных врагов самой Республики. Недовольство политикой Республики среди некоторых частей населения дало ему популярность сначала на депутатских выборах Севера, а потом завершилось блестящей победой его же в Париже. Тогда в качестве депутата Парижа он официально поднял вопрос о пересмотре конституционных законов. Он заявил себя врагом парламентаризма как источника слабости Франции; он хотел, чтобы власть правительства была более независима от палаты. В этом, конечно, была доля правды, но большинства для этой реформы в палате он не получил. Его прежние покровители, как Клемансо, от него отреклись. Его сторонники, учитывая сочувствие к нему среди масс, толкали его на открытый переворот. Сделав его, он мог бы потом санкционировать его плебисцитом, как это было при Наполеоне III. На переворот Буланже не пошел и своих главных сторонников тем оттолкнул. А правительство возбудило следствие против руководителей этого плана как заговорщиков против Республики. Буланже сделал вторую ошибку: не веря беспристрастию следствия, он тайно уехал из Франции в Бельгию, а потом в Англию. Это бегство его погубило: им он потерял большую долю своего обаяния. Спор между ним, как будто бы претендентом на личную власть, и Республикой и должны были решить выборы 1889 года. Были приняты меры, чтобы ослабить их плебисцитарный характер, избирательный закон был изменен. Воротились к системе scrutin d’arrondissement [голосование по округам (фр.)]; были запрещены candidatures multiples [множественные заявки (фр.), т. е. выдвижение одной кандидатуры в нескольких округах]. Это ослабляло значение для исхода выборов личной популярности кандидата, но выборы остались все-таки настоящими выборами. Ни о каких конкретных реформах или социальных вопросах на этих выборах не было речи. Все это отходило на задний план. Но зато вопрос был поставлен очень отчетливо: сохранить ли прежнюю Республику, введенную в 1875 году, предоставляя ей в установленном для этого порядке себя улучшать, или сделать “скачок в неизвестное” и изменение Конституции предоставить полновластной Конституанте, Учредительному собранию. Выборы должны были показать, какой путь предпочитает страна в лице ее избирателей: законность или волю популярного человека в лице его теперешних сторонников. ‹…› Сам Буланже был лишен тогда избирательных прав, не мог поэтому быть кандидатом, но от его имени и за него выступали его сторонники. Я ходил слушать и кандидатов, и тех профессиональных ораторов, которые ездили с собрания на собрание, чтобы поддерживать их. На этих собраниях я, между прочим, очень часто слушал Деруледа. Это был один из наиболее любимых и неутомимых ораторов. Такие словесные турниры мне казались блестящими, да часто и были блестящи; к тому же для меня это было тогда новое зрелище. Я мог, кроме того, наблюдать, как толпа слушателей на речи их реагировала, на что она в них откликалась. ‹…› В округе, где я проживал (1е circonscription, 5е arrondissement, l’ancienne circonscription de Louis Blanc [5-й избирательный округ, 1-й раздел его, который выбирал одного общего депутата, прежний округ Луи Блана (фр.)], как часто подчеркивали ораторы, было три кандидата: Деломбр, по официальному названию партии – оппортунист ‹…›; Бурневиль, радикал, и знаменитый Накэ, буланжист. Были еще один или два кандидата “рабочих”, но у них не было шансов пройти и голосов у них было так мало, что на исход выборов они повлиять не могли. Задача избирательной кампании в нашем округе была помешать Накэ получить при первом голосовании абсолютное большинство и тем поставить его на перебаллотировку. Его противники тогда бы соединились. Как общее правило, в этом году соперничавшие кандидаты не делали совместных собраний. Отдельные лица проникали на чужие собрания и там выступали против их устроителей. Так было и в день, о котором я говорю. Было собрание, назначенное Бурневилем; он сделал свой доклад, после него говорили другие. Но вдруг пришла весть, что Накэ во главе целой толпы буланжистов едет к нам. Сначала думали, что цель этого прихода только сорвать наше собрание; поднялись споры, что против этого делать; время проходило – и вдруг большая толпа буланжистов ворвалась в залу, внесла туда Накэ на руках и поставила его на трибуну. Отступать было нельзя. Председатель после нескольких призывов к спокойствию предоставил слово Накэ. Тот сказал очень корректную и хорошую речь. Напомнил свое прошлое, свою борьбу за Республику, сказал, что у республиканцев на различные вопросы могут быть разные взгляды, что он сторонник изменения Конституции Конституантой, а другие могут хотеть ее изменить другим путем и даже совсем не хотеть изменять. Обо всем этом можно спорить, но когда про него, Накэ, говорят, что он противник Республики, то этой клевете они сами верить не могут; свою преданность Республике он достаточно доказал своей жизнью – и кончил речь горячим призывом: “Vive à jamais la Rèpublique!” [ «Да здравствует навеки республика!» (фр.)]. Буланжисты неистово хлопали; Бурневиль стал отвечать: еще раз отозвался о прошлом Накэ с похвалою, признал, что прежде был сам его другом, глубоко его уважал и любил, но затем кончил словами: “Eh bien, citoyens, cet homme n’existe plus: demandez aux èlecteurs de Vosges, ce qu’ils en ont fait” [ «Так вот, граждане, этого человека больше нет: спросите у избирателей департамента Вогезы, что они сделали с ним» (фр.)]. Тут поднялся оглушительный рев, стали хвататься за палки и стулья. Предстояло побоище. Многие поспешили на улицу. Там уже стояла толпа, переругиваясь, угрожая друг другу. Ждали выхода тех, кто в зале остался, чтобы продолжать с ними свалку на улице. Но тут произошло нечто непредвиденное. Из залы вдруг донеслось пение “Марсельезы”, и все стали оттуда выходить, впереди шел Накэ с Бурневилем под руку и с громогласным пением “Марсельезы”. Вся толпа на улице вдруг за этим последовала, шапки полетели на воздух, все пели, аплодировали и обнимались. “Марсельеза”, Республика на минуту всех помирили. Конечно, это “театральный” эффект, сцена могла быть даже подстроена. Но если вспомнить, что на этих именно выборах произошел разгром буланжизма, можно предполагать, что страна, в общем, была за ту Республику, которая тогда существовала, что страна ее защитила не только против ее принципиальных врагов, но и против компрометирующих ее демагогов. И мне было небесполезно в свободной стране получить урок консерватизма, то есть бережного отношения к тому, что создалось исторически. Подобного отношения русская жизнь в нас не воспитала» (Маклаков В. А. Воспоминания. С. 79–83).
[Закрыть]. Впечатления от этого бесследно пройти не могли. Менее всего заняла меня выставка. Я ходил по ней вместе с отцом, но у меня оказались свои интересы и завелись свои знакомства. Влекло к себе и студенчество. Про парижских студентов я знал только то, что существует Латинский квартал, где они проживают. Я думал, что этот квартал похож на нашу Казиху. Мне хотелось поскорее их найти, узнать, как им живется во Франции. Применяясь к нашим обычаям, я искал их по наиболее дешевым столовым, рассчитывая их увидать в бедном и в поношенном платье. Я заговаривал с незнакомыми и удивлялся, что попадал не на студентов. Меня выручил случай. Проходя по rue des Écoles[230]230
Улица Школ (фр.).
[Закрыть], я увидал флаг и вывеску «Association générale des étudiants de Paris»[231]231
«Всеобщая ассоциация студентов Парижа» (фр.). Всеобщая ассоциация студентов факультетов и высших школ Парижа (AGEP) была создана в 1884 г. С 1888 г. располагалась по адресу rue des Écoles, 41–43. В 1907 г. вошла в Национальный союз всеобщих ассоциаций студентов Франции (UNAGEF).
[Закрыть]. Я сказал, что я русский студент, который прибыл в Париж и хотел бы познакомиться с их учреждением. Отворивший дверь студент радостно потряс мне руку и кликнул кого-то из соседней комнаты: «Venez done ici»[232]232
«Приходите сюда» (фр.).
[Закрыть]. Так началось наше знакомство.
В этой среде я прожил около месяца. Через нее окунулся и в политическую горячку этого времени. Все прельщало меня новизной. Даже на избирательные афиши, которые тогда расклеивали по всем стенам, я глядел с волнением и любопытством. Там оставались еще афиши знаменитых выборов в январе, когда Буланже был выбран депутатом Парижа и мог сделать переворот в свою пользу. К сентябрю положение переменилось. Страна мирным голосованием решала, чему быть: буланжизму или республике. Буланже был в бегах. Его сторонники вели кампанию за него. Студенты, как избиратели, в этой борьбе принимали участие. Они стали водить меня на собрания; я слушал всех популярных ораторов и знакомился на практике с избирательной кухней. Я не оставался пассивным, делал на собраниях «interruptions»[233]233
«перерывы» (фр.).
[Закрыть], мешал говорить, один раз сам благодаря этому чуть не попал на трибуну. Мне так хотелось самому все испытать, что в день выборов 22 сентября я в избирательном участке раздавал афиши и бюллетени, сидел в партийном «permanence»[234]234
«присутствии» (фр.).
[Закрыть] и был счастлив, когда на одном собрании, где выступили Naquet против Bourneville, началась драка, остановленная пением «Марсельезы». Все «впечатления бытия»[235]235
Процитирована строка из начала стихотворения А. С. Пушкина «Демон».
[Закрыть] для меня были новы, и соблазны открытой политической жизни надолго меня отравили. Несколько недель, что я провел здесь, меня переродили. В первые дни, когда мне всучили на улице прокламацию, я ее прятал от постороннего взгляда. Возвращаясь в Россию, я не думал, что кое-что надо спрятать, и на границе у меня отобрали кипу фотографий деятелей Французской революции, хотя я не без основания называл их ее «жертвами».
Но возвращаюсь к «студенческой жизни». Я был потрясен Студенческой ассоциацией, которая так же мало походила на наши землячества, как Латинский квартал на Казихинский переулок. Открытое существование студенческих учреждений, активная поддержка их со стороны университетских властей и правительства были для меня неожиданны. К этому мы не привыкли. Ясно, что за это надо было платить. Существование Студенческой ассоциации было бы невозможно, если бы студенты в ней занимались «политикой». Это запрещалось самим уставом ассоциации. Студенты, которые были полноправными гражданами и наряду с другими принимали участие в политической жизни страны, друг с другом боролись, могли безнаказанно быть к правительству в оппозиции, из своей ассоциации политику устранили. Партийных споров в ней не допускали не только устав, но и нравы студенчества. Отстранение от «политики», которого в России от нас требовала власть и за которое «старшее поколение» нас осуждало, как за равнодушие к гражданскому долгу, в парижской ассоциации, напротив, оказывалось признаком политической зрелости. Это был для меня первый урок, который было полезно продумать. Я, кроме того, мог увидеть, насколько французские студенты были образованней нас, которые больше воспитывались на журналистике и публицистике, чем на «первоисточниках». Легальная студенческая деятельность вела к европейским порядкам, не к нашему русскому кипению «в действии пустом»[236]236
Слова из «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (гл. 7, строфа 22).
[Закрыть]. Там я это понимал и не раз себя спрашивал: неужели наша власть этого не сумеет понять?
Я открыл в Париже и большую «сенсацию». Я узнал, что летом там состоялся Международный студенческий съезд[237]237
Имеется в виду Международная конференция европейских студентов, проходившая в Париже 10 августа 1889 г.
[Закрыть] и на нем были представлены все, кроме русских. Меня упрекали: почему никто из нас не приехал? «Ведь и вам было послано приглашение через вашего министра народного просвещения». Я негодовал на это незнакомство с нашею жизнью. Рассказывал про наши отношения с властями, про подпольные организации, землячества и т. д. Это было ново для них; по их просьбе я написал о нашем студенчестве статью для «Бюллетеня Студенческой ассоциации». Но меня утешали, что не все было потеряно. Весной будет новый съезд в Монпелье по поводу шестисотлетия тамошнего университета. Если бы мы прислали туда депутацию? Я с радостью согласился на это. Было решено, что по приезде в Москву я поставлю Парижскую ассоциацию в непосредственную связь с нашими организациями, и через их посредство наше студенчество свяжется с международным. Я получил письменные полномочия от ассоциации и ехал в Москву в уверенности, что сближаю Россию с Европой. В мои годы было естественно увлечься политической и студенческой жизнью Парижа. Но, конечно, у меня было к этому préjugé favorable[238]238
пристрастие (фр.).
[Закрыть]. Я слышал потом разговор двух студентов-«белоподкладочников», которые были в Париже в одно со мной время; никто из них не заглянул ни в ассоциацию, ни в политические собрания. Они проводили очень весело время, но совершенно иначе.
Итак, благодаря этой поездке я неожиданно обрел для себя новую «веру». Потребность в ней была так велика, что одного толчка оказалось достаточно. Я без устали рассказывал товарищам о том, что видел. Написал фельетон «Парижская студенческая ассоциация»[239]239
«В моей статье, – передавал ее содержание В. А. Маклаков позднее, – я особенно напирал на то, что казалось мне наиболее важным, то есть на происхождение ассоциации. Как это ни странно, положение именно французских студентов было в одном отношении сходно с нашим “реакционным” Университетским уставом 1884 года. Мы из полицейских соображений были объявлены “отдельными посетителями” Университета, которым поэтому запрещались всякие корпоративные действия. Но то же сделала когда-то и Французская революция. Уничтожая феодальный порядок, она разрушала следы корпораций, имела дело только с “отдельными гражданами” единой и нераздельной Республики. Именно ввиду этого, для защиты студентов как корпорации, и возникла студенческая ассоциация. С этого нужно было и нам начинать: не только для самопомощи и для самозащиты, но и для школы самоуправления. В этом смысле я и написал свой фельетон». Эта статья, по мнению автора, «затронула важный вопрос о жизни студенчества и во всяком случае могла быть хорошим вступлением к той попытке сближения наших доморощенных учреждений с международным порядком, о котором тогда мы мечтали» (Маклаков В. А. Воспоминания. С. 93).
[Закрыть]. Это было мое первое печатное выступление. В. А. Розенберг, которому я вручил мою статью, в своей книге о «Русских ведомостях» вспоминает об этом[240]240
В. А. Розенберг в упомянутой книге писал: «Маклаков В. А. (род. 1870 г.), знаменитый адвокат и оратор, общественный деятель, член Государственной думы, парижский посол от Временного правительства. В “Русских ведомостях” начал свою литературную деятельность еще студентом в 1889 г. Сотрудничество продолжалось и приняло довольно деятельный характер в 1905–1917 гг.» В другом месте В. А. Розенберг, отметив, что «ряд видных современных общественных деятелей получил литературное крещение в “Русских ведомостях”», вспоминал: «Первый оратор нашей Государственной думы, В. А. Маклаков, еще в студенческом мундире принес в редакцию нашей газеты своего литературного первенца» (Розенберг В. А. Из истории русской печати. Организация общественного мнения в России и независимая беспартийная газета «Русские ведомости» (1863–1918 гг.). Прага, 1924. С. 216, 236–237).
[Закрыть]. Позднее я в них много писал. Мы собирались даже праздновать двадцатипятилетие моей писательской деятельности; только оно совпало с началом войны[241]241
Имеется в виду Первая мировая война 1914–1918 гг.
[Закрыть]. Первый опыт прошел не без огорчений. Когда я увидел свою статью напечатанной, где из 700 строк исключили не меньше 300, я пришел в негодование; мне казалось, что все в ней испорчено[242]242
Ср.: «Через несколько дней после вручения рукописи я получил письмо от А. С. Постникова, бывшего профессора, специалиста по вопросам крестьянства, а позднее моего коллеги по 3-й Государственной думе; он извещал, что моя статья принята и будет скоро напечатана с небольшими сокращениями, которые ничего в статье не изменят. Таков был мой литературный дебют. ‹…› Но когда он был, наконец, напечатан, он мне причинил одно огорчение. Со статьей незнакомого студента, конечно, не церемонились: она была сокращена почти вдвое, выпущены все намеки на то, в чем лично я видел главный ее интерес. Я пошел в редакцию объясняться, не предполагая, что сокращение статей есть дискреционное право редактора. Ко мне вышел П. И. Бларамберг, который думал, по-видимому, что я пришел их благодарить. Разговор вышел неприятный и несправедливый. Я негодовал, а Бларамберг обижался. Он его кончил словами: “Это нам урок – не иметь дела с молодыми людьми, которые ничего не понимают”, на что я ответил: “А мне урок – не иметь дела со стариками, которые всего боятся”. Но и с сокращениями статья об ассоциации имела успех» (Маклаков В. А. Воспоминания. С. 92–93). Статья «Парижские студенческие ассоциации» была напечатана в № 298 «Русских ведомостей» за 1889 г. с подписью В. М.
[Закрыть].
Статья имела успех; студенты знали, кто автор, хотя были только инициалы. Она мне создала популярность. Меня приглашали в кружки рассказывать о том, что я видел. Общее сочувствие этой статье было характерно. Через несколько лет она была бы всеми осмеяна за оппортунизм и аполитичность. Тогда же меня критиковали только отдельные лица. Большинство мне явно сочувствовало. А я в ответ усиленно хлопотал, чтобы отправили в Монпелье авторитетную делегацию, чтобы она сама увидела, как действительно живут студенты в Европе. Я был приглашен в заседание Центральной студенческой кассы и там сделал доклад; такой же доклад сделал и в Петровской академии[243]243
Петровская земледельческая и лесная академия была открыта в 1865 г. на территории казенного имения Петровское-Разумовское около Москвы. В 1890–1894 и в 1917–1923 гг. – Петровская сельскохозяйственная академия, в 1894–1917 гг. – Московский сельскохозяйственный институт. С 1923 г. – Московская сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева.
[Закрыть]. Никто мне не возражал; все находили, что сближение с Европой открывало новые горизонты студенчеству. Никто не доказывал преимущества подполья перед легальной жизнью. Посылка делегации была решена; я собирался ехать и сам, но хотел непременно, чтобы со мной поехали студенты более лево настроенные. Я хотел, чтобы именно они убедились, что нам не грех пример брать с Европы. Эти мои планы были разрушены беспорядками марта 1890 года.
Беспорядки 1890 года носили другой характер, чем в 1887 году; к ним и отнеслись по-иному. Авгуры[244]244
Авгуры (лат. augures) – жрецы в Древнем Риме, которые занимались гаданием по птицам. В широком смысле – посвященные, в отличие от профанов.
[Закрыть] тогда говорили, что в них было не без «политики». Это неверно. Настроение таково еще не было. И повод для обоих беспорядков был одинаков: солидарность учащейся молодежи. Тогда, в 1887 году, другие университеты «поддержали» Москву; сейчас Московский университет «поддержал» Петровскую академию. Жизнь Петровской академии была непохожа на нашу; студенты жили в общежитии, вне Москвы; там и для политики была более благодарная почва. Я не помню причин разгрома, который в 1890 году там совершился[245]245
С 1 января 1890 г. в Петровской сельскохозяйственной академии был введен в действие новый устав, отменявший прежние академические вольности и в этом смысле аналогичный Университетскому уставу 1884 г. В ответ на запрещение правления академии допускать женщин в общежитие студенты 19 февраля 1890 г. не посетили лекции и устроили несанкционированную иллюминацию академического здания и вечеринку, в которой участвовали 150 человек, из них треть – женщины. Попытки директора Петровской академии Э. А. Юнге вести переговоры со студентами оказались безуспешными, студенческие волнения усиливались и достигли апогея 3 марта 1890 г., когда студенты предъявили Э. А. Юнге петицию. Она содержала требования об отмене административной части нового устава и корпоративного суда над студентами, принимавшими участие в волнениях, и об отставке Э. А. Юнге. Состоявшаяся 5 марта большая студенческая сходка постановила приостановить чтение лекций, после чего студенты уничтожили все расписания, правила и постановления, касавшиеся нового устава. В ночь с 5 на 6 марта 1890 г. к Петровской академии прибыли жандармы и городовые, которые арестовали 125 человек и препроводили их в Бутырскую тюрьму. На следующий день на Петровских выселках арестовали еще 50 человек, и академия была фактически закрыта. Студенческие волнения в Петровской академии получили широкую поддержку со стороны студентов Московского университета уже 6 марта. Подробнее см.: Орлов В. И. Студенческое движение Московского университета в XIX столетии. М., 1934. С. 205–209.
[Закрыть]. Но когда с начала марта стало известно, что Академия закрыта, а студенты все арестованы, это по детонации тотчас отразилось на нас. 7 марта я работал в Химической лаборатории, когда в окно мы увидели, что в саду собирается сходка. Мы бросились узнать, что происходит. Я боялся, что новые беспорядки нам помешают; уговаривал не торопиться, сначала узнать. На меня набросились, поднялись возражения, крики. Мы не кончили спорить, как в ворота въехали казаки и нас окружили; увели сначала в Манеж, а когда стемнело, в Бутырскую тюрьму, где и поместили всех вместе. Нас оказалось 389 человек.
Это сиденье могло лишний раз подтвердить, как слабы были политические настроения в нашем студенчестве. В тюрьме мы прожили пять дней на полной «свободе». Делали, что хотели; постоянно собирались на общие сходки для «обсуждения своего положения». Среди нас, вероятно, были агенты, но о них мы не думали. Они не мешали нам на сходках говорить о том, как мы будем «продолжать», когда нас выпустят. На сходках иногда читались доклады на общие темы. Интереса к ним не проявлялось, а если докладчики подходили к политике, то «махали руками» и расходились. И мы нисколько себе не противоречили, когда проявили горячее сочувствие к «политическим арестантам». Раз двух в штатском вывели на прогулку из башни – и мы их увидели. Электрический ток пробежал по тюрьме. Все привалили к окнам, пели им песни, сообщали новости о том, что происходит, пока их не увели. Потом целый день сторожили все окна башни, потому что в одном из них увидели руку, которая чертила в воздухе буквы. Мы сочувствовали им лично, их тяжелой судьбе, но как в тюрьме, так и на воле деятельность, за которую эти люди сидели в мешках, нас не увлекала. Мы не вдохновлялись никаким другим чувством, кроме долга студенческой «солидарности». Если были среди нас люди других, более серьезных настроений, их было так мало, что они не выявлялись. Вероятно, на нас они смотрели с большим сокрушением.