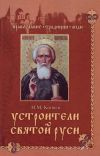Текст книги "Ключи заветные от радости"

Автор книги: Василий Никифоров-Волгин
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Голод
Все мы были голодны. Мы давно не смеялись, но сегодня нам было очень смешно. Рассмешил маленький шестилетний Вовка. Произошло это так. Вовка встал около плиты, долго смотрел на ее желтые прокопченные кирпичи и серьезно сказал:
– Кирпич похож на хлеб!
Когда он это сказал, то первым рассмеялся параличный отец. Смех его был хриплым и всхлипывающим, похожим на рыдание. К нему присоединился пугливый звенящий смех матери. Глядя на них, засмеялись и мы с Вовкой. Смеялись до упада, до слез, до удушья, и странно: во время смеха мы избегали смотреть друг на друга и старались закрывать глаза, как птицы, когда они поют.
Был момент, когда мы неожиданно посмотрели друг на друга и сразу же, словно по уговору, перестали смеяться. И почему-то стыдно стало нашего смеха.
В комнате стало тихо – слышно было, как звенела по окну снежная россыпь и ржаво скрипел уличный фонарь, колеблемый ветром.
Тишину нарушил плач Вовки.
Плач голодного, так же как и смех, жуток. Он похож на завывание зверя, которому голодно в ночном снежном лесу, под синими морозными звездами.
Над Вовкой склонилась мать и тревожно спросила:
– Что с тобой, родимый мой мальчик?
Вовка спрятал в складках ее платья лохматую свою голову и сквозь слезы сказал:
– Зачем вы смеетесь?
– Разве нельзя смеяться, маленький мой? – спросила мать, остановившись немигающими глазами на черном кресте оконной рамы, за которой качалась тощая рябина и начиналась вьюга.
– Не надо смеяться, – тихо ответил Вовка, опустив голову, – вы такие страшные, когда смеетесь!
У окна в старом кресле сидел отец, глядел на вьюжную завечеревшую улицу и шептал, словно в пьяном бреду:
– А что бы, если вместо снега падала с неба мука?.. Но вместо муки с неба падает снег… и кирпич похож на хлеб… Дайте хлеба! – вдруг закричал отец.
– Нет хлеба… – шепотом ответила мать и крестом сложила на груди руки.
– Врете! У вас есть хлеб! Я слышу запах хлеба!
При слове «хлеб» к матери подошел Вовка и заплакал:
– Мама! Я кушать хочу!
Мать охватила голову руками и застонала.
– Ты плачешь, маменька? – спросил Вовка, обнимая ее ноги. – Я не буду. Я ничего не хочу. Положи меня баиньки…
Мать с безумным криком набросилась на Вовку, стала бить его кулаками и рвать на нем волосы.
– Проклятые! – кричала она в исступлении. – Вы меня замучали! Вы на кресте меня распяли!
Вовке было больно, но он не плакал. Отец не шевельнулся и продолжал свой несвязный голодный бред:
– Вместо муки падает снег… Скоро наступит длинная-длинная ночь, и мы так хорошо заснем, и никто не будет знать, что у нас нет хлеба…
Я обнял обезумевшую мать и уложил ее в постель. Когда она успокоилась, то тихо позвала к себе Вовку.
Он подошел к матери, прижался к ней, и она целовала его заплаканные глаза.
От ветра колебался фонарь за окном, и вся наша угрюмая холодная комната была заполнена колеблющимися тенями. Свет фонаря лунными отсветами падал на лица, и они казались призрачными, прозрачно-нежными, не имеющими тела.
Чтобы убаюкать Вовку, мать тихим колыбельным голосом запела любимую его песенку:
Был у Христа Младенца сад,
И много роз взрастил Он в нем.
Он трижды вдень их поливал,
Чтоб сплесть венок Себе потом.
Жутко, когда смеется голодный. Жутко, когда плачет голодный, но нет ничего более жуткого, когда голодная мать поет колыбельную песню голодному ребенку.
Кошмар
Чахлая, без цветов и трав равнина. Курганы. Гнилые кресты. Ржавые проволочные заграждения. Скелет лошади. Череп человека. Кружится сухой ветер, вздымая песчаную пыль. Одичавшая большая дорога с опрокинутыми телеграфными столбами и заросшими бурьяном колеями.
У края дороги, в просветах обожженных берез, развалины большого монастыря. Уцелевший ржавый купол молится сизому, завечеревшему небу. Вместо белых голубей витают над монастырем жирные вороны.
Степной ветер звенит ржавыми телеграфными проводами.
Дико и пусто, как во времена печенега.
По дороге плетутся двое. Старый и молодой. Одеты в тряпье. Землисто-синие лица. Больная развинченная походка. У старика прогнивший проваленный нос. Ветер треплет грязно-мочальную бороду. Молодому лет двенадцать. Широкое обезьянье лицо с низким лбом. Тусклый блеск маленьких злых глаз. Длинные волосатые руки с крючковатыми, мышиного цвета пальцами. Лицо и руки в багровых наростах.
– В-о-о-л-к-а… а-у-о, скорно? – дико, рывком спрашивает мальчик.
Старик гнусавит сиплым шуршащим голосом:
– Волга не скоро. Верст пятнадцать. Заночуем в монастыре. Я устал…
– Завчуем… a-о… уах-ли… – соглашается мальчик.
– Как ты плохо, Демоненок, говоришь по-русски! У тебя волчий, лесной язык.
– Гай… ты? – указывая на курган грязным мясистым пальцем, спрашивает Демоненок.
– Это могилы. Покойники лежат. Красные и белые солдаты. Война была здесь. Братоубийственная…
Демоненок гогочет. Ему весело. По земле хромает ворон.
– Лапу сломал, – говорит старик. – Поймай его и тащи сюда.
Демоненок волчьими прыжками подбежал к ворону, схватил его крылья и принес старику. Тот взял его за лапы и ударил о телеграфный столб. Демоненок при взгляде на кровавую разможженную голову ворона заурчал, как зверь, и облизнул губы длинным толстым языком.
– Жрать! Жра-ать! – тянулись к мертвому ворону цепкие обезьяньи руки мальчика.
– Погоди, – отстранял его старик. – Придем на ночлег, там и поедим…
Демоненок подошел к телеграфному столбу, жадно стал облизывать на нем следы крови и урчать звериным восторгом. Старик шел слабой, заплетающейся походкой сифилитика, изредка смахивая что-то с лица, словно приставала к нему паутина. Рука была серой, как мышиная шерсть, в багровых гниющих наростах.
Надвинулся сумрак, когда они дошли до развалин монастыря и укрылись под каменными сводами полуразрушенной часовни. Вспыхивала молния и гремел гром. Наползали зловещие черные тучи.
– Ыгы-гы… а? – спросил Демоненок и протянул старику ржавый Георгиевский крест. Старик взял крестик, покачал головой, обнял Демоненка и стал говорить:
– Слушай, Демононок… Была Россия…
– Рос… Рас… – с усилием повторял мальчик, стараясь врезать в мозг это неведомое и чужое для него слово.
– Кругом была жизнь. Работали фабрики. Мчались поезда, нагруженные товаром. Были университеты. Книги. Чистые женщины. Много было солнца. Много было радости…
Демоненок не понимал его, не слушал, но старик продолжал говорить, поникнув головой:
– Новая мораль о раскрепощении пола, о свободе страстей и о любви как половом голоде
Россией были восприняты с таким энтузиазмом и шумом, с каким не встречались в свое время великие писатели старой, ушедшей жизни – Достоевский, Толстой, Тургенев… Свобода полового разгула вошла в моду, была узаконена. И даже установлен был праздник в честь торжествующей плоти, на котором творилось нечто неописуемое по своей животной разнузданности. Насилия над женщинами считались подвигом. О нем хвастались. Чубаровщина была идеалом юноши, вступающего в жизнь.
Все, что напоминало о чистоте и красоте ушедших дней, было смято, задушено и сожжено.
Страшное было время… Рождались дети, и мы давали им новые имена… Тебя я назвал Демоном…
При упоминании своего имени Демоненок закивал головой и загоготал.
– Да, страшное было время… Вся Россия от края до края, севера и юга, как гангреной, была охвачена стихийным развратом…
В 19.. году в России появилась неведомая медицине, новая венерическая болезнь, прозванная «головой смерти». На теле больного появлялись крупные багровые наросты с тремя черными впадинами, имеющие сходство с черепом. Наросты разъедали все тело. В короткий срок больной превращался в гниющий кровоточащий труп и медленно, в страшных мучениях умирал.
Впервые эта болезнь появилась в Заволжье, о чем и было сообщено по радио совету старост. Тревоге, с которой было передано это известие, не придали значения, и жизнь России шла своим чередом. Народился новый человек. Был он расслабленным и хилым, с полузвериными повадками.
Рождалось много идиотов. Вся Россия представляла из себя зловонный разлагающийся труп.
Случайный европеец, попадая в русский край, надолго уносил кошмарное воспоминание о людях, похожих на тени с полузвериными лицами, гниющих заживо…
Старик всхлипывал и, обнимая сына, шептал в тоске и отчаянии:
– Ты ведь мой! Плоть от плоти, кость от кости… Мною зачатый и мною зараженный… Прости меня… Прости… Будь проклята наша жизнь, отнявшая радости наши маленькие, такие хрупкие… нежные…
И поднимая руки к черному грозовому небу, он кричал шипящим сиплым криком:
– Проклятый я человек! Порази меня! Убей меня, Боже!
Демоненок глядел на отца и хохотал.
Чаша страданий
Священнику Ивану Воздвиженскому снилась торжественная архиерейская служба.
…Ярко пылали паникадила. Голубыми волнами расстилался в сводах фимиамный дым. На красной кафедре стоял в полном облачении епископ Евстафий и высоко держал крест, осыпанный каменьями. Огни свечей струились и переливались на кресте. От игры теней и света крест казался сотканным из жемчужных слез. Кругом кафедры блестящим полукругом стояли священнослужители и пели задумчивыми голосами «Кресту Твоему». Епископ медленно и плавно воздвигал крест над большой, чутко притаившейся толпой. Отец Иван подошел к кафедре в пасхальной белой ризе. И вдруг увидел он…
Из креста, капля за каплей, заструились слезы.
– Глядите, люди! Чудо! Слезы! – крикнул отец Иван и в благоговейном страхе склонился под крестом. В храме поднялся шум, как от множества вод.
– Чудо, чудо! – закричали люди и пали на колени в великом страхе. Отец Иван проснулся.
У дверей кто-то резко звонил и переругивался озлобленными голосами. Он встрепенулся, зажег свечу, одел туфли-ступанцы и, кряхтя, пошел к двери.
– Кто тут?
– Открывай, лешего голова!
– До того эти попы-от спать любят… Стра-асть! – добавил чей-то мальчишеский ломкий тенор.
– Не ругайтесь, ребятушки, я сейчас… Ключ у меня куда-то запропастился… Вот напасть-то! – растерянно метался о. Иван.
За дверями ругались, рвали звонок. Били в дверь кулаками.
– Не ругайтесь ребятушки. Не поминайте словом черным матерей-то ваших, – утешал их о. Иван. – Муки за вас мать-то восприяла… Неуспокоенные вы душеньки!
Он нашел ключ и перед тем, как открыть дверь, тревожно и пытливо взглянул на образ Нерукотворного Спаса.
Вошли трое. Вооружены винтовками и гранатами. Голоса дерзкие и хриплые. В тихой молитвенной горнице запахло порохом и водкой.
– Ну, собирайся, отче! – грозно приказал скуластый красноармеец, стукнув винтовкой об пол. Отец Иван вздрогнул, побледнел, неловко, как подстреленный, засуетился по горнице и бессвязно забормотал:
– Я сейчас, я сейчас, сию секунду…
– Скорее канителься-то… брюхатый черт! Паразит на обчественном теле! – редко цедил высокий и дюжий красноармеец.
Отец Иван взглянул на свой впалый худой живот, на тонкие, жиденькие ноги, вспомнил, как прозвали его в семинарии за худобу «Пустынником Антиохии», и тоненько захихикал.
– Ты чего это заржал?
– Да насчет живота я, родные. Так брюхатый, говоришь? – весело переспросил отец Иван дюжего красноармейца. – Потешные вы ребята!
– Ну, нечего словесный сувенир-то разводить! Сряжайся, тебе говорят, грива. А вы, ребята, покелева фатеру обыщите. Нет ли какова-нибудь у попа революционного мартельяру!
– Мы это могим! – ухмыльнулся простоватый парень. – Может, церковного винца раздобудем!
Отцу Ивану стало жутко. Вспомнился недавний расстрел дьякона Громогласова и священника Ливанова. Сам же отпевал их обезображенные, неузнаваемые тела и после этого каждую ночь ждал своей очереди.
С особенной четкостью вспомнился сон:…крест из жемчужных слез… крест… крест… символ страданий…
– Голгофа! – шептал отец Иван побелевшими устами.
Он надел рясу и стал искать шапку. Впопыхах не надел сапог, так и ходил по комнате в тяжелой зимней рясе и в легких комнатных ступанцах.
– Робя… гляди, баба-то у попа какая важненькая! – по-звериному загоготал красноармеец, вынимая карточку из ящика письменного стола.
– Гы-гы!.. Ай да поп! Откуда ена у тебя?
Отец Иван замер от страха, гнева и неожиданности. Рванулся, что было сил, за карточкой и крикнул диким срывающимся голосом:
– Это жена моя покойница! Отдайте ее мне! Не прикасайтесь к ней нечистыми руками!
Красноармеец разорвал карточку, бросил на пол и растоптал грязными сапогами. Отец Иван не бросился на красноармейца, не защищал родимую фотографию от поругания. Он окаменел, частые судороги пробежали по лицу, и глаза округлились, как у безумного.
– Ну собирайся, лягай тебя муха!.. Ты! – толкнули они отца Ивана.
Он молчал и не понимал, чего хотят от него люди. Его взяли под руки и повели. Около дверей он остановился и долгим суровым взглядом обвел комнату… По лицу пробежали судороги, и в глазах остановился ужас.
На полу лежали лоскутья фотографии, не раз им целованной и облитой слезами в горькие часы вдовства.
Пошли по темной улице. На грязную осеннюю землю падал мокрый снег. У отца Ивана на ходу соскочили туфли, и он босой зашагал по студеным лужам.
– Ну, теперь я схвачу простуду! – прошептал отец Иван. Помолчал и вдруг засмеялся: – Не успею простудиться… – сказал отец Иван и засмеялся до упаду хриплым надорванным смехом. Красноармейцы переглянулись и зашептали между собой:
– Поп-от, того, в разуме тронулся!
Земной поклон
Вечерним часом у реки Волхова подошел к богомольцам человек в солдатской рубахе и заплатанных шароварах. Бос. Рыжевато рус. Ростом высок. За плечами австрийский ранец и высокие пыльные сапоги. Глаза тех, кто прошел много дорог, кто часто ночевал под звездами среди степи и леса, кого коснулось монастырское утишие и у кого бессонной была душа.
Старый ходок по святым местам, сухорукий Пахом взглянул на незнаемого человека, улыбнулся как своему и подумал: «Грядет Божий человек… Взор тихий, а душа беспокойная!»
Неведомый спросил:
– Не в монастырь ли, братцы, путь держите?
– Туда, землячок, к образу Пречистых Мати!
– Можно с вами?
– Милости просим, Христов человек!
Пошли вдоль древней реки, в озарении уходящего солнца, кроткими новгородскими полями, навстречу дальнему монастырю, осевшему среди лесов и славному на всю Русь образом Пречистыя Матери, древними новгородскими напевами и чистыми серебряными звонами.
Было богомольцев с новым попутчиком пять человек. Старый ходок Пахом. Бельмастый.
Лохматый. В зимней солдатской папахе и опорках. Мудрый и ласковый взгляд.
Бородатый Ларион в длинном, похожем на подрясник кафтане. Суровый и тощий, как пустынник. Сгорбленная старушка Фекла в черной плисовой кацавейке и монашеском платке, всю дорогу творившая молитву Иисусову. Босой, бледный мальчик Антоша с большими пугливыми глазами, одетый в длинную без пояса холщовую белую рубашку, с букетиком полевых цветов в тоненькой ручке.
Шел Антоша позади всех тихим болезненным шагом, странно молчаливый, не по-детски серьезный и затаенный.
Мерный молитвенный шаг богомольцев так созвучен был летним сумеркам, шелесту травы, переплескам Волхова, догорающим зорям и льдистым мерцаниям вечерней звезды.
– Кто такой будешь, мил человек? – спросил Пахом нового попутчика.
– Игнат Муромцев… – тихо ответил тот и опустил голову.
Богомольцы вздрогнули, и страх затаился в их спокойных крестьянских глазах.
– Не тот ли самый Муромцев, который…
Муромцев не дал Пахому договорить и твердо ответил:
– Да, братцы, тот самый Муромцев, который убивал, грабил, из чаш Господних водку пил, иконы на мушку брал! Это я… я прославленный убийца и зверь! Не бойтесь меня. Простите, Христа ради!
Муромцев упал перед богомольцами на колени и до земли поклонился им.
Часто закрестилась бабка Фекла, кончиком монашеского платка утирая слезы.
Опустил седую голову Ларион. Тяжко вздохнул Пахом и схватился за сердце. Антоша закричал, вдруг в испуге вскинул тоненькими ручками, упал на дорогу и забился в судорогах, захлебываясь пеной.
– Антоша… ясынька… цветик белый… Господь с тобою!.. Владычица Скорбящая, утиши отрока Антония от усякия болисти, от усякия скорби… пособи, поможи… – запричитала над ним Фекла, осеняя детское тельце частыми крестами.
Положили Антошу на травку, сели около него и ждали, когда очнется. Был он особенно трогательный в длинной холщовой рубашке, до синевы бледный, охваченный судорогами, с крепко сжатым букетиком полевых цветов в тоненькой восковой ручке.
– Второй год припадком страждет, – шептал Пахом Муромцеву, – большую муку восприял, ангельская душенька. На глазах ведь отца с матерью расстреляли… Барина, помещика Колыванова, не изволишь знать?
– Колыванова? – задрожал Муромцев, смертельно побледнев, – Так я его…
Ларион не дал договорить Муромцеву и сказал:
– Это его сынок.
– Проклятый я человек! – сквозь рыдающий вой выкрикнул Муромцев. – Так это он… голубчик…. мальчик бледный… которого я кулаками тогда бил!.. Осенним вечером мы на расстрел вели Колывановых-то… отрывисто, тяжело дыша, с безумным блеском в широко открытых глазах рассказывал Муромцев. – Ветер. Слякоть. Снег. Позади нас Антоша… Босой, без шапочки, в нижнем белье… Бежит по улицам и вопит: «Не убивайте папу и маму. Не убивайте, дяденьки дорогие!..» А я его кулаками, чтобы не мешал… Расстреляли Колывановых-то. Упал на тела их Антоша да как закричит!.. С той поры на всю жизнь у меня в памяти этот крик… Ничем заглушить его не мог. Жжет. Не дает покоя. Ночи не пройдет, чтобы не снился мне этот мальчик… Стала меня мучить совесть. До безумия жгла. Однажды не вынес я мерзких дел своих, выбежал зимой в одной гимнастерке на самую людную площадь, встал на колени и у народа честного стал просить прощения. Безумным сочли меня. В дом умалишенных заключили. Убежал я. В странника превратился и вот уже второй год хожу по русским дорогам в чаянии Христова утешения.
Муромцев упал Антоше в ноги и поцеловал их.
– Мученик! – выкрикивал он. – Загубленный мною, извергом проклятым! Прости, святой… Прости за злодейство мое! Бледный, исхудалый… Нами выпитый… Прости меня!
Сурово, как святые на древних иконах, глядели на Муромцева богомольцы.
Когда очнулся Антоша от припадка, взял его Муромцев на руки, и опять пошли мерным русским шагом, краем Волхова, под синими звездными мерцаниями, навстречу дальнему монастырю.
Чаша
Когда мы с отцом Виталием сошли с шаткого крыльца его старозаветного домика, нас овеяло дыханием августовской тьмы, шорохом высоких лип и мерцанием звезд.
– Ночь… – прошептал отец Виталий шепотом вошедшего в тихий храм.
Липовой аллеей мы дошли до белой церкви. Сели среди погоста, на деревянных ступеньках старой часовни, под деревьями. Кругом кресты. Кое-где, над могилами, лампадные огни. В алтарном окне церкви неугасимый свет.
Отец Виталий в белом подряснике. Обхватил руками колени. На плечо упал желтый лист.
– Как ночь, нет мне покоя!.. Так вот и брожу по комнатам своим опустелым, по саду, по кладбищу, забираюсь в лес и все хожу, все тоскую, все зову его, тихого. Не утолят скорбь мою ни молитва, ни ночное бодрствование, ни кротость Господних звезд… Ждут, когда очнется батюшка, а я стою безгласный перед Чашей Господней и плачу… Глядя на меня, и все предстоящие в церкви плачут… – У отца Виталия затряслись плечи. Закрыл лицо руками, – Единственный был у меня после покойницы жены! Ласковый такой да задумный. Рассказы любил про святых мучеников… И всех жалел, всем улыбался сыночек мой маленький!..
Той ночи не забыть мне!., пришли это они, пьяные, грехом пропахшие. Взломали вот эту самую церковь и вошли в нее в шапках и с папиросами в зубах. Мальчик мой не спал. Увидел их и разбудил меня. Как ни просил я его не ходить со мной, пошел!., как был… в белой ночной рубашечке… Пришли в церковь. А они-то с песнями балагурными Царские врата раскрыли и на престоле свечи зажигали! Плевались и сквернословили. Не высказать того, что было на душе у меня тогда!.. Я молить их стал, пьяных, оголтелых. Бога побояться, не кощунствовать. Они не слушали меня. В спину толкали, волосы на мне рвали, оплевывали, заушали… Вдруг… Вижу! Один из них прикасается к Чаше Господней! К Чаше!
Тут-то и совершилось…
Мой сыночек в алтарь бросился.
И вижу… Ручонками своими маленькими вырывает Чашу Господню из рук пьяного кощунника. И не поверители, вырвал ее! Чудом вырвал! Как сейчас вижу его в белом одеянии, как хитон Отрока Иисуса, с Чашей Христовой сходящего по ступеням амвона…
Тут-то за Христа и пострадал мой светлый мальчик. Не успел я подойти к нему, как высокий солдат ударил его прикладом по голове…
И когда увидел его, обагренного кровью, бездыханного, я не плакал. На душе было ясно-ясно. Спокойно взял его на руки и домой понес, и по рукам моим кровь его струилась.
А вот когда отпел его и похоронил!. Пришел с кладбища в сиротливый дом свой да как вспомнил его, мученика, в белом, как у Христа-Отрока, хитоне, в ручках своих сжимающего Чашу Христову, пал я в отчаянии на пол и волосы рвал на себе. . Ничто не утоляет скорбь мою, ибо пред глазами он, ангельская душенька, за Христа пострадавший!..
После долгого молчания отец Виталий сказал: – Пойдемте на его могилу и отслужим панихиду.
Мы поднялись с ступенек часовни и пошли служить ночную панихиду.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.