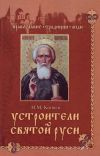Текст книги "Ключи заветные от радости"

Автор книги: Василий Никифоров-Волгин
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
Певчий
В соборе стоял впереди всех, около амвона. Место это считалось почетным. Здесь стояли городской голова, полицеймейстер, пристав, миллионщик Севрюгин и дурачок Глебушка. Лохматого, ротастого и корявого Глебушку не раз гнали с неподобающего для него места, но он не слушается, хоть волоком его волочи! Почетные люди на него дулись и толкали локтем. Мне тоже доставалось от церковного сторожа, но я отвечал: не могу уйти! Здесь все видно!
Во время всенощного бдения или литургии облокотишься на железную амвонную оградку, глядишь восхищенными вытаращенными глазами на певчих, в таинственный дымящийся алтарь и думаешь: «Нет счастливее людей, как те, кто предстоит на клиросе или в алтаре! Все они приближенные Господа Бога. Вот бы и мне на эти святые места! Стал бы я другим человеком: почитал бы родителей, не воровал бы яблоки с чужих садов, не ел бы тайком лепешки до обедни, не давал бы людям обидные прозвища, ходил бы тихо и всегда шептал бы молитвы…»
Я не мог понять: почему Господь терпит на клиросе Ефимку Лохматого – пьяницу и сквернослова, баса торговца Гадюкина, который старается людям победнее подсунуть прогорклое масло, черствый хлеб и никогда не дает конфет «на придачу». Сторожа Евстигнея терпит Господь, а он всегда чесноком пахнет и нюхает табак. Лицо у него какое-то дубленое, сизое, как у похоронного факельщика.
В алтаре да на клиросе должны быть люди лицом чистые, тихие и как бы праведные!
Особенно любовался я нарядными голубыми кафтанами певчих. Лучше всего выглядели в них мальчики – совсем как Ангелы Божии!.. Хотя некоторых я тоже выгнал бы с клироса, например Митьку с Борькой. Они, жулики, хорошо в очко играют, и мне от них никогда не выиграть! Однажды я заявил отцу с матерью:
– Очень мне хочется в алтарь кадило батюшке подавать или на клиросе петь, но как это сделать, не знаю!
– Дело это, сынок, простое, – сказал отец, – сходи седни или завтра к батюшке или к регенту Егору Михайловичу и изъяснись. Авось возьмут, если они про твое озорство не наслышаны!
– Верно, сынок, – поддакнула мать, – попросись у них хорошенько. Господу хорошо послужить. В алтарь-то, поди, и не примут, а на клирос должны взять. Петь ты любишь, голос у тебя звонкий, с переливцем, яблочный… И нам будет радушно, что ты Господа воспевать будешь. Хорошую думу всеял в тебя Ангел Божий!
В этот же день я пошел к соборному регенту. Около двери его квартиры меня обуял страх. Больше часа стоял у двери и слушал, как регент играл на фисгармонии и пел: «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть».
– Войдите!
Я открыл дверь и остановился на пороге. Егор Михайлович сидел у фисгармонии в одном исподнем, лохматый, небритый, с недобрым помутневшим взглядом. Седые длинные усы свесились, как у Тараса Бульбы. На столе стояла сороковка, и на серой бумаге лежал соленый съеженный огурец.
– Тебе что, чадо? – спросил меня каким-то густо-клейким голосом.
– Хочу быть певчим! – заминаясь, ответил я, не поднимая глаз.
– Доброе дело, доброе!.. Хвалю. Ну-ка, подойди ко мне поближе… Вот так. Ну, тяни за мною «Царю Небесный, Утешителю…» – он запел, и я стал подтягивать, вначале робко, а потом разошелся и в конце молитвы так взвизгнул, что регент поморщился.
– Слух неважнецкий, – сказал он, – но голос молодецкий! Приходи на клирос. Авось обломаем. Что смотришь, как баран на градусник? Ступай. Аксиос! Знаешь, что такое аксиос? Не знаешь. Слово сие не русское, а греческое, обозначает: «достоин».
Обожженный радостью, я спросил о самом главном, о том, что не раз мечталось и во сне снилось:
– И кафтан можно надеть?
– Какой? – не понял регент. – Тришкин?
– Нет… которые певчие носят… эти голубые с золотыми кисточками…
Он махнул рукой и засмеялся:
– Надевай хоть два!
В этот день я ходил по радости и счастью. Всем говорил с упоением:
– Меня взяли в соборные певчие! В кафтане петь буду!
Кому-то сказал, перехватив через край:
– Приходите в воскресенье меня слушать!
Наступило воскресенье. Я пришел в собор за час до обедни. Первым делом прошел в ризницу облачаться в кафтан. Сторож, заправлявший лампады, спросил меня:
– Ты куда?
– За кафтаном! Меня в певчие выбрали!
– Эк тебе не терпится!
Я нашел маленький кафтанчик и облачился.
Сторож опять на меня:
– Куда это ты вырядился ни свет ни заря? До обедни-то, почитай, целый час еще!
– Ничего, Я подожду.
Со страхом Божьим поднялся на клирос. В десять часов зазвонили к обедне. Пришел дьякон отец Михаил. Посмотрел на меня и диву дался.
– Ты что это в кафтане-то?
– Певчий я. На днях выбрали. Егор Михайлович сказал, что голос у меня молодецкий!
– Так, так! Молодецкий, говоришь? Ну что же, «пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте!»
Началась литургия. Никогда в жизни она не поднимала меня так высоко, как в этот приснорадостный день. Уже не было мирской гордости – вот-де, достиг! – а тонкая, мягкошелковистая отрада ветерком проходила по телу. Чем шире раскрывались царские врата литургии, тем необычнее становился я. Временами казалось, что я приподнимаюсь от земли, как Серафим Саровский во время молитвы. Пою с хором, тонкой белой ниточкой вплетаюсь в узорчатую ткань песнопений и ничего не вижу, кроме облачно-синего с позолотой дыма. И вдруг, во время сладостного до щекотания в сердце забытья, произошло нечто страшное для меня…
Пели «Верую во единаго Бога Отца Вседержителя…» Пели мощно, ладно, с высоким исповеданием.
Я подпевал и ничего не замечал в потоке громокипящего Символа веры… Когда певчие грянули «чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века, аминь» – я не сумел вовремя остановиться и на всю церковь с ее гулким перекатом визгливо прозвенел позднее всех «а-а-минь»! В глазах моих помутилось. Я съежился. Кто-то из певчих дал мне затрещину по затылку, где-то фыркнули, регент Егор Михайлович схватил меня за волосы и придушенным шипящим хрипом простонал:
– Снимай кафтан! Убирайся сию минуту с клироса, а то убью!
Со слезами стал снимать кафтан, запутался в нем и не знал, как выбраться. Мне помогли. Дав по затылку несколько щелчков, меня выпроводили с клироса.
Закрыв лицо руками, я шел по церкви к выходу и всхлипывал. На меня смотрели и улыбались. В ограде ко мне подошла мать и стала утешать:
– Это ничего, это тоже от Господа. Он, Батюшка Царь Небесный, улыбнулся, поди, когда голосок-то твой выше всех взлетел, один-одинешенек. Ишь, – подумает Он, – как Вася-то ради меня расстарался, но только не рассчитал малость… сорвался… Ну, что же делать, молод еще, горяч, с кем не бывает… Не кручинься, сынок, ибо всякое хорошее дело со скорби начинается!
Я слушал ее и представлял, как тихо улыбается Христос над моей неудачей, и потихоньку успокаивался.
Святое святых
Желание войти во Святое Святых церкви не давало мне покоя. В утренние и вечерние молитвы я вплетал затаенную свою думу: «Помоги мне,
Господи, служить около Твоего престола! Если поможешь, я буду поступать по Твоим заповедям и никогда не стану огорчать Тебя!»
Бог услышал мою молитву. Однажды пришел к отцу соборный дьякон, принес сапоги в починку. Увидев меня, он спросил:
– Что это тебя, отроча, в церкви не видать?
За меня ответил отец:
– Стесняется после своей незадачи на клиросе. А служить-то ему до страсти хочется!
Дьякон погладил меня по голове и сказал:
– Пустяки! Не принимай близко к сердцу. Я раз в большой праздник вместо многолетия вечную память загнул, да не кому другому, а Святейшему Синоду! Не горюй, малец, приходи в субботу ко всенощной в алтарь, кадило будешь подавать. Наденем на тебя стихарь, и будешь ты у нас церковнослужитель! Согласен?
Через смущение и радостные слезы я прошептал нашу деревенскую благодарность:
– Спаси, Господи!
И вот опять я сам не свой! Перед отходом ко сну стал отбивать частые поклоны, не произносил больше дурных слов, забросил игры и, не зная почему, взял с подоконника дедовские староверческие четки – лестовку – и обмотал ими кисть левой руки, по-монашески.
Увидев у меня лестовку, Гришка стал дразнить:
– Э… монах в коленкоровых штанах!
Я раззадорился и хотел дать ему по спине концом висящей у меня ременной лестовки, но вовремя вспомнил наставление матери: «да не зайдет солнце во гневе вашем».
Наступила суббота. Умытым и причесанным, в русской белой рубашке, помолившись на иконы, я побежал в собор ко всенощному бдению. Остановился на амвоне и не решился сразу войти в алтарь. Стоял около южных дверей и слушал, как от волнения звенела кровь. Ко мне подошел сторож Евстигней:
– Чего остановился? Входи. Дьякон сказывал, что пономарем хочешь быть? Давно бы так, а то захотел в певчие!.. С вороньим голосом-то! А здорово ты каркнул тогда за обедней, на клиросе, – напомнил он, подмигнув смеющимся глазом, – всех рассмешил только! Регент Егор Михайлович даже запьянствовал в этот день: всю, говорит, музыку шельмец нарушил. Из-за него, разбойника, и пью! Вот ты какой хват!
Я не слышал, как вошел в алтарь. Алтарь, где восседает Бог на престоле и, по древним сказаниям, днем и ночью ходят со славословиями Ангелы Божий, и во время литургии взблескивают над Чашей молнии, грешному оку невидимые… Я оцепенел весь от радости – радости, не похожей ни на одну земную. В ней что-то страшное было и вместе с тем светлое.
– Ну, приучайся к делу! – сказал сторож. – Вот это уголь, – показал мне прессованный, хорошо пахнувший кругляк с изображением креста. – Возьми огарок свечи и разгнети его. Это во-первых. Во-вторых, не касайся руками престола – место сие святое! Далее, не переходи никогда места между престолом и Царскими вратами – грех! Не ходи также через горнее место, когда открыты Царские врата… Понял?
От спокойного тона Евстигнея и я стал спокойнее.
– А где же мой стихарь? – спросил я. – Отец дьякон обещал!
– Эк тебя разбирает! Сразу и форму ему подавай! Ну и народ, ну и детушки пошли! Ладно. Будет и стихарь, если выдержишь экзамен на кадиловозжигателя!
В это время ударили в большой колокол. От первого удара – вспомнилось мне – нечистая сила «яже в мире» вздрагивает, от второго бежит, и после третьего над землею начинают летать Ангелы, и тогда надо перекреститься.
В алтарь пришел дьякон, улыбнулся мне: ну и хорошо!
За ним отец Василий – маленький, круглый, чернобородый. Я подошел к нему под благословение. Он слегка постучал по моей голове костяшками пальцев и сказал:
– Служи и не балуй! Все должно быть благообразно и по чину.
Началось всенощное бдение. Перед этим кадили алтарь, а затем, после дьяконского возгласа, запели «Благослови, душе моя, Господа». Особенно понравились мне слова: «На горах станут воды, дивны дела Твоя Господи, вся премудростию сотворил еси». Когда запели «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых… Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом», я перекрестился и подумал, что эти слова относятся к тем, кто служит у Божьего престола, и опять перекрестился.
Когда читали на клиросе шестопсалмие, батюшка с дьяконом разговаривали. Мне слышно было, как батюшка спросил:
– Ты деньги-то за сорокоуст получил с Капитонихи?
– Нет еще. Обещалась на днях.
– Смотри, дьякон! Как бы она нас не обжулила. Жог-баба!
Я ничего не понял из этих отрывистых слов, но подумал: разве можно так говорить в алтаре?
После всенощной я обо всем этом рассказал матери.
– Люди они, сынок, люди, – вздохнула она, – и не то, может быть, еще увидишь и услышишь, но не осуждай. Бойся осудить человека, не разузнав его. От суесловия церковных служителей Тайны Божии не повредятся. Так же сиять они будут и чистотою возвышаться. Повредится ли хлеб, если семена его орошены грешником? Человек еще не вырос, он дитя неразумное, ходит он путаными дорогами, но придет время – вырастет! Будь к людям приглядчив. Душу его береги. Сострадай человеку и умей находить в нем пшеницу среди сорной травы.
– Держи карман шире! – проворчал отец, засучивая щетину в дратву. – Как я там к людям ни приглядывался, ни сострадал им, ни уступал, а они все же ко мне по-волчьи относились. Ты, смиренница, оглянулась бы хоть раз на людей. Кто больше всего страдает? Простые сердцем, тихие, уступчивые, заповеди Господни соблюдающие. Не портила бы ты лучше мальца! Из него умного волчонка воспитать надо, а не Христова крестника!
Мать так и вскинулась на отца:
– Ты бы лучше оглянулся и узнал: кто стоит за твоей спиною?
Отец вздрогнул.
– Кто?
– Да тот, кто искушал Христа в пустыне! Не говори непутевые слова. Они не твои. Не огорчай Ангела своего. Сам же, когда выпьешь, горькими слезами перед иконами заливаешься. Не вводи ты нас в искушение. А ты, – обратилась она ко мне, – не всякому слуху верь. У отца это бывает. Жизнь у него тяжелая была, ну и возропщет порою. А сам-то он по-другому думает! Последнее с себя сымет и неимущему отдаст. В словах человека разбираться надо; что от души идет и что от крови!
Тайнодействие
Впервые услышанное слово «проскомидия» почему-то представилось мне в образе безгромных ночных молний, освещающих ржаное поле. Оно прозвучало для меня так же таинственно, как слова: молния, всполох, зорники и слышанное от матери волжское определение зарниц – хлебозарь!
Божественная проскомидия открылась мне в летнее солнечное воскресенье в запахе лип, проникавшем в алтарь из причтового сада, и литургийном благовесте.
Перед совершением ее священник с дьяконом долго молились перед затворенными святыми вратами, целовали иконы Спасителя и Божьей Матери, а затем поклонились народу. В церкви почти никого не было, и я не мог понять: кому же кланяются священнослужители? Пузатому старосте, что ли, считающему у выручки медную монету, или Божьей хлебнице-просфорне, вынимающей из мешка просфоры? Об этом я спросил чтеца Никанора Ивановича, и он объяснил мне мудреными церковными словами:
– Всему миру кланяются! Ибо сказано в чине священный и божественных литургии: «Хотяй священник божественное совершити тайнодействие, должен есть примирен быти со всеми».
Духовенство облачалось в ризы. Я не сводил глаз с этого невиданного мною обряда. Батюшка надел на себя длинную, как у Христа, шелковую одежду – подризник – и произнес звучащие тихим серебром слова: «Возрадуется душа моя о Господе, облече бо мя в ризу спасения, и одеждою веселия одей мя, яко жениху возложи ми венец, и яко невесту украси мя красотою».
Облаченный в стихарь дьякон, видя мое напряженное внимание, шепотом стал пояснять мне:
– Подризник знаменует собою хитон Господа Иисуса Христа.
Священник взял епитрахиль и, назнаменав его крестным осенением, сказал: «Благословен Бог изливаяй благодать Свою яко миро на главы, сходящее на ометы одежди его».
– Епитрахиль – знак священства и помазания Божия…
Облекая руки парчовыми нарукавницами, священник произнес: «Руце Твои сотвористе мя и создаете мя: вразуми мя, и научуся заповедей Твоим», и при опоясании парчовым широким поясом: «Благословен Бог препоясуяй мя силою, и положи непорочен путь мой… на высоких поставляяй мя».
– Пояс знаменует препоясание Господа перед совершением Тайной вечери, – прогудел мне дьякон.
Священник облачился в самую главную ризу – фелонь, произнеся литые, как бы вспыхивающие слова: «Священницы Твои, Господи, облекутся в правду, и преподобнии Твои радостию возрадуются…»
Облачившись в полное облачение, он подошел к глиняному умывальнику и вымыл руки: «Умыю в неповинных руки мои и обыду жертвенник Твой, Господи… возлюбих благолепие дому Твоего и место селения славы Твоея…»
На жертвеннике, к которому подошли священник с дьяконом, стояли залитые солнцем чаша, дискос, звездица, лежало пять больших служебных просфор, серебряное копьецо, парчовые покровы. От солнца жертвенник дымился, и от чаши излучалось острое сияние.
Проскомидия была выткана драгоценными словами: «Воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки гласы своя… Дивны высоты морские, дивен в высоких Господь… Святися и прославися прелестное и великолепое имя Твое…»
Священник с дьяконом молились о памяти и оставлении грехов царям, царицам, патриархам и всем-всем, кто населяет землю, и о тех молились, кого призвал Бог в пренебесное Свое Царство.
Много произносилось имен, и за каждое имя вынималась из просфоры частица и клалась на серебряное блюдце-дискос. Тайна литургии до сего времени была закрыта Царскими вратами и завесой, но теперь она вся предстала предо мною. Я был участником претворения хлеба в Тело Христово и вина в истинную Кровь Христову, когда на клиросе пели: «Тебе поем, Тебе благословим», а священник с душевным волнением произносил: «И сотвори убо хлеб сей, честное Тело Христа
Твоего, а еже в чаше сей, честную Кровь Христа Твоего, аминь, аминь, аминь…»
В этот день я испытывал от пережитого впечатления почти болезненное чувство; щеки мои горели, временами била лихорадка, в ногах была слабость. Не пообедав как следует, я сразу же лег в постель. Мать заволновалась:
– Не заболел ли ты? Ишь, и голова у тебя горячая, и щеки, как жар, горят!
Я стал рассказывать матери о том, что видел сегодня в алтаре, и, рассказывая, чувствовал, как по лицу моему струилось что-то похожее на искры.
– Великое и непостижимое это дело, совершение Тайн Христовых, – говорила мать, сидя на краю моей постели, – в это время даже Ангелы закрывают крылами свои лица, ибо ужасаются тайны сия! – Она вдруг задумалась и как будто стала испуганной. – Да, живем мы пока под ризою Божьей, Тайн Святых причащаемся, но наступит, сынок, время, когда сокроются от людей Христовы Тайны… Уйдут они в пещеры, в леса темные, на высокие горы. Дед твой Евдоким не раз твердил: «Ой, лютые придут времена. Все святости будут поруганы, все исповедники имени Христова смерть лютую и поругания примут… И наступит тогда конец свету!
– А когда это будет?
– В ладони Божьей эти сроки, а когда разогнется ладонь – об этом не ведают даже Ангелы.
У староверов на Волге поверье ходит, что второе пришествие Спасителя будет ночью, при великой грозе и буре. Деды наши сурово к этому дню приуготовлялись.
– Как же?
– Наступит, бывало, ночная гроза. Бабушка будит нас. Встаем и в чистые рубахи переодеваемся, а старики в саваны – словно к смертному часу готовимся. Бабушка с молитвою лампады затепляет. Мы садимся под иконы, в молчании и трепете слушаем грозу и крестимся. Во время такой грозы приходили к нам сродственники, соседи, чтобы провести грозные Господни часы вместе. Кланялись они в землю иконам и без единого слова садились на скамью. Дед, помню, зажигал желтую свечу, садился за стол и зачинал читать Евангелие, а потом пели мы: «Се жених грядет в полунощи, и блажен раб его же обрящет бдящим…»Дед твой часто говаривал: мы-то, старики, еще поживем в мире, но вот детушкам да внукам нашим в большой буре доведется жить!
Помогите мне выпустить песню на свободу!
Молнии слов светозарных
Любил дедушка Влас сребротканый лад церковнославянского языка. Как заговорит, бывало, о красотах его, то так и обдаст тебя монастырским ветром, так и осветит всего святым светом. Каждое слово его казалось то золотым, то голубым, то лазоревым и крепким, как таинственный адамантов камень. Тяжко грустил дедушка, что мало кто постигал светозарный язык житий, пролога, Великого канона Андрея Критского, миней, триоди цветной и постной, октоиха, Псалтыри и прочих боговдохновенных песнопевцев.
Не раз говаривал он мягко гудящим своим голосом:
– В кладезе славянских речений – златые струи вод Господних. В нем и звезды, и лучи, и ангельские гласы, и камение многоцветные, и чистота, снега горного светлейшая!
Развернет, бывало, дед одну из шуршистых страниц какой-нибудь древней церковной книги и зачнет читать с тихой обрадованной улыбкой. Помню, прочитал он слова: «Тя, златозарный мучеников цвет почитаю». Остановился и сказал в тихом вдумье:
– Вникни, чадо, красота-то какая! Что за слово-то чудесное: «златозарный». Светится это слово!
До слез огорчало деда, когда церковники без великой строгости приступали к чтению, стараясь читать в нос, скороговоркой, без ударений, без душевной уветливости.
Редко кто понимал Власа. Отводил лишь душу со старым заштатным дьяконом Афанасием – большим знатоком славянского языка и жадно влюбленным в драгоценные его камни.
Соберутся, бывало, в повечерье за пузанком рябиновой (прозванной дедом «Златоструем»), и заструятся у них такие светло-певучие речи, что в сумеречном домике нашем воистину заревно становилось. Оба они с дьяконом невелички, сребровласые, румяные и сухонькие. Дедушка был в обхождении ровен, мягок, не торопыга, а дьякон – горячий, вздымистый и неуемный. Как сейчас, помню одну из их вечерних бесед…
Набегали сумерки. Дед ходил в валенках-домовиках по горенке и повторял вслух только что найденные в минее слова: «Молниями ироповедания просветил еси во тьме сидящия».
Дьякон прислушивался и старался не дышать. Выслушал, вник, опрокинул чарочку и движением руки попросил внимания.
Дед насторожился и перестал ходить. Полузакрыв глаза, с легким румянцем на щеках, дьякон начал читать чистым переливным голосом, мягко округляя каждое слово: «Велий еси Господи, и чудна дела Твоя, и ни едино же слово довольно будет к пению чудес Твоих.
Твоею бо волею от небытия в бытие привел еси всяческая: Твоею державою содержиши тварь и Твоим промыслом строиши мир…»
Дед загоревшимся взглядом следил за полетом высоких песенных слов, а дьякон продолжает ткать на синих сумерках серебряные звезды слов: «Тебе поет солнце, Тебе славит луна, Тебе присутствуют звезды, Тебе слушает свет, Тебе работают источницы, Ты простер еси небо яко кожу, Ты утвердил еси землю на водах, Ты оградил еси море песком, Ты к дыханиям воздух излиял еси…» Дьякон вскакивает с места, треплет себя за волосы и кричит на всю горницу:
– Это же ведь не слова, а молнии Господни!
Дед вторит ему с восхищением:
– Молниями истканные ризы Божии, – ив волнении ходит по горенке, заложив руки за монастырский поясок.
В такие вечера вся их речь, даже самая обыденная, переливалась жемчугами славянских слов, и любили, грешным делом, повеличаться друг перед другом богатством собранных сокровищ. Утешали себя блеском старинных кованых слов так же, как иные утешают себя песнями, плясами и музыкой.
– А это разве не дивно? – восклицает дьякон, – слушай: «Таинство ужасное зрю: Бог бо Иже горстию содержай всю тварь, объемлется плотию в яслех безсловесных, повиваяй мглою море».
– Не слова, а звезды светосиянные, светильники светлейшие и прозарнейшие, – с дрожью в голосе отзывается дед, – светловещанная мудрость!
– А не возликуешь ли душою, раб Божий Власий, когда запоют над гробом твоим: «В путь узкий ходшии прискорбный, вси в житии крест яко ярем вземшии… Приидите насладитеся ихже уготовах вам почестей и венцов небесных…» «Сей бо отходит яко дым от земли, яко цвет отцвете, яко трава посечеся…»
– «Жизнь наша есть: цвет и дым, и роса утренняя воистину», – прибавляет Влас и обнимает дьякона: – А какие слова-то, Господи, встречаются: световидный, светоблистанный, светоносный, светозарный, – говорит он сквозь слезы. – «Душу мою озари сияньми невечерними…» «Цвете прекрасный», «шум громный», «зарею пресветлою озари концы вселенной», «жизнь нестареемая», «одеяйся светом яко ризою…» «Милосердия двери отверзи нам».
Все светло. Все от сердца, от чистоты, от святости, от улыбки Господней…
Подозвал, помню, меня дед к себе, погладил по голове и сказал: «Возлюби Божью красоту!»
До поздней ночи сквозь прозрачную дрему слышишь то дьякона, то дедушку, пересыпающих жемчуг Божьих слов. И не хочется погружаться в сон: так бы и колебался на зыбких певучих струнах боговдохновенных речений.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.