Текст книги "Кассаветис"
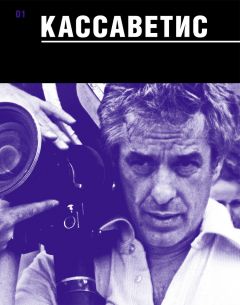
Автор книги: Василий Степанов
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Части речи
Запой
Для меня настоящий роман начинается так: «Когда я впервые встретил Терри Леннокса, он был мертвецки пьян».
Ж.-Л. Годар. «Новая волна». 1990
Хотелось бы, конечно, прокашляться, надеть очки, опереться на стол и все популярно объяснить – но не выйдет. Повторные и многократные просмотры фильмов Джона Кассаветиса оставили касательно их устройства больше вопросов, чем ответов. Они, эти фильмы, оказались подобны океану Соляриса, который, сколько ни облучай, возвращает только твои же собственные сны и навязчивые идеи, ничем иным не выдавая себя. Что не значит, будто они не подлежат анализу. Насколько известно автору этих строк, с его статьей будет соседствовать несколько других, посвященных различным аспектам творчества этого режиссера; будучи написаны мастерами своего дела, они наверняка явят собой образцы хирургически точной препарации киноязыка Кассаветиса. Подозреваю, что моя несостоятельность вызвана тем, что в глубине души я просто не хочу разбирать на запчасти данную конкретную машинку и выяснять, как она ездит, желая, чтобы для меня это явление так и осталось в разряде чуда. Это – любовь, не иначе. Поэтому мы с вами сегодня позволим себе расслабиться и просто досуже сопоставим пару явлений, приятных, но не безмятежных – кинематограф Кассаветиса и запойное пьянство.
Два фильма Кассаветиса – «Мужья» и «Премьера» – с точки зрения сюжетосложения представляют собой хроники запоя. В первом случае запой – мужской, коллективный: три упакованных нью-йоркских семьянина, разменявших четвертый десяток, после похорон внезапно отдавшего концы друга, бывшего душой их компании, сначала не хотят, а потом не могут заставить себя ни разойтись, ни вернуться домой, ни выйти на работу; на третий день пьянства они придумывают улететь в Лондон, чтобы сама Атлантика встала преградой между ними и всем, что способно оторвать их от бутылки, – в момент принятия этого решения камера единственный раз за фильм, визуальным лейтмотивом которого являются голые ветки деревьев, ливень и серое небо, снимает их против солнца, просачивающегося в кадр теплым слепящим светом сродни тому, который верующие ожидают узреть за отверзшимися вратами рая.
Во втором случае пьет женщина, актриса, вступившая в конфронтацию с коллективом создателей репетируемой пьесы; пьет одна – хотя время от времени с ней кто-нибудь да чокнется и опрокинет бокальчик-другой, этот запой от первой до последней капли принадлежит только ей, как будет по праву только ей принадлежать зрительный зал театра, когда она, явившись на нью-йоркскую премьеру с получасовым опозданием и еле держась на ногах, переврет текст пьесы и мизансцены и превратит полуабстрактную депрессивную постановку о женском угасании в жизненный и жизнеутверждающий спектакль, несущий надежду.
Запой на первоначальной стадии – всегда бегство от обстоятельств, с которыми ты не в состоянии заключить мир на безусловной основе. Кассаветис, снимавший кино интерьерное, с длинными, до двадцати минут, сценами преимущественно из крупных и средних планов, всегда дает героям и себе из предыдущей сцены, предыдущего интерьера «сбежать». Мужья постоянно оказываются бегущими по улицам Нью-Йорка, где на них оборачиваются домохозяйки в причудливых шляпках (очевидно, узнающие в Питере Фальке телевизионного Коломбо, напившегося средь бела дня); в Лондоне пробежки сокращаются до полминуты, но все равно: режиссер непременно покажет, как герои вышли из гостиницы и сели в такси или перебежали под ливнем в бистро напротив. В «Премьере» мисс Гордон (Джина Роулендс) без конца садится в отъезжающие машины, потом выходит из них, камера провожает ее до двери отеля, затем – через холл к двери лифта, затем – от лифта вверх по лестнице до двери ее пентхауса. Даже на репетициях, стоит кому-нибудь встать и пересечь пространство зала, камера движется вместе с ним, держа его на среднем плане – с момента, когда зад оторвался от кресла, до полной остановки объекта или естественной преграды вроде двери (за дверью парное движение камеры и персонажа чаще всего бывает продолжено).
Сравним, как решают сцены репетиций в традиционном повествовательном кино, например в такой архаичной форме, как осужденное «новой волной» французское «папенькино кино». В криминальной сатире Кристиан-Жака «Веские доказательства» (1962) есть длинная, во вкусе Кассаветиса, сцена реконструкции преступления с набившимися в дом убитого богатого промышленника адвокатами, следователями, свидетелями и обеими подозреваемыми, от которых требуется повторить свои действия в минуту убийства. От репетиции такое действо мало чем отличается, во всяком случае – в сатирической конструкции Кристиан-Жака; одна из подозреваемых в исполнении Марины Влади на «втором прогоне» даже нетерпеливо говорит: «Так с какого места мне начинать?» При том, что полдюжины людей должны пересекать пространство холла и прилегающей спальни, оператор Арман Тирар использует широкоэкранный формат и наиболее выгодную точку съемки, чтобы охватить максимально возможную площадь статичной камерой; мы наблюдаем за движением людей, как ученый за бактериями под микроскопом. Цель такой съемки – целостная картина происшедшего, как цель собравшихся людей – установление объективной истины.
В «Премьере», стоит кому-нибудь сдвинуться с места, камера сопровождает его, пренебрегая целостностью впечатления. А потом – следующего, и так далее.
«Веские доказательства» – трезвый подход к кино: трезвый человек оценивает окружение, рассчитывает силы, следит за базаром. Пьяный – погружен в себя и не принимает в расчет реальную расстановку сил, как камера Кассаветиса погружена в отдельно взятого человека, совершающего чаще всего движение бесцельное: так, размять ноги, спустить пар.
Эта же камера охотно и надолго цепляется к лицам людей посторонних, чтобы вскоре позабыть о них, как мы в пьяном угаре пристаем вдруг к кому-то за соседним столиком. Вспомните пятиминутный план сильно накрашенной старухи в казино в «Мужьях», которая городит одно и то же и в фильме больше не появится; чернокожую горничную и румяного портье в «Премьере», приковывающих на время камеру в не меньшей мере, чем мисс Гордон, в разгар запоя, подобно Бланш Дюбуа из «Трамвая „Желание“», предпочитающая полагаться на «доброту незнакомцев», нежели товарищей по цеху, вынесших ей со своей дурацкой пьесой, сроками и коммерческими обязательствами мозг. (К слову, «Трамвай „Желание“» и «Премьеру» поженил еще Педро Альмодовар в своем «Все о моей матери» (1999), где актриса, репетирующая в театре «Трамвай», также как мисс Гордон, в дождливый вечер становится свидетелем и невольным виновником гибели под колесами юного поклонника, только что взявшего у нее автограф; в фильме есть посвящение «Джине Роулендс, Бетт Дэвис, Роми Шнайдер и всем актрисам, игравшим актрис».)
Как и всякий запой, фильмы Кассаветиса не умеют вовремя остановиться: наступает момент, когда кажется, что дальше уже не можешь смотреть, и все, что мы уже знаем, будет только без конца повторяться. Ну, скажем, фильмы Тарковского тоже тянутся долго – много лет назад журнал Vanity Fair, опубликовав шуточный словарь синефила, назвал Тарковского «русским режиссером, снимавшим такие длинные и заторможенные фильмы, что просмотр их – это не действие, а образ жизни». Однако проводить аналогии между структурой фильмов Тарковского и структурой запоя не стал бы никто – смыслы и образы его картин повторяются на манер индийских раг в музыкальном произведении или, если держаться его образного строя, мелодических сочетаний в прелюдиях и фугах Баха, обогащаясь на каждом новом витке спирали. Кассаветис повторяется, как пьяница с его «Ты меня уважаешь?» Нам совершенно ни к чему, скажем, трижды за фильм наблюдать путь мисс Гордон от лифта до пентхауса, но трижды нам будет показано это. Трижды ломится в «Мужьях» в закрытую дверь туалета Бен Газзара, чтобы ненадолго вбежать, когда Фальк и Кассаветис отодвинут запор, выйти и опять начать ломиться, стоит им запереться. Сколько раз Газзара в «Премьере» повторит реквизитору: «Не помогайте ей, Лео!», имея в виду ползущую на карачках мисс Гордон? Сколько раз мы прослушаем слова про взбалмошную матрону, про «семнадцать лет, когда я могла все» и про «нет, у меня нет детей»? Даже художник-постановщик соблюдает этот принцип зацикленности. В «Мужьях» есть статичный план, когда Газзара скандалит с тещей и женой, бегая за ними вокруг стола, на фоне огромной, во всю стену, и довлеющей в кадре абстрактной картины из центрических узоров – кирпичного, оранжевого, желтого и т. д. В другой сцене, где тому же герою невыносимо плохо и нервно – он, не спав ни минуты, вышел, не протрезвев и не опохмелившись, на работу, – на его столе мы обнаружим похожую картину в рамочке, только с синим, а не с желтым центром. Белый в складочку абажур настольной лампы преследует мужчин в «Премьере», когда они что-то должны рассказать на статичном крупном плане – не важно, происходит действие в Нью-хейвене или Нью-Йорке, в гостинице или в гримерке.
За два дня до выхода героев из запоя ритм фильмов окончательно затормаживается, буксует, как речь погруженного в глубокое пьянство, как вокал алкоголика Дина Мартина («Я – никчемный человек, Дин Мартин без шарма» – образец самобичевания из «Премьеры»). В «Мужьях» это шестиминутный эпизод из долгих статичных планов с Фальком и молоденькой китаянкой на гостиничной постели, когда говорит только он и с огромными промежутками, а фонограмму заполняет звук движущегося транспорта за окном (которое плотно закрыто). Это – сродни похмельному пробуждению, когда понимаешь, что проснулся, только по шуму пробуждающегося города за окном, и, не в силах открыть глаза, повторяешь про себя какие-то заклинания и молитвы и испытываешь смутное, абстрактное, но необоримое сексуальное влечение, объекты которого носят весьма фантазийный, оторванный от действительности, часто связанный с прошлым характер. Как та не говорящая по-английски китаяночка-подросток или девятнадцатилетняя девчонка, о связи с которой Газзара рассказывает Роулендс в аналогичной – тоже за два дня до выхода из запоя – сцене: в ней так же шумит город за окном кафе, где сидят герои, а от объектива и зрительских глаз их скрывает, как похмельные фантазии от действительности, табачный дым. Кстати, в «Мужьях» за сценой с китаянкой следует аналогичная сцена со шторой из дыма и шумом за стеклом в кафе с Кассаветисом и Дженни Ранэйкр – отбитая от предыдущей непременной перебежкой под дождем.
Запои в фильмах Кассаветиса заканчиваются триумфом пьющих – мужья обрели смысл вернуться домой, мисс Гордон превратила чужую пьесу в собственное откровение и очередной бенефис. В финалах их встречают здесь, по эту сторону запоя, лучшие люди: в «Мужьях» – дети Кассаветиса Ник и Александра, будущие режиссеры, в «Премьере» – режиссер Питер Богданович (сам снявший незадолго до «Премьеры» трепетнейший мюзикл о пьянстве «Наконец-то любовь») и актер Питер Фальк (здесь – не герой фильма, а знак самого себя). Встречают победителей, отринувших мир, уготовивший им роль исполнителей, и отправившихся на встречу с собой, ведь запой – способ обратиться к затянутым социально-общественными отношениями глубинам своей души и получить ответы на измучившие тебя вопросы. Ибо нет ничего важнее, чем слышать себя и говорить с самим собой. «Ее безумие, ее капризы, – скажет в „Премьере“ о мисс Гордон усатый любимец дамской аудитории, – казались мне сгустком реальности. Это похоже на бред, но только в них и было что-то настоящее».
Закончить я хотел бы той отсебятиной мисс Гордон, которая, будучи произнесена со сцены, стала путеводной звездой к выходу из чужой пьесы о невыносимой тяжести бытия. На вопрос персонажа Кассаветиса: «Ты – талантливая, красивая, умная, молодая, хорошая… Но – если я разозлюсь, я дам тебе по носу, идет?» – она отвечает: «Нет, если ты разозлишься – ты остынешь. Если впадешь в депрессию, выйдешь из нее. И если поддашься эгоизму – а ты ведь законченный эгоист! – уделишь мне внимание». И к этому безупречному жизненному руководству мне как автору статьи хотелось бы добавить от себя лишь одно: «Если поддашься на чужие уговоры – примешься пить не просыхая, и если сопьешься – выйдешь из запоя».
Алексей Васильев
Соглядатай
Я понял, что единственное счастье в этом мире – это наблюдать, соглядатайствовать, во все глаза смотреть на себя, на других – не делать никаких выводов – просто глазеть. Клянусь, что это счастье.
В. Набоков. «Соглядатай»
Отождествить себя с главными героями фильмов Кассаветиса очень сложно. Они всегда непоправимо «другие», непознаваемые, они ведут себя не как киногерои, а как нормальные (или ненормальные) живые люди. Они не следуют законам драмы и ничего не знают о драматических узлах, кульминации и развязке. Мы, зрители, видим лишь часть их жизни, впадаем в нее на полуслове и отворачиваемся, так и не увидев главного. В финале «Убийства китайского букмекера» мы не узнаем, насколько тяжело ранен герой, и не успеем увидеть, упал ли он замертво или пошел по своим делам. В «Мужьях» вообще нет финальных титров: герой Кассаветиса идет к жене, чтобы получить взбучку, заходит за угол, и экран чернеет. От этой недоговоренности, неизвестности, незавершенности возникает ощущение агрессивной, «настоящей» реальности, которой тоже нет дела до законов драмы и финальных титров. Это кино, которое длится, пока хватает взгляда.
Кассаветис часто использует длиннофокусные объективы, чтобы избежать ощущения, что актеры «заперты камерой», но при этом иметь возможность сделать крупный план. Актеры таким образом быстро перестают обращать внимание на камеру. Сначала, в «Тенях», Кассаветис использовал длинный фокус, чтобы не привлекать внимания к актерам на улице – у него не было разрешения на уличную съемку. По этой же причине уличные сцены иногда снимались через окно, изнутри ресторана или бара. Позже такой способ – крупный план, сделанный издали, манера шпиона, соглядатая, заинтересовавшегося чужака – стал для Кассаветиса стилеобразующим. Особенно уместным такой принцип съемки оказывается в «Женщине под влиянием»: из-за того, что камера стоит далеко, фокус в сцене паники героини все время смещается, будто вторя спутанным мыслям Мэйбл.
Зритель не мог бы найти себя в этих фильмах, если бы не одно обстоятельство. Почти во всех, даже самых камерных картинах Кассаветиса есть свидетели: публика в зале «Премьеры», посетители стрип-клуба в «Убийстве китайского букмекера», пьяницы в баре в «Мужьях», люди из забегаловки в «Глории», завсегдатаи ночных клубов в «Лицах» и «Тенях», стадо девушек Роберта в «Потоках любви». Они вынуждены реагировать на то, что происходит с героями: посетители забегаловки озираются на кричащего Зельмо («Минни и Московиц»), коллеги Ника переглядываются, понимая, что Мэйбл не в себе («Женщина под влиянием»), девушка пытается что-то ответить на вопрос Роберта: «Вот и скажите, что для вас „хорошо проводить время“» («Потоки любви»), случайные свидетели наблюдают, как Глория орет на мафиози («Глория»). Вряд ли это осознанный прием, но благодаря наличию свидетелей зритель фильмов Кассаветиса довольно быстро понимает – а скорее, чувствует, – где его место: в массовке. Среди случайных свидетелей и вынужденных участников действия, чье дело – следить за внезапным всплеском чужих эмоций – и, как всегда, при виде чужих эмоций испытывать раздражение, смущение или восторг. Зрителю может быть неуютно в этих рамках – но при этом он внутри фильма, и выхода у него нет, он будет наблюдать за героями, пока им не захочется уйти куда-нибудь еще или, как в «Женщине под влиянием», занавесить окно, через которое, оказывается, камера наблюдала за героями.
Все эти окна, гигантские американские окна – еще одна линия обороны, отделяющая героев от зрителей, и вместе с тем еще одна плоскость, на которой, как и на киноэкране, можно увидеть чужую жизнь. Публика, получается, смотрит глазами соседей – сочувствующих, раздраженных, все понимающих, но на самом деле не понимающих ничего.
Это важно: окно, экран, граница между внутренним и внешним, близким и чужим. Зритель фильмов Кассаветиса постоянно оказывается у этой границы – отвернуться он уже не может, а ближе подойти ему не дают. Кассаветис не интересуется психологией своих героев, не лезет в их внутреннюю жизнь, не объясняет, кого в детстве не любила мама, а кто в юности не пользовался успехом у противоположного пола. Такие вещи обычно узнают о близких людях или пациентах, а герои Кассаветиса – ни то ни другое. Режиссер, предъявляя своих героев, довольствуется крупным, иногда смазанным планом, сделанным издалека: просто люди, с которыми вы оказались в одном пространстве.
Я не знаю, почему всех так интересуют скрытые мотивы людей. Чаще всего за этим стоят страх, неуверенность в себе. Обычно вы просто что-то чувствуете, испытываете какие-то эмоции, разве не так? Вы любите этих людей или ненавидите их. [ «Мужья»] это фильм о внешней жизни людей[1]1
Carney R. Cassavetes on Cassavetes. London – NY, 2001. P. 195.
[Закрыть].
Это фильмы о том, что видно в окно: чужое безумие, чужое похмелье, чужую любовь. В «Глории» какая-то женщина, став свидетельницей мафиозных разборок в забегаловке, неуверенно хватается за сумочку, одновременно желая уйти и понимая, что уйти не получится. Она ничего не делала, просто оказалась один на один с обрушившимся на нее градом чужих эмоций, она просто смотрела и теперь не знает, как ей быть.
Желание уйти – первое, что дарит зрителю Кассаветис. Следующий этап – принятие.
Ксения Рождественская
Актер
Но вот и ему приходит пора умирать – и на сцене, и в мире. Все прожитое стоит перед его глазами. Взгляд его ясен. Он знает, что его приключение мучительно и неповторимо. Он знает – и готов к смерти. Для престарелых комедиантов существуют приюты.
А. Камю. «Миф о Сизифе»
У каждого есть свой кинематографический образец смерти. Например, для Тарковского это сцена из «Семи самураев»: проливной дождь смывает грязь с лежащего самурая, и по мраморной белизне его тела мы понимаем – он мертв. Точнее, не понимаем, но чувствуем по неприятному шевелению внутри – это дает о себе знать первобытный страх смерти. В кино умирают часто, быть может, даже слишком часто, но это клюквенный сок – передать опыт смерти на экране удавалось единицам. Это может прозвучать парадоксально, но для меня «Премьера» Кассаветиса – в первую очередь фильм про умирание. И хотя смерть там затронута лишь по касательной, но, как у Джойса в «Сестрах», от этого фильм только точнее бьет в солнечное сплетение. О самом главном всегда умалчивают. (Хочется еще добавить, что самое главное предпочитают не замечать – «Премьера» до самой смерти Кассаветиса находилась в тени зрительского внимания, по крайней мере в Америке. Мне сложно быть объективным. Каждый раз во время просмотра, вспоминая об этом, я шепчу: «Боже мой, какие идиоты».)
Один из начальных эпизодов фильма: театральный режиссер Мэнни Виктор (Бен Газзара) поздно ночью сидит в апартаментах и накачивается виски, исповедуясь своей молодой жене Дороти: «Моя жизнь стала скучной и пресной. Мои шутки скучны даже мне самому». Исповедь джентльмена и денди: он роняет свои фразы будто невзначай, иногда усмехается. Будто он не в квартире, а на театральных подмостках. Контрапунктом минималистичное пианино. «Будешь лед?» – спрашивает жена. Лед звенит в стакане, исповедь продолжается: «Шутки опостыли, весь блеск исчез». И тут ее прорывает: «Мэнни, я умираю», – говорит она и смеется. И потом: «Я умираю, потому что устала. Кругом одно и то же». Эта фраза, случайно проскользнувшая в этот ночной разговор, вдруг высветила все. Я понял, что умираю тоже.
Удивительно, что порой случайные сцены так врезаются в сознание, что могут затмить сам фильм (этакая вариация «синдрома Бунина»: он где-то признавался, что написал один рассказ только для того, чтобы описать красоту дерева; сюжет, герои – подобная чепуха его абсолютно не интересовала). Ведь описанный эпизод – лишь прелюдия к сцене, где зазвонит телефон и появится главная героиня – Миртл, стареющая театральная звезда (Джина Роулендс). Впрочем, назвать эту сцену случайной было бы опрометчиво – все темы и конфликты фильма сплетены в ней в тугой узел: смерть, старение, театр, одиночество. «Мэнни, я умираю», – на самом деле эта фраза органичнее звучала бы из уст Миртл, а не фальшивой и пустоватой Дороти. «Расскажи мне, что значит быть одинокой женщиной?» – спрашивает Виктор свою жену, хотя если кто-то и может ему об этом рассказать, так это Миртл.
Кассаветис признавался, что хотел снять фильм о «человеческой реакции на старение; о том, как побеждать, когда очарование уже не то, что раньше; когда нет прежней уверенности в себе и в своих способностях»[2]2
Carney R. Cassavetes on Cassavetes. London – NY, 2001. P. 409.
[Закрыть]. «Премьера» – не первый фильм Кассаветиса о старости. Хотя бы те же «Мужья» – история трех друзей, которые после смерти своего товарища начинают кутить напропалую, оправляясь в алко-путешествие по барам и казино с непременной ночевкой в метро. В общем, один из тех фильмов, которые изобрели кризис среднего возраста. «Премьера» так и напрашивается на звание женской версии «Мужей», но отличий куда больше, чем совпадений. «Премьера» в фильмографии Кассаветиса вообще стоит особняком. Это кино личное и почти исповедальное, и размышления о старении переплетены с режиссерской рефлексией на такие «вечные» темы, как суть актерской игры, граница между театром и жизнью, природа творчества.
Миртл далеко за сорок, и она участвует в постановке пьесы «Вторая женщина» (Second Woman) пожилой женщины-драматурга Сары Гуд (Джоан Блонделл). Постановка не ладится. Режиссер с щеголеватой усмешкой замечает, что Миртл потеряла былую привлекательность. Актер Морис, компаньон по пьесе и бывший любовник (в исполнении самого Кассаветиса), на ее попытки вернуть прежние чувства холодно замечает, что теперь их связывают исключительно профессиональные отношения. Сара утверждает, что Миртл боится признать свой возраст. Сама Миртл считает, что это, конечно, глупости, просто она пытается переформулировать свою роль так, чтобы возраст значения не имел. Пьеса для нее «не работает». Правда, все ее аргументы в защиту своей точки зрения сводятся к истерикам на репетициях и безудержному пьянству. Что хуже, после очередного выступления и раздачи автографов на глазах Миртл машина сбивает одну из ее ярых поклонниц, чья любовь к ней граничит с патологией, и вот теперь она является к Миртл то ли как призрак, то ли как галлюцинация. Миртл даже пытаются отвезти на встречу с медиумом, но тщетно – кажется, все идет к тому, что премьера с треском провалится.
Фильмы Кассаветиса всегда в первую очередь были про отношения, и прежде всего, конечно, между мужчиной и женщиной. Поэтому объектом его исследования всегда выступала пара (говорящее название «Минни и Московиц») или группа (те же «Мужья»). Химия, физика, математика отношений – фундамент его кинематографа. Но в «Премьере» он чуть ли не впервые вывел на сцену героя чайльд-гарольдовского типа. Миртл интересна ему в первую очередь сама по себе, ее отношения с остальными участниками постановки играют подчиненную роль – они лишь в очередной раз подчеркивают бунтарский нрав Миртл, ее романтическое одиночество и покинутость. «Думаете, вы знаете, что такое напиваться? Думаете, знаете, что такое старение? Вы думаете, что вообще что-то знаете?» – своим вызывающим поведением она наивно и порой с нелепостью подростка старается избежать навязанных паттернов поведения «стареющей театральной дивы», «второй женщины» (читай: вторичной и второсортной). Но в этом почти спинозистском «упорстве в бытии» просвечивает вовсе не желание вечной молодости, а что-то совершенно другое: «Когда мне было семнадцать, я могла делать все что угодно. Это было так легко. Мои эмоции были почти на поверхности». Эта проходящая рефреном строчка – ключ к сердцу Миртл. Именно такого эмоционального контакта с миром она ищет, и именно показом обнаженных эмоций всю жизнь был одержим Кассаветис. Поэтому бесконечные попойки, истерики – вовсе не капризы, но поиски подлинности.
Парадоксально, но театр – эта лаборатория эмоций – становится главным препятствием для достижения эмоциональной непосредственности. В театре, как и в жизни, есть свои штампы и клише, просто в первом случае их называют профессионализмом, во втором – этикетом. «Ну что, какие проблемы с пощечиной? – усмехается Виктор, когда Миртл в очередном истерическом припадке падает на сцену. – Актрисам дают пощечины. Это традиция. Ты же хочешь быть звездой?» Традиция на поверку попахивает мертвечиной. Кассаветис признавался:
«Премьера» – это фильм о нашем чувстве театральности и о том, как оно может нами овладеть; как мы можем ошибиться в какой-то мелочи и потом так и не узнать, что это за пустяк, за который мы сражаемся[3]3
Carney R. Op. cit. P. 415.
[Закрыть].
Миртл жаждет большего – ей нужны подлинные эмоции не только на сцене, но и за ее пределами. Хотя бы потому, что фальшь в жизни может, как раковая опухоль, перекинуться на сцену. «Что с нами не так? – удивляется она. – Мы совсем ослепли. Только что погибла девушка, а мы думаем только о том, как бы поужинать». И после этого они еще пытаются ее учить, как вести себя на сцене? Проблема Миртл, однако, в том, что, несмотря на желание вернуться к «поверхности эмоций», она испытывает панический страх перед реальностью – она привыкла к уютной жизни в алкогольном дурмане, в окружении почитателей и придворной свиты, чистые ощущения ее пугают. Отсюда ее страх перед пощечиной. Но реальность, как нам завещали экзистенциалисты, обнажается именно в таких пограничных ситуациях. Смерть поклонницы прерывает привычный ход вещей, ее призрак начинает преследовать Миртл. Конечно, это не настоящее привидение и не алкогольный бред. Девушка – лишь плод воображения[4]4
Carney R. Op. cit. P. 410.
[Закрыть], воплощение аффективной ярости, о которой мечтает Миртл и которую ей необходимо обуздать, чтобы справиться со своим кризисом, а затем и с ролью в пьесе.
И тут мы подходим к главному вопросу: в чем заключается этот кризис? «Все хотят быть любимыми». Безусловно. Но причины кроются гораздо глубже. В семнадцать лет эмоции обнажены, и энергия хлещет через край во многом благодаря слепой вере: «смерть – это то, что бывает с другими». Когда тебе далеко за сорок, опыт говорит о другом. Поэт может сказать: «Весь я не умру», для киноактера есть базеновское утешение: «На экране тореро умирает каждый день после полудня»[5]5
Базен А. Что такое кино. М., 1972. С. 65.
[Закрыть]. Но работа театрального актера, как говорил Камю, – это творчество без завтрашнего дня. Его опора – не вечность, пусть и эфемерная, но пресловутое «здесь и сейчас». И подлинность этого момента каждый раз конструируется твоей эмоциональной реакцией. Да, это Сизифов труд. Что ж с того? Как нас учил тот же Камю, это один из немногих достойных ответов абсурдности мира. Да, киноактер умирает на экране каждый день – возможность бесконечной проекции фильма дарит ему гарантированную вечность. Но механическое повторение – это мертвое время. Актер на сцене театра каждый раз переигрывает и переутверждает себя заново. Он ничего не выигрывает, как, впрочем, ничего не проигрывает[6]6
Эту парадоксальную ситуацию отмечал и сам Кассаветис: «В финале она ничего не получает, кроме собственного счастья» (Carney R. Op. cit. P. 413).
[Закрыть], но он может обыграть – актеров, режиссера, драматурга, продюсера, зрителей, время, да саму смерть. Именно это показывает нам в финале мертвецки пьяная Миртл на премьере пьесы. Она будто говорит: «Вы хотели увидеть, как звезда угасла? Черта с два! Звезда родилась!»
Владимир Лукин
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































