Текст книги "Кассаветис"
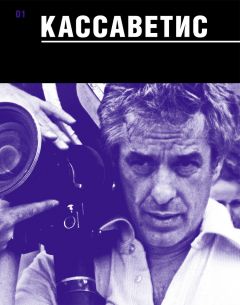
Автор книги: Василий Степанов
Жанр: Кинематограф и театр, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Кассаветис в театре
Пьеса любви и ненависти
Акт первый. Тексты
Пьесы Джона Кассаветиса ставят до сих пор. Те самые пьесы, которые при жизни автора были малоинтересны критике и широкой публике. Ставят и переделанные в пьесы сценарии фильмов – тех самых, которые считались невыразительными и едва ли не случайными. Но все эти проявления запоздалого внимания (не слишком частые и в основном негромкие) никак не складываются в историю про «посмертное признание» и «возвращение авторского наследия на театральную сцену». Как всегда в случае персонажей Кассаветиса, драматургических ходов Кассаветиса и самого Кассаветиса, решением одной проблемы становится появление другой. Он может дать счастье, но не комфорт и не покой, о нет.
Эти театральные интерпретации интересны как раз возможностью наглядно увидеть, что именно в авторском мире оказалось «художественно-общедоступным». «Таинственную женщину» (это из поздних вещей, не дождавшихся экранизации, – о странной бесприютной женщине, потерявшей память и скитающейся по улицам большого города) ставили в Греции в 1996 году, в Канаде в начале нулевых и в Париже (некто Марк Гольдберг в маленьком театре Vingtieme в 2006-м). В 2010 году эмигрантка из Румынии Дорис Миреску участвовала в фестивале Under the Radar в Нью-Йорке с «Мужьями» – там было все как у людей: мультимедиа, прозрачные боксы на сцене, фрагменты фильма Кассаветиса на телеэкране, операторы на сцене с камерами в руках. Правда, критики отмечали, что актеры выглядят так, словно надели на себя отцовские костюмы, – и сказанного вполне достаточно. В 2011 году в Бруклине маленькая компания Collapsable Hole показала свой вариант «Теней» в постановке Алека Даффи – в получившейся драме из жизни чернокожих было много живого джаза, три приемлемых актерских работы (молодые и обаятельные актеры-афроамериканцы выглядели весьма искренними) и хаос в «промежуточных сценах».
Пристальный интерес к текстам Кассаветиса проявляет чрезвычайно модный голландский режиссер Иво ван Хове. В 2006 году в своем театре Toneelgroep Amsterdam он выпустил «Премьеру», а совсем недавно поставил спектакль по «Мужьям». Ироничный интеллектуал, в каждом своем интервью рассказывающий о том, как его спектакли соотносятся с проблемами современного европейского общества, увидел в сценариях Кассаветиса потенциал для энергичных, изобретательных социальных зарисовок, бодрых даже в минуты печали. «Премьеру» Кассаветиса ван Хове, по его словам, посмотрел уже после того, как поставил свой спектакль, – не этот ли факт повлиял на то, что в последующих голландских «Мужьях» какая-никакая метафизика все-таки проклюнулась. Предполагалось, что амстердамская «Премьера» была посвящена «проблеме взаимоотношений общества, навязывающего человеку социальные роли, и индивидуума, настаивающего на собственной уникальности». Кроме того, очень важной была проблема физического старения, как же без нее. Временные неудачи в профессиональной жизни крепких ремесленников счастливо преодолевались к финалу. Недаром критик, оценивший фильм Кассаветиса и уникальную фотогению Джины Роулендс несколько раньше, чем голландский режиссер, назвал героев спектакля примитивными, игру актеров – иллюстративной, а страдания голландской актрисы, переживающей утрату молодости и красоты, – выдумками женщины, которой на самом деле решительно нечего терять. «Мужья», судя по всему, были сделаны менее грубо, что, впрочем, не помешало отечественному критику увидеть на сцене «историю сорокалетних инфантилов» (противопоставляя, однако, «очень конкретную историю» в фильме Кассаветиса и «выстроенную» им, о боги, «плотную бытовую среду» – «спектаклю-притче» ван Хове).
И если бы тема «Кассаветис и театр» этим исчерпывалась, то ее вполне можно было бы назвать несуществующей.
Акт второй. Спектакли
Джон Кассаветис на театральной сцене играл недолго (в самом начале карьеры, только что выпустившись из Нью-Йоркской академии драматического искусства) и ставил немного – технически это выглядело как репетиция будущих съемок во время вынужденного простоя. На сцене ему давали ставить ничуть не охотнее, чем снимать кино. Однако театр был не просто временной заменой – перфекционист во всем, Кассаветис и на сцене шел против правил. Просто в театре это были не те правила, что в кино. В отличие от низкобюджетных фильмов с маленьким «семейным» актерским составом, тут ему требовались огромная труппа и немалые затраты (не только по скромным офф-бродвейским, но и по вполне бродвейским меркам). В 1969-м он репетировал пьесу Эверетта Чэмберса «Сорокалетний мужчина» с Питером Фальком в главной роли, но проект не состоялся. Двадцать три актера в составе. В 1983-м ему удалось выпустить «Торнхилл» – по мотивам биографии Юджина О’Нила. Более сорока актеров – включая Бена Газзару, Джину Роулендс и Кэрол Кейн. Девятьсот тысяч долларов затрат, более полутора месяцев репетиций (дьявольски много по тамошним меркам). Кассаветис все время переписывал текст. Спектакль прошел всего три раза – на фестивале под названием «Шекспир в Парке». Для Бродвея шоу не годилось.
А в 1981-м в Лос-Анджелесе он на собственные деньги восстановил бывшее помещение Калифорнийского центра сценического искусства и перестроил его (под названием Center Theatre) – специально для проекта «Три пьесы любви и ненависти», куда вошли три отдельных спектакля: «Ножи» (по собственной пьесе), «Потоки любви» (ставшие впоследствии фильмом; Роберта в спектакле играл Джон Войт) и «Третий день настает» – история одной канадской семьи с 1930-х годов до настоящего времени (по пьесам Теда Аллена) – в каждом из спектаклей было занято от тридцати пяти до сорока с лишним актеров. Критики были традиционно суровы к режиссеру, усмотрели в спектаклях сходство с телепостановками (или просто больше знали Кассаветиса как телезвезду), возмущались отсутствием настоящего ливня на сцене (в «Потоках любви»), спрашивая, куда в таком случае делись деньги из огромного бюджета спектакля. В общем, все было как всегда. До киноварианта 1984 года в «Потоках любви» (пьеса Аллена неоднократно ставилась на американской сцене, для сценария Кассаветис ее переписал заново) не дожила тема насилия и вероятного давнего инцеста (как возможной причины нервного расстройства героини Роулендс). Кино было территорией принципиально энигматической (как та самая «красивая женщина со своей тайной», о которой твердил герой Кассаветиса в фильме) – театр для него работал совсем по-другому. «Красивой женщиной» он не был.
Потом был спектакль East/West Game, где роль неудачливого сценариста, отвергаемого крупными киностудиями, играл Ник Кассаветис. «Это что-то личное», – решили американские критики, проявив редкую проницательность. «Таинственная женщина», поставленная Джоном Кассаветисом в 1987 году в крохотном Court Theatre (в заглавной роли, конечно, блистала Роулендс), оказалась его последней театральной постановкой. О том, сохранились ли какие-то материалы спектакля, существуют ли записи репетиций – гадает даже американский исследователь творчества Кассаветиса Джордж Куварос, автор книги Where Does It Happen? John Cassavetes and Cinema at the Breaking Point. Фактическая история театральных постановок Джона Кассаветиса, кажется, еще невыносимее, чем прокатная судьба его фильмов. Независимый гений – посмертный титул, а не прижизненный контракт.
Акт третий. Пространство и игра
Но настоящая история взаимоотношений Кассаветиса с театром куда глубже. Куварос вообще настаивает на некоем дуализме театра и кино в творческом методе режиссера. А Джонатан Розенбаум (единственный критик, оставивший более или менее подробное свидетельство о «Таинственной женщине»), сопоставляя «театральность» Джона Кассаветиса и Орсона Уэллса (ну потому что так надо), заметил следующее:
Можно даже сказать, что процесс игры (acting) был темой всех их фильмов – не только в силу их страстного интереса к актерам, но также и потому, что сам их взгляд на человеческую природу и поведение имел много общего с понятием «представления» и пониманием того, что каждый человек – актер.
И дело тут не только в том, как в фильме «Женщина под влиянием» гости начинают по очереди петь за столом, а сама героиня упоенно кружится под «Лебединое озеро» или формулирует с безумной (буквально) точностью: «Скажи мне, какой ты хочешь меня видеть! Я смогу быть любой!» И не только в той грандиозной сцене в фильме «Мужья», когда в пабе Гас, Гарри и Арчи устраивают песенное состязание среди случайных собутыльников, и то ли Гас, то ли сам режиссер, перестав хохотать на минутку (боже, как же этот мужчина умел смеяться!), вдруг умилится старомодной песенке про Нормандию. И не только в том, как героиня Джины Роулендс в фильме «Потоки любви», показывая дурацкие фокусы любимым и предавшим ее мужу и дочери, воскликнет с отчаянием трагического клоуна: «Мое время, кажется, заканчивается! Но я использую свой шанс!» И не в серии эпизодов, когда кто-либо из героев объявляет, что сейчас «будет шутка», и выдает эту самую «шутку».
Хотя и во всем этом, конечно, тоже.
Куварос пишет:
Говоря о того рода театральности, которой отмечена режиссура Кассаветиса, я бы хотел предложить такой способ рассмотрения взаимоотношений между кино и театром: не последовательность исторических и формальных влияний, но сама идея репрезентации в ее предельном выражении, взятая как таковая и поверяемая теми физическими процессами и таинственными энергиями, что составляют стержень сценической деятельности. Дело не в том, как одна форма искусства сотрудничает с другой или к каким вопросам побуждает; речь, скорее, может идти о некоем едином процессе, в котором кино и театр взаимно сплетаются и замещают друг друга.
Важно тут вот что. Собственно, общеизвестное. Съемочная площадка «Лиц», освещенная так, чтобы можно было снимать на 360 градусов, – без меток, без фиксированного направления взгляда, так, что оператору приходилось ходить за актерами, которые начинали играть тогда, когда были готовы. Часто Кассаветис сам брал в руки камеру и становился особым безмолвным партнером, играющим режиссером на площадке. Решительно отказывался от мелкой нарезки кадров внутри длинного эпизода и от «восьмерки»: если в диалоге участвуют два «лица», в кадре должны быть оба (что косвенно подтверждает примат «незаинтересованного» свободного взгляда). Он решал режиссерские задачи «через актера» – с одобрением отметили бы деятели русского театра (зато потом месяцами монтировал). Вспомним, кстати, и его способ снимать панорамы лиц эпизодических персонажей (в пабах, ресторанах, дансингах) и героев – как часть толпы. А также – самого Кассаветиса (в «Мужьях» или «Потоках любви», где писатель расспрашивает девиц) и функцию «наблюдателя за общим столом» (это может быть Роулендс или Фальк), то и дело вмешивающегося в действие (актеры «зрелого периода» Кассаветиса на «Женщине под влиянием», к примеру, работали с показа – причем не до, а уже во время съемки). Если сложить все вместе, получится взгляд на сцену – со сцены. Это хронотоп театральной репетиции. О зрителях режиссер подумает на монтаже.
И, наконец, вспомним известное благодаря Рею Карни признание режиссера:
У меня есть одна идея: открыть театр, куда люди приходят, не зная, что они увидят. Там должны быть два-три актера, играющих одну и ту же роль. Сегодня аудитория лишена радости предвкушения неожиданного. Я хотел бы открыть ресторан исключительно для театральной публики, где актеры при желании могли бы смешаться с публикой.
Триединство театральной сцены – ресторана – съемочной площадки весьма интересно. Кассаветис, как известно, обожал компании, и, разумеется, шутил и хохотал вовсю, но одновременно (будучи режиссером до мозга костей) успевал наблюдать за лицами, по которым пробегали тени подлинных – пусть даже слабых и уж точно неформулируемых – чувств. И фиксировал впоследствии на пленку все: и результаты наблюдений, и самого наблюдателя. (Сколько раз в его фильмах сюжет двигался куда-то в тот момент, когда кто-то неожиданно подсаживался за столик со своей историей.) Но стоило собеседникам (или просто «безмолвным зрителям финала» из массовки) начать что-то «выражать», настаивая на эмоции, которой они на самом деле не испытывали, но думали, что должны испытывать, – как сразу кто-нибудь, например Газзара в «Мужьях», принимался орать на бедную старушку-певунью: «Ты ужасна! Это слащаво! Слишком жеманно! А надо от сердца! Добавь чувства!» Театр (особенно дурной театр) ставил предел живой жизни, но театральность была ее условием.
Акт четвертый. Актеры
«Добавить чувства» – кто только не говорил этого, но гений Кассаветиса заключается именно в том, что он имел в виду нечто совершенно конкретное. «Меня интересуют только чувства», – подобные многочисленные пассажи в его интервью, записанных Карни, кажутся необязательной банальностью, однако это, напротив, едва ли не откровение. «Делать фильмы – значит чувствовать, что тебе есть что сказать, но не понимать, что же такое тебя тут беспокоит. Тогда работа превратится в приключение». То, что Михаил Чехов называл «предощущением целого», духовное и душевное напряжение за секунду до открытия долгожданной, вечно ускользающей истины, грань между озарением и неопределенностью, – по существу, Кассаветис работал только с этим, бережно, но непреклонно перекраивая тончайшую из эмоциональных материй. Смутное беспокойство, переполняющее через край фильмы Джона Кассаветиса, – иному режиссеру хватило бы одной такой минуты экранного времени, чтобы был вынесен вожделенный вердикт: «И вот в этот момент начинается кино». А Кассаветис делает из этого двухчасовые картины – целиком.
Ответ на вопрос «как?» тесно связан с авторским способом работы с актером. И вот тут не обойтись без разговора о театральной педагогике. Важно не только, где учился, а где как раз наоборот – не учился – он сам, но и то, от чего он отталкивался, как от отрицательного опыта.
Джон Кассаветис закончил Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке в середине 1950-х годов. Как раз тогда, когда Ли Страсберг в Актерской студии проповедовал свой Метод, усиливший и уточнивший практические положения системы Станиславского – преимущественно в сторону развития и использования аффективной памяти. Так вот независимый во всем и всегда Кассаветис еще тогда – когда авторитет Студии (благодаря ее блистательным выпускникам) был чрезвычайно высок – утверждал, что техника Страсберга была хороша для поздних сороковых – ранних пятидесятых годов, а ныне уже устарела. Что «Метод – это больше психотерапия, чем актерская игра». Что болезненные невротические реакции становятся синонимом сценической правды. Что Метод позволяет актеру упиваться нарциссическими фантазиями и быть неразборчиво снисходительным к любым собственным эмоциям. О, это он еще не знал, к чему может привести лозунг «Идти от себя» на родине системы Станиславского! Впрочем, прозрения его поразительны: «результатом становится ленивая, сентиментальная игра». Все, убил китайского букмекера.
Конечно, ему немножко помогли «сориентироваться на местности»: одним из преподавателей в Академии был Дон Ричардсон, начинавший в легендарном Group Theatre вместе со Страсбергом, Казаном и Адлер, – единственный, кто пошел поперек Системы, а впоследствии выпустил книгу под названием «Актерская игра без мучений: Альтернатива Методу» (Acting Without Agony: An Alternative to the Method; «Игра без агонии» звучит еще лучше). И, как известно, «Тени» родились из учебных импровизаций студентов, пришедших на мастер-класс к Кассаветису и Берту Лейну. Если Страсберга называли «гуру Метода», то Кассаветис сам себя называл «антигуру».
Рэй Карни подводил итог:
В Студии игра воспринималась как нечто непременно серьезное и связанное с тяжелым трудом. Кассаветис понимал, что актерская игра – это забавно. Что она может быть веселой, сумасбродной, дурашливой[9]9
В оригинале употреблено слово zany – «веселая душа» итальянских масок и впрямь была необходима, чтобы сыграть «Тени», «Лица», «Минни и Московиц» и тем более «Премьеру».
[Закрыть]. В версии Страсберга театр был храмом – для Кассаветиса он был игровой площадкой».
И это – как ни парадоксально – тот самый режиссер, который требовал от актера (и от самого себя, разумеется): «Скажи, кто ты есть. Не кем хотел бы стать. Не кем должен быть. Просто скажи, кто ты есть. И кто ты есть, уже и хорошо». Нюанс – определяющий все, на самом деле, в том, что чувство подлинности у него было невероятно обострено. Он не интересовался не только качественной имитацией, но и правдоподобием. И умел – по многочисленным свидетельствам его актеров – достать из них самое сокровенное. Как бы ни старались актеры «идти от себя», только режиссер определял, куда они должны были прийти. Прекрасная Линн Карлин, сыгравшая героиню в «Лицах», говорила о Кассаветисе как о режиссере, который имел право читать человеческую душу и судить о ее честности. «Если наигрывали или не достигали настоящей степени реальности, он говорил: „Это дерьмо! Это ненастоящее, это не ты!“». «Я готов убить любого, кто не раскрывается до донышка», – признавался Кассаветис.
Вопрос в том, где «донышко». Это можно увидеть даже на примере его вынужденной неудачи – убитого продюсером Стэнли Креймером и саботажем голливудских звезд фильма «Ребенок ждет». Сцена разговора положительной учительницы из приюта для умственно отсталых детей (Джуди Гарленд с загримированным до состояния маски лицом) с непутевой матерью одного из учеников, бросившей его на произвол судьбы, Джиной Роулендс. На лице Гарленд последовательно и убедительно сменяются выражения. Сочувствия. Непонимания. Легкого осуждения. Глубокого сочувствия. Прощения. Это качественная игра, голливудский большой стиль. Планы Роулендс практически неподвижны. Что можно о ней сказать? Что этой женщине плохо. Нет, пожалуй, даже как-то совсем плохо. На лице мелькают неуловимые тени безъязыкого страдания – так, что вглядываться в это лицо можно бесконечно, но вот делать покадровую нарезку бессмысленно – это будет одно изображение.
Чтобы достичь такой степени правды, в ход у Кассаветиса шло все: и этюды-импровизации (особенно на ранних этапах, преимущественно в первом варианте «Теней» и в процессе подготовки «Лиц») – отличавшиеся от привычных нам разве что большей привязкой к магистральному сюжету, отсутствием фантазий на тему «биографии персонажа». Были и многочасовые, а то и многолетние разговоры с актерами. Линн Карлин могла получить серьезную пощечину и приказ «Не плакать!», чтобы войти в нужное состояние, а с Газзарой он размышлял о том, что значит бросить вызов смерти. Не одобряя практику Актерской студии, где персонажи обсуждались всеми участниками постановки, он иногда практиковал один из самых эффективных способов достижения спонтанных реакций: когда с каждым актером роль «разминалась» по отдельности, и партнеры мало что знали о персонажах друг друга. Интересно, что такой не похожий на Кассаветиса, но столь же специфическим образом связанный с театром режиссер, как Майк Ли, делает почти то же самое.
Репетируя, актеры могли иногда менять текст диалогов и были обязаны приходить на площадку с собственными идеями, но роль импровизации как таковой в творчестве Кассаветиса сильно преувеличена (вероятно, теми, кто был потрясен самой ее возможностью). Режиссер, превыше всего ценящий свободу художественного и личного высказывания, говорил:
Я за свободу творчества, но следует определить, что она такое для актеров. Если свобода для них в том, чтобы нести всякий вздор, наплевав на то, что для меня ценно, то такой свободы я не допущу.
Нет, тайна рождения его персонажей заключалась отнюдь не только в импровизации.
Акт пятый. «Премьера»
«Премьера» – квинтэссенция театральности Кассаветиса. Исчерпывающее режиссерское высказывание на тему «Предмет и метод». Неотразимое обаяние «обстоятельства места» – театрального закулисья – создает обманчивый эффект простоты. Самое поверхностное описание сюжета – «драматическая история стареющей актрисы» – в общем-то, безупречно. Кассаветис всего лишь уточняет, что такое старость (вернее – старение как процесс), и что такое – актриса.
Что гложет таинственную женщину Миртл Гордон? Почему ей, знаменитой актрисе, не дается роль в заурядной пьесе? Отчего она не в силах вынести, когда сценический партнер дает ей пощечину, и зачем пытается выглядеть последней дурой и истеричкой, говоря автору, опытной шестидесятилетней писательнице, что в ее пьесе «Вторая женщина» нет надежды? Юная фанатка Нэнси, сбитая машиной на глазах у Миртл и являющаяся ей недобрым призраком, – причина или следствие кризиса героини? Это не только зрителям фильма – это всем интересно! Все персонажи «Премьеры», каждый на своем уровне, пытаются понять, что происходит с Миртл Гордон, – не из праздного любопытства, отнюдь. От того, будет ли Миртл готова, зависит, состоится ли премьера. Они находят первоисточник зла с подозрительной для фильмов Кассаветиса определенностью: все дело в том, что Миртл стареет. А стареть – грустно и как-то неприятно. Неудивительно, что бедняжке является призрак ее ушедшей молодости. Тем более странно, что она не понимает свою героиню – та ведь как раз страдает от того же самого!
Но все дело в том, что физическое старение не так уж важно. Кассаветис ведь предупреждал: его интересуют «только чувства». «Когда мне было восемнадцать лет, я могла все. Мои чувства были так близко к поверхности, что я с легкостью отзывалась на чужую боль», – дважды за фильм произносит героиня Джины Роулендс. Когда им было по восемнадцать-девятнадцать лет, вспоминала Лейла Гольдони (сыгравшая в «Тенях» главную героиню), импровизации получались легко и свободно. А вот уже второй вариант фильма[10]10
Первая версия фильма «Тени» состояла только из актерских импровизаций. В 1959 году Кассаветис дополнил картину постановочными сценами. – Примеч. ред.
[Закрыть] потребовал труда. Возраст – окостенение, «известкование» образа, чувств и собственных представлений о себе. «Второй женщине» неоткуда появиться. Роль Вирджинии не рождается. Миртл не может стать «другой».
И это был бы изумительный «производственный фильм» о проблемах театральной отрасли – если бы театр не был тут миром, и каждый его элемент не становился одновременно и метафорой. (Каким чудом и какой ценой Кассаветис возвращал общим местам статус откровения? Вероятно, все-таки гений.) Рождение образа уравнено в правах с возрождением души. «Я стала скучной, потому что не воспринимаю себя всерьез. Я раздавлена жестокостью этой чертовой пьесы», – говорит Миртл (а ее жизнь и пьеса уже вовсю соревнуются в жестокости).
В том, что Премьера жизненно необходима, уверены все. Ну так отчего бы, черт возьми, не сыграть? Ведь «все реплики есть на бумаге. Можно подумать, что ей надо заново создавать слова! – негодует старая драматургесса. – Если вы с должным чувством произнесете реплики, то Вирджиния появится!» Безмерная фальшь этого «с должным чувством» дает законченную формулу ненавистной Кассаветису дурной театральности. Но играть – не значит произносить реплики. Сыграть роль – создать новый образ, стать кем-то другим (а это, кстати, и означает – не стареть) – дело опасное, страшно рискованное. Но Миртл уже сказала, что готова ради этого на все: она начнет осторожно – с сумасбродного каботинства и отсебятины, и со сцены открыто объявит пьесу – всего лишь пьесой. Ей придется не просто бороться – драться с преследующим ее призраком и убить его (невозможно не вспомнить, что чувственный контакт с воображаемым персонажем – важная составляющая одного из «способов репетирования» по Михаилу Чехову). Она переживет непонимание, предательство и презрение близких. Без надежды, без сил, уже не держась на ногах, смертельно пьяной, на одном актерском героизме она все-таки выползет на сцену – и ее горький, почти бессвязный лепет поперек написанного текста каким-то чудом пробудит партнеров. И сцена в жестокой пьесе, где были запланированы грязный скандал и мордобой, обернется всеобщими признаниями в любви и заботой о свалившейся в обморок Вирджинии – Миртл. Импровизация и спонтанность, фирменные приемы Джона Кассаветиса, – а вот, наконец, и они.
Став «другой» во всех возможных смыслах, Миртл изменяет ход пьесы. Режиссер спектакля (Бен Газзара) пообещал ей: «Если ты дотянешь до второго акта, то знаешь, кто тебя будет ждать? Морис!» Она дотянула, и Морис был там. Второй акт – триумф l’anima allegra (театр ведь – игровая площадка). Преобразившаяся Миртл – Джина Роулендс, и Морис – Джон Кассаветис – с тем восхитительным артистизмом, который с готовностью присвоит себе любая театральная система, похерив текст «жестокой» пьесы, куролесят напропалую, импровизируя диалоги под непрекращающийся хохот зрительного зала: «Но я – это не я!» – «А я уверен, что это я – кто-то другой!» – «И, по-твоему, я тоже?» – «Да!» Они еще говорят о старости, но вот уже сбиваются на любовь, а заканчивают – и вовсе клоунадой. «Все ясно! – решает Миртл Гордон (или Джина Роулендс – уже не разобрать). – Кто-то выдает себя за нас! Кстати – у тебя подозрительная улыбка». Джон Кассаветис смеется.
Занавес.
Лилия Шитенбург
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































