Читать книгу "«Волос ангела»"
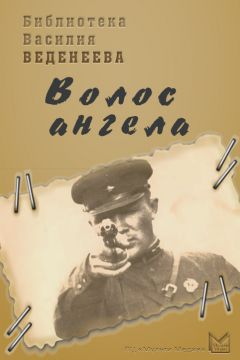
Автор книги: Василий Веденеев
Жанр: Книги о войне, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
В конце недели завалилась в салун некая шумная компания. Орали, хлопали друг друга по плечам, горланили песни. Когда Греков подошел за расчетом, один, грубо обругав его, плеснул в лицо остатки пива. Федор не стерпел – выбил из-под обидчика стул, успел отмахнуться еще от двух-трех. Потом, получив сзади крепкий удар по голове, свалился на пол.
В эту неделю он остался без заработка. И еще оказался в долгу у хозяина.
Доллар надо было отработать! Здесь нигде и никто не давал даром – это Федор уже знал очень хорошо, но и быть в роли избиваемого ему тоже не очень нравилось. Раньше он иногда ходил биться «на кулачки», зимой, на льду Москвы-реки, и поэтому решил больше так просто не даваться.
Вскоре любители подраться уже обходили салун Старого Билла стороной. Хозяин был доволен.
Однажды вечером он долго стоял за спиной Федора, мывшего посуду, потом, посопев, сказал:
– Тебе велел зайти к нему мистер Каллаген.
– Каллаген? Кто это?
– Уважаемый человек… Утром пойдешь по этому адресу… – Старый Билл протянул Грекову визитную карточку. – Видно, тебе, парень, у меня больше не работать! Жаль… Но каждый делает свой бизнес. И не вздумай отказаться. Я не хочу неприятностей…
На следующий день Федор пришел в школу бокса мистера Каллагена.
Сам Каллаген, маленький, сухощавый, очень подвижный, с острыми глазками-буравчиками и пустой трубкой во рту, заставил Федора раздеться, взвесил, осмотрел и предложил для начала по полдоллара за день работы.
– Покажу тебе два-три приема, чтобы не сразу падал на пол, а там посмотрим. Идет?
Через неделю Каллаген отозвал его в сторону, присел на низкую скамейку и похлопал рукой рядом с собой, приглашая Федора сесть. Тот опустился на скамью, тяжело дыша и вытирая несвежим полотенцем пот с разбитого лица.
Каллаген не спешил начать разговор. Он то вынимал изо рта трубку, то снова зажимал ее крепкими зубами. Наконец решился.
– Слушай, парень… Я видел твой нырок под прямой удар, видел, как ты держишься на ринге. Конечно, если бы ты попал ко мне в руки лет десять назад, это было бы много лучше, но и сейчас я готов заниматься с тобой отдельно. Подумай. У тебя может быть хорошее будущее в боксе. Заключим двухгодичный контракт.
– Мне нечем платить, – отказался Федор.
– Деньги мы будем делать вместе, – засмеялся Каллаген. – А пока доллар в день и усиленные занятия. Через месяц бой с негром Фостером. Учти, он неплохой боксер. Выиграешь – десять, нет, даже пятнадцать долларов, проиграешь – ничего.
– Согласен… – выдохнул Греков. Тогда это казалось ему спасением.
Через месяц он выиграл у Фостера, послав того в нокаут в пятом раунде.
Роман поправлялся медленно, и Федору приходилось снова и снова выходить на ринг в прокуренных, полных орущих полупьяных людей залах. Нужны были деньги на врача, на питание, на жилье. И все это для двоих, а работал он один. Лишь через год Роман стал похож на человека.
– Домой, только домой… – твердил он каждый день. – Солнце, вишни цветут! Федя, от какой же красоты мы с тобой уехали!
К желанию Грекова расстаться Каллаген отнесся резко отрицательно.
– Я еще не вернул свои деньги. Ты не можешь так уехать, нарушив контракт. Знаю, что кормил на мои деньги своего больного друга, знаю. Хочешь, я куплю ему билет на пароход в Россию, а ты останешься еще на год? Иначе за нарушение условий контракта – полиция! Суд, тюрьма. А твой друг все равно еще не сможет работать в дороге. Так что…
Тогда-то Греков наконец понял, что прикидывавшийся добряком Старый Билл просто-напросто продал его в кабалу Каллагену. А может, они были из одной шайки? Кто знает… Оставалось только стиснуть зубы и ждать конца контракта.
Уезжая, Роман плакал. Федор отправил с ним письмо родным, взял его адрес и долго-долго смотрел вслед уходящему в море пароходу, пока тот не потерялся в сверкающей дали.
…В Россию он вернулся только в тринадцатом году. Отца схоронили без него. Обняв худенькие, вздрагивающие от сдерживаемых рыданий материнские плечи, Федор решил для себя, что больше так не будет – не оставит он ее одну. Пошел на завод Гужона, где работал раньше отец. Со скрипом, но взяли. В подсобные рабочие.
Товарищи по работе долго присматривались, расспрашивали, как там, в Америках-то? Рабочий день казался бесконечным, тягостно-серым. Потом стали доверять, позвали в кружок. В четырнадцатом он уже был членом партии большевиков.
В пятнадцатом получил повестку о призыве в армию, но в школу прапорщиков идти отказался – имел задание партийного комитета вести агитацию среди солдат: партия считала, что то время, когда надо будет повернуть штыки одетых в серые шинели рабочих и крестьян против царя и помещиков, уже не за горами. Работу в полку Греков вел осторожно, исподволь приглядываясь к сослуживцам, – опасался провокаторов и доносчиков, но за полгода успел найти и единомышленников, и благодарных слушателей, жадно внимавших той правде, которую он рассказывал о войне, ее причинах, доходчиво разъясняя, кому именно выгодна эта мировая бойня. Радовался, видя, как задумываются после разговора с ним многие солдаты…
В траншее захлюпало. Видно, еще кто-то подошел к группе куривших солдат. Не офицер, нет: не слышно приветствий. Хотя их ротный, штабс-капитан Воронцов, муштры не любит. Солдаты его молчаливо уважают за то, что воли рукам не дает, не придирается попусту, да и не робкого десятка – когда надо, сам впереди.
Федор выглянул из-за выступа траншеи – смена идет: ежась, лениво переставляя ноги в грязных сапогах с налипшими на них комьями глины, сгрудились покурить.
– А мене маманя моя на прощаньице и говорит: прощевай, мол, сынок… Храни тя Господь… – выпустив из ноздрей сизый махорочный дым, не спеша рассказывал средних лет бородатый солдат, – не дождаться мне тя. Ведомо, када воротишься, на погосте буду.
– Да, вот и дадут, стал быть, ей землицы-то, без всякой деньги, – хмуро отозвался другой.
– Знамо, помучилась родимая. Еще при крепостных… А землица, она как мужику не нужна? Нужна! Работы пропасть, жена пишеть: дети пухнуть голодныя, а тут война не пущает…
– Зовсим завоивалысь, – поддержал его простуженно хлюпающий носом тщедушный востроносый солдатик в мятой шинели, – зничтожить этту войну трэба, та и тикать до дому.
– Я те сничтожу, рожа твоя поганая!
В траншее, как из-под земли выросший, появился фельдфебель Карманов, прозванный солдатами Поросенком. Рыластый, короткошеий, он быстро обвел всех маленькими светлыми глазками, опушенными белесыми ресничками. Уперся недобрым взглядом в Грекова:
– И ты тута. А ну, геть по местам… – он начал распихивать солдат, щедро раздавая зуботычины. – Базар развели!
Федор, медленно повернувшись, сделал шаг к блиндажу и тут же почувствовал, как фельдфебель и его зло ткнул кулаком в спину. Едва удержавшись на ногах, Греков быстро обернулся. Солдаты притихли – Грекова уважали, и никто из офицеров или унтеров его не трогал.
– Иди-иди, – злорадно ощерился Поросенок, – нечего на меня буркалы-то выкатывать!
Он хотел отпихнуть Федора в грязь и пройти дальше по траншее, но тот ловко увернулся, и Карманов, поскользнувшись, упал на колено. Тяжело поднявшись и багровея, придвинулся к Грекову. Тот отпрянул.
– А ну!
Кулак фельдфебеля прошел совсем рядом с лицом. Горячая, душная волна гнева поднялась в груди. Уже не думая, Федор в ответ ударил. Раз, другой, третий.
Голова Карманова неестественно дернулась, и он тяжело осел в грязь, захлебываясь кровью. Кто-то услужливо подхватил его под мышки, помогая встать, но ноги, видимо, отказывались как следует служить Поросенку, и он, провиснув на плечах солдат, едва поплелся к блиндажу, поминутно сплевывая густую кровавую слюну.
– Эх, парень… – осуждающе покачал головой бородатый. – Час терпеть, а век жить! Как пить дать, теперича засудят… А полевой суд, он одно приговаривает: аминь! – Бородач ткнул грязным пальцем в низкое серое небо. – Добро бы он, – солдат кивнул в сторону немецких окопов, – а то свои пулю отольют. И че тя потянуло?
– Подожди, – усмехнулся Греков, – рано отпеваешь. Впереди еще многое, и ты почувствуешь себя не скотом в шинели, а человеком. Поймешь, что за тобой сила и правда!
– Могёт быть… – легко согласился бородатый, – сила-то, она солому ломит. Вона, за тобой архангелы идуть.
По траншее, часто осклизаясь и держась рукой за стенки, быстро шел поручик Лисин с красным и злым лицом. За ним два солдата с винтовками. Тускло мерцали примкнутые штыки.
Федор покорно отдал оружие, снял пояс с тяжелым подсумком. Его отвели в тыл и заперли в старой бане, пахнущей пылью и пересохшим березовым листом.
Ночью, разобрав ветхую крышу, Федор неслышно выбрался наружу. Спрыгнул на сырую землю. Мокрая высокая трава заглушила звук падения. Сначала крадучись, потом все быстрее и быстрее он пошел, побежал к недалекому лесу.
Оглянулся – сквозь туманную морось диковинными светляками перемигивались цигарки карауливших баню часовых.
Вскоре по лицу хлестнули мокрые ветви, под ногами запружинил мох, пахнуло грибной прелью и недалеким стоялым болотом. Почему-то вспомнился вновь Роман, которого немцы убили на фронте еще осенью четырнадцатого года…
* * *
Погода была самой подходящей – земля подмерзла, шаги слышно чуть не за версту, а снег еще не лег. Так, крутит ветер колкую белую крупу, несет ее по мостовым и тротуарам, не давая нигде задержаться, и сносит к темной, безразлично-холодной, подернутой рябью воде Невы.
Когда снег лежит – плохо: видно человека издалека, а при такой круговерти – самое милое дело. Прилепился к стене и ширкай потихоньку пилкой, не забывая время от времени подливать на распил масла из бутылочки, согреваемой за пазухой. Не будешь подливать масла – пойдет визжать полотно ножовки, привлекая внимание прохожих, а то и городовой услышит.
Антоний – по паспорту московский мещанин Николай Петров Назаров – перехватил поудобнее пилку и снова начал методично водить взад-вперед, глубже и глубже врезаясь в толстый металлический прут оконной решетки. Верх он уже перепилил, оставив самую малость, чтобы прут не ходил ходуном под полотном ножовки, зажимая его, когда он будет пилить снизу. На секунду Антоний остановился, прислушиваясь, сторожко поводя головой в разные стороны.
Тихо. Только подвывает ветер, да в нише одного из подъездов, на другой стороне проспекта, темнеет одетая в длинное пальто коренастая фигура Пашки Васильева, хорошо известного среди петроградских «деловых» под кличкой Заика.
Антоний усмехнулся: Пашка никогда в жизни не заикался. Почему его так прозвали – загадка. Заика всегда ходил вместе с ним на «дело», караулил, если надо – отвлекал внимание на себя, давая Антонию время скрыться, помогал уносить ворованное и вообще…
А как иначе – они же как-никак родня, пусть и очень дальняя, но все же. И «дело» у них семейное, наследственное – от деда к отцу, от отца к сыну. Вот ярославские, к примеру, всегда давали в Москву половых в трактиры, целыми деревнями этим делом занимались. Из разных волостей Владимирской губернии шли на Москву искусные плотники, что хочешь срубят – сделают топором да долотом: хочешь, дом поставят, хочешь, мебель сработают. Калужские мужики издавна славились как булочники. Поговаривали, что и сам Филиппов из Калужской губернии родом пошел. А из Зарайска – маленького городишка Рязанской губернии – попадали на Москву в банщики. Давними конкурентами им были Каширский и Веневский уезды Тульской губернии: оттуда тоже знатные парильщики выходили. Всякий уезд да деревня свой промысел имели.
Какой же промысел было иметь Кольке Назарову, кроме воровского, когда родитель его уважаемым человеком был среди «деловых» людей, собиравшихся в трактире дома Румянцева на Хитровом рынке в Москве? С детства Колька знал, что церковь «подломить» – беспроигрышное дело: всегда разживешься деньгами или золотишком. Если нет золотишка, так и серебро пойдет, тоже цену свою имеет, да и камушки, и жемчуг…
И в иконках уметь разбираться надо. Очень дорогие есть, а после того как царь указ дал о запрещении вывоза икон за границу, цена на них вверх пошла. Если, конечным делом, икона того стоила.
Антоний снова взялся за пилку. Пальцы в тонких нитяных перчатках уже начинало крючить от холода стылого металла, даже работа не грела. Надо скорее кончать – он приналег, горка опилок, мелких, серых, обильно смоченных маслом, начала увеличиваться.
Да, а знакомец-то молодец! На хорошее дело вывел. И при оговоре доли не жадничал. Рысака дал – зверь! Пролетку Антоний подобрал сам и на козлы своего человека посадил – ждут за углом, в двух кварталах отсюда.
Разговор у них со знакомцем-то получился интересный, ну да Назаров и чужие тайны хранить умеет, тем более время военное.
Полотно ножовки – «волос ангела» – проскочило сквозь распиленный прут. Антоний убрал инструмент, тыльной стороной ладони в перчатке вытер выступившую на лбу испарину – нервы. Ухватившись поудобнее, потянул прут решетки на себя, сначала несильно, потом на излом, со всей злостью. Тонко хрустнул металл, и прут остался в руках.
Теперь стекла. Махнул Пашке – тот быстро подбежал, принял из его рук прут, положил на землю, подал пластырь. Антоний легко расправил его на стекле, нажал. Почувствовав, что оно лопнуло, осторожно свернул пластырь, боясь зазвенеть осколками. Тихо опустил сверток рядом с прутом.
– Давай ты второе… Мне еще внутри работать.
Заика сноровисто занял место подельника и через несколько секунд подал осколки второго стекла. Оглянулся, словно спрашивая: «Кто первый?»
– Здесь останешься… – сиплым шепотом приказал Антоний. – Позову.
Павел, сунув ему в руки свернутый большой мешок, моментально исчез. Опоясавшись пустым мешком, Антоний протиснулся через отверстие в решетке и, напрягая зрение, вгляделся в темноту храма. Не заметив ничего подозрительного, осторожно опустил внутрь одну ногу, сев верхом на подоконник.
Извозчик вывернулся из-за угла совершенно неожиданно. Седок, в фуражке и шинели с пушистым воротником, приподнялся в коляске, вглядываясь в темную человеческую фигуру, видневшуюся в проеме окна церкви. Потом ткнул кучера в спину. Копыта дробно застучали по мерзлой мостовой.
Заика летучей мышью метнулся из своего укрытия на проезжую часть проспекта, нелепо размахивая руками. И тут же где-то неподалеку залился тревожной трелью полицейский свисток. Ему ответил другой, третий…
Антоний, лихорадочно срывая с пояса ненужный теперь мешок, начал протискиваться обратно. Черт, зацепился за что-то. Надо было два прута выпилить, узко!
Пашка уже рядом, круглые глаза полны страха, мокрогубый рот полуоткрыт, словно силится крикнуть, а не может, только свистяще шипит, сбиваясь и комкая слова:
– Д-давай… С-скорее… д-давай…
«Вот почему Заика», – отстраненно подумал Антоний.
Наконец он протиснулся, спрыгнул на землю. Отпихнул суетящегося Пашку.
– Сгинем вместе! В разные стороны давай… Потом найду!
Кинулся было за угол, а навстречу, запутавшись в ножнах шашки и раздувая щеки от одышки, грузный городовой в башлыке. Назад! К рысаку-зверю теперь хода нет!
Краем глаза успел заметить, как у дальнего фонаря мелькнуло в круге желтого света модное длинное Пашкино пальто с барашковым воротником. Мелькнуло и пропало.
В проулок? Откуда ни возьмись вывернулся дворник в белом фартуке с медной бляхой. Раскинул длинные руки, силясь поймать.
Антоний, не останавливаясь, сильно двинул кулаком в бородатое лицо. Оттолкнул жадно цеплявшиеся руки, запнулся, почувствовал, что дворник успел вцепиться мертвой мужицкой хваткой, как, наверное, когда-то его предки вцеплялись в конокрадов, сводивших со двора коняг-работников. Сзади навалились еще, тяжело сдавив сразу всего, повалили. Наверное, тот городовой. И трели свистков отовсюду.
Поймали за руки, заломили их за спину и начали вязать.
– Ишь воно как, – утирая шапкой кровь из разбитого носа, сказал дворник, – совсем стыда в людях не стало.
– Подымай! – простуженным голосом скомандовал городовой. – В участок его…
* * *
Из сводок департамента полиции за 1916 год:
«В Петрограде задержан мошенник, именовавший себя князем Н.Д. Маврокордате или князем Ю.Н. Волконским, ранее гастролировавший в городах Владивостоке и Ростове-на-Дону. В Петрограде жил в гостинице „Европа“ по Гороховой улице в доме 59. Совершал кражи у женщин, с которыми знакомился. Выбирал для знакомств кассирш магазинов, носивших выручку хозяевам на квартиры…
В Петрограде арестован мещанин Костромин, изобличенный в торговле кокаином. Продавал последний проституткам в кафе по цене от пяти до десяти рублей за порошок…
В Одессе задержан разыскиваемый и лишенный прав Григорий Тертичный по кличке Черт – вор и грабитель, бежавший из тюрьмы, находившийся в арестантских ротах в городе Николаеве. Он же бежал из-под стражи в городе Ростове-на-Дону, убив двух городовых. Был замечен чинами сыскной полиции в Одессе на третьем христианском кладбище. Городовой Жуков, попытавшийся задержать его, успеха не достиг – Черт бросил ему в лицо фуражку и скрылся. Вновь был замечен на Мельничной улице. При задержании отбивался, ложился на землю, прокусил палец городовому…
В Москве чинами сыскной полиции обнаружена фабрика фальшивых марок в доме на Тихвинской улице…
В Москве 29 февраля убит шофер частной таксомоторной фирмы „Амор“. (Контора фирмы в Сытинском переулке.) Таксомотор с телом убитого был обнаружен у Ходынского поля, недалеко от Ваганьковского кладбища. Убитый водитель таксомотора – Турецкий Иван Петрович, сорока лет, из крестьян. Полиция пошла по следу автомобиля, хорошо отпечатавшегося на снегу проезжей части, и остановилась там, где счетчик таксомотора показал ту же сумму, что и на машине погибшего. Поиски привели к преступнику-рецидивисту…»
* * *
Из донесений отдельного корпуса жандармов за 1916 год:
«…Выступавший в феврале 1915 года на конференции социалистов стран Антанты русский социал-демократ Литвинов требовал выхода социалистов Вандервельде, Самба и Гэда из правительств Бельгии и Франции, настаивая на полном разрыве социалистов этих стран со своими правительствами и отказе от сотрудничества с ними. Он же потребовал от всех социалистов решительной борьбы против своих законных правительств и призывал осудить голосование депутатов-социалистов за военные кредиты. Выступление поддержки не имело.
Продолжая свою деятельность, социалисты собрали в сентябре 1915 года конференцию в Циммервальде. Левая группа этой конференции, принявшая известную резолюцию, выпустила на немецком языке несколько номеров журнала „Предвестник“, в коих публиковались статьи известного Н. Ленина, он же В.И. Ульянов, направленные против существующего в России порядка. В этом году социалистами планируется созыв новой конференции, местом для проведения которой избрано Швейцарское местечко Кинтале…
Из достоверных источников известно, что находящийся под особым негласным надзором член Академии наук Ковалевский[2]2
Академик М.М. Ковалевский скончался в 1916 году.
[Закрыть] присутствовал на обеде, где были в числе приглашенных французский и английский посланники и глава либеральной партии Милюков. Присутствовал также министр иностранных дел С.Д. Сазонов.
Милюков высказывал мысли о том, что опозорены Церковь и авторитет царя, государь – обманутый муж, а Церковь – место пьяных оргий. На что Ковалевский ответил, что все это кончится революцией.
– Пугачевщиной! – поправил присутствовавший Маклаков…
Для справки его высокопревосходительству Начальнику штаба отдельного жандармского корпуса:
Ковалевский Максим Максимович, 1851 года рождения, социолог, общественный деятель, профессор Московского университета. В 1887 году был выслан из России, вернулся в 1905 году. Основатель Вольной русской школы в Париже, основатель партии демократических реформ, редактор газеты „Страна“. В 1907 году являлся членом Государственного совета. В 1909 году – один из редакторов журнала „Вестник Европы“. С 1914 года член Академии наук…»
Из канцелярии начальника Петроградского охранного отделения:
«В Кронштадте большевиками создан „Главный коллектив кронштадтской организации“, имеющий тесные связи с Петроградским подпольным комитетом большевиков. В Кронштадтском коллективе дело поставлено очень серьезно, конспиративно, и участники – все молчаливые и осторожные люди. Коллектив этот имеет представителей и на берегу…»
Из ставки сообщали:
«Северный, Западный, Юго-Западный и Румынский фронты – перестрелка и действия разведывательных партий.
Кавказский фронт – ничего существенного.
Балтийское море – без перемен…»
В начале 1916 года Поэта перевели в так называемую Судную часть школы. Он пишет много, самозабвенно, выступая как пророк грядущей Революции.
«Ставлю вопрос о теме. О революционной. Думаю над „Облаком в штанах“… Выкрепло сознание близкой революции… В голове разворачивается „Война и мир“, в сердце – „Человек“.
И вскоре товарищи Поэта по службе в Петроградской военно-автомобильной школе слушают в обеденный перерыв строки начатого „Облака в штанах“:
В терновом венце революции
Грядет шестнадцатый год…
Штабс-капитан Андрей Воронцов, лежа на жесткой, казавшейся очень узкой и неудобной койке военного госпиталя, наслаждался звуками, наконец-то вернувшимися к нему после полной глухоты контузии. Жадно ловил, впитывая всем своим существом, многоликие шумы человеческого военного несчастья – даже надрывно плачущий, с хриплыми сипами в груди кашель соседа по палате подполковника Горюнова казался райской музыкой.
Еще бы, почти два месяца жгучих болей в ноге, плече, груди; беззвучного шевеления губ врачей, ласково-сострадательных глаз сестер, тоже что-то говоривших, и не понять, что именно; душно-багрового забытья от хлороформа при операциях, и вдруг… И вдруг, в одно прекрасное – да, именно прекрасное, несмотря ни на что, ни на погоду, ни на постоянную боль в ноге, – утро обнаружить: наконец опять слышишь!
Воистину человек не ценит того, что он имеет. Неужели надо было пройти через грязь окопов, кислый запах взрывчатки, исковерканные тела, боль, страдания, чтобы понять, как же прекрасно просто так, как сейчас, лежать на жесткой койке военного госпиталя и ощущать, что ты жив, черт возьми, жив! И слышишь, и видишь, и можешь пошевелить руками и даже раненой ногой, пусть даже замирая и стискивая зубы от раздирающей тело боли.
Вот кто-то, невидимый ему, прошаркал в коридоре стоптанными больничными туфлями. Звякнули склянки: наверное, сестра готовится раздать лекарства или сделать перевязку.
Воронцов улыбнулся. Он уже давно знал всех сестер в лицо, но только теперь сможет называть их по имени. Как же это оказалось интересно – знакомиться с миром заново!
Он слышал уже два дня и не мог перестать удивляться. Ходил – правда, пока только на костылях или с палкой и костылем – неделю. Он уже понял, что отвоевался. Хорошо, нога осталась – могли и отрезать, а хромой не безногий. Жив, главное – жив! И снова слышит!
Бой, в котором его искалечило, Воронцов помнил смутно. Лучше запомнился день накануне: пили в блиндаже с поручиком Лисиным и еще с кем-то из офицеров – имя совершенно выпало из памяти после контузии. Лениво играли в карты, томила смертная тоска. Лисин все сетовал, подливая себе вина, что осенью сбежал выявленный в их роте большевистский агитатор, избивший фельдфебеля Карманова. Фельдфебеля Воронцов не любил – туп, самодоволен, по-дурацки услужлив, а все равно чувствуется, что себе на уме, этакая степняцкая хитрость. Кажется, он то ли из Тамбова родом, то ли из-под Пензы?
Утром рота повела разведку боем. Артиллерия недолго постреляла по немецким позициям, повалила кое-где державшуюся на кольях колючую проволоку, забросав нетронутый снег нейтральной полосы темными комьями вывороченной взрывами мерзлой земли. Немцы не отвечали, видно, зарылись в своих блиндажах или отошли по ходам сообщения во вторую линию траншей. Вылезая на бруствер, Воронцов еще, помнится, подивился странной, непривычной на фронте тишине.
Пошли. Солдаты, с подоткнутыми за ремни полами шинелей, пригибались, как под пулями, стайками жались к воронкам. Лисин носился, размахивая наганом, пытаясь выровнять цепь. Его убило первым.
Немцы неожиданно открыли сильный артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь, плотный, прицельный. Солдаты быстро скатывались в воронки, ужами ползли обратно, к своим траншеям. Воронцова словно стегнуло по ноге, потом подняло и закружило, тяжело грохнув в темноту. В сознание он пришел уже в санитарном поезде. Чувствовал – едет. Куда? Ничего не слышал. Болели плечо, грудь, нога.
В поезде ему почему-то часто вспоминался кадетский корпус, утренние молитвы: отлынивал тогда, да и в юнкерском тоже – вставал в задние ряды, раскрывая рот, когда все пели. Теперь потеря слуха казалась ужаснее всего. Сейчас бы он дал незнамо что за то, чтобы снова, как тогда, слышать голоса, музыку, женский смех. Пробовал утешать себя тем, что видит, но это не помогало.
Кому он будет нужен – одинокий глухой калека? Родня все больше дальняя, у них свои дела, и тут еще он – с жалкой улыбкой всматривающийся в губы разговаривающего с ним человека. О ноге старался не думать вообще, гнал эти мысли от себя прочь.
И вот теперь – весна, тепло, деревья старого госпитального парка, спускающегося к Яузе, словно подернулись легкой нежно-зеленой дымкой. Скоро Пасха. Для него уже не будет ни окопов, ни атак, ни воя немецких снарядов над головой… Хорошо! А как жить, станет видно: главное теперь – жить.
Осторожно приоткрыв дверь палаты, заглянула сестра, в туго накрахмаленной косынке с вышитым красным шелком маленьким крестиком. Как раз надо лбом. Он уже знал, что ее зовут Клавдией, что у нее легкие, почти неслышные шаги и очень приятный, какой-то необычайно мелодичный голос. Или так кажется?
– Штабс-капитан, к вам пришли. Можете пройти к выходу в парк?
Пришли? К нему? Кто мог разыскать его здесь, в Москве, в госпитале?
– Кто пришел, сестрица?
– Какой-то молодой человек. Пойдете сами или помочь? Может быть, привести сюда? – она вопросительно смотрела на него, ожидая ответа.
– Сам, сам… – заторопился он. Сел, нашаривая костыли, досадливо отставил один, взял палку. – Нет-нет, я сам…
У лестницы в парк прохаживался, нервно теребя в руках мягкую шляпу, длинноволосый худощавый молодой человек в строгом темном костюме. Кузен?
– Толя?! Черников Толя!
Заторопился навстречу троюродному брату, громко стуча по кафелю пола костылем. Заметив, как болезненно-жалостливо дернулось тонкое лицо кузена при взгляде на его костыли, пошел тише. А Толя уже спешил навстречу. Обнялись.
– Андрюша, тебе бы присесть… Пойдем, тут рядом лавочка. Тебе не тяжело?
– Как ты меня нашел? Я же всех вас давно потерял из виду.
– Случайно, я ведь теперь живу и работаю в Москве. Пишу. Печатаюсь, правда, нечасто… – Толя помог Воронцову сесть, опустился рядом на садовую скамью, положил шляпу. – Знакомые газетчики помогли… А ты как? Врачи говорят, что теперь уже молодцом.
– Да… – горько усмехнулся Воронцов. – С этой штукой мне на всю жизнь не расстаться, – он постукал палкой по земле. – Отвоевал я, Толя.
Помолчали. Воронцов боялся слов соболезнования, фальшивых ободрений, неискренних предложений помощи – он знал, что семья Черниковых небогата, почти бедна. Скосив глаза, увидел замахрившиеся, застиранные манжеты Толиной сорочки с мягким отложным воротником, напряженно сцепленные тонкие пальцы, подрагивающую синюю жилку на тыльной стороне ладони. Ему тоже нелегко, наверное. Они никогда не были особенно близки, ни в детстве, ни в юности, но вот разыскал, пришел навестить. Слава богу, кузен вроде и не собирается ничего такого говорить. Просто узнал, что Воронцов здесь, и зашел. И все.
– Меня еще не скоро выпишут, – чтобы нарушить неловкое молчание, сказал Воронцов. – Ты заходи еще. Я буду рад тебя видеть.
– Приеду – зайду. Может быть, переберешься после госпиталя к нам?
– Ты уезжаешь? Куда, если не секрет? – словно не слыша его предложения, спросил Андрей.
– В Петроград, по издательским делам. Поеду, как важный сановник, в первом классе. Правда, за счет издательства, – он улыбнулся.
– Надолго?
– Думаю, нет. А впрочем, не знаю. Как пойдут дела. Так что же ты решил?
– Ты о чем?
– О переезде к нам… – Толя покраснел.
„Все такой же, – с неожиданной нежностью подумал о нем Воронцов. – За всех болеет и первым стыдится за других. Наверное, каждый из нас что-то очень важное для себя теряет, не имея в юности такого товарища. А я вот мог иметь и… не имел, но сейчас уже поздно! Слишком многое между нами. Хотя бы фронт. Не надо, чтобы он мучился из-за меня, не надо…“
– Мне стоит учиться жить самому. Заново, – медленно сказал он. – А ты, как вернешься, заходи, мы поговорим. Ну, извини, мне пора на перевязку. Рад был тебя увидеть. Слово чести, рад!
Уже поднявшись по ступеням, ведущим из парка в госпитальные коридоры, Воронцов оглянулся.
Толя Черников стоял в низу лестницы, глядя ему вслед, все так же нервно теребя в руках свою мягкую широкополую шляпу.
Воронцов стиснул зубы и застучал костылем по разноцветным плиткам пола…
* * *
Россия изготовилась сдвинуться с места. Где-то на запасных путях уже стояли длинной чередой теплушки – холодные, дощатые, щелястые; где-то уже готовились новые колесные пары, ремонтировались разбитые паровозы, латались старые вагоны – словно в предчувствии будущих перемен, когда люди, поднятые с насиженных мест, неудержимой лавиной хлынут на железные дороги, с ревом и плачем беря поезда, облепляя их массой копошащихся, увешанных мешками тел, пристраиваясь даже на крышах в одном желании – ехать!
А вдоль и поперек железных дорог, намертво перекрыв их, пройдут фронты, поскачут конные, размахивая острыми клинками и стреляя друг в друга. Одни – желая вернуть все старое, отжившее свой век на этой многострадальной Русской земле, другие – с верой в светлое будущее, в справедливость, в мировую Революцию, несущую освобождение трудящимся всей земли…
Но пока, как чахоточный румянец на щеках обреченного на смерть самодержавия, сияли желтым лаком и зеркальными стеклами вагоны первого класса, следом за ними стояли темно-синие второго и совсем простые, зелененькие – третьего. Начищенные поручни, отутюженная форма услужливых проводников; радужно, двуцветно блестят в свете фонарей „миксты“ – желто-зеленые вагоны смешанной классности…
Алексей Фадеевич Невроцкий пришел на вокзал за десять минут до отправления. Предъявив пожилому проводнику билет, прошел в купе, отказавшись от предложения поднести вещи. Да и что подносить, если вещей-то – один небольшой саквояж темно-коричневой кожи, похожий на докторский.
Соседом по купе оказался худощавый молодой человек, на вид скромный, из хорошей семьи.
Невроцкий поставил саквояж, положил на полку шляпу, сел:









































