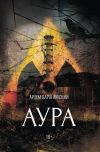Текст книги "Зона отчуждения"

Автор книги: Вера Орловская
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
14.
Он оставил свою машину недалеко от метро, понимая, что еще одна такая пробка, и на лекцию опоздает неизбежно. Ничего не оставалось как использовать спасительный вариант, который не раз выручал его. Несколько лет назад трудно было представить себе, что машина из средства передвижения превратится в средство стояния. А прошлым летом это чуть не сорвало его поездку на отдых. Поезд № 7, идущий в Крым, отправлялся из Петербурга в 20.00 Такси заказали так, чтобы в запасе было 2 часа, рассчитывая, что за 30–40 минут до вокзала доехать можно и плюс еще остается часа полтора в запасе на непредвиденные издержки вроде пробок. Но расчет оказался неверным. Шел дождь – не привычный питерский – моросейка, как называл он, а настоящий ливень – больше похожий на тот, что бывает на юге в его городке, где он вырос: о, это сумасшествие природы! За час воды становится столько, что на тротуарах и на дороге образуется воды по щиколотку и выше, приходится подворачивать брюки и шагать босиком, таща в руках туфли. Летом это делать проще да и теплее. Такое обилие воды случалось еще при сильном шторме, когда ветер дул с моря, не спасала даже дамба, и в особых случаях вода разливалась по набережной – дальше текла в центр города и несколько кварталов вперед, потом ее поток мельчал. Но подобный дождь в Питере да еще в день отъезда внес необратимые изменения в стандартную схему: дом – такси – вокзал – поезд. На Лиговке стали плотно. Похоже, что погода заставила сесть в машины весь город, судя по тому, что он видел по карте в мобильнике: главная дорога и все остальные состояли из одних машин. Беспросветно. Он тщетно пытался разглядеть где-нибудь свободный путь, просвет, куда можно было бы свернуть как только двинется поток, но везде было одно и тоже: машины, машины, машины. Время показывало 19.30. В обрез. Вокзал маячил в обозримом будущем, но это будущее могло безвозвратно потеряться в разноцветном потоке, застывшем, как лед на Неве. Он никуда не течет, и ничего не предвещало, что в ближайшие часа два что-то изменится. Он с Наташей и детьми выскочили из такси, бросив на сидение 500 рублей, и помчались к вокзалу под проливным дождем. С вещами быстро идти не получалось, время поджимало и даже смотреть на часы он не успевал. Достигнув вокзала, нужно было еще добежать до своего вагона, находившегося практически в конце состава. И когда, наконец, цель была достигнута, вещи брошены в тамбур и сами они заскочили туда же, он почувствовал как под ногами дернулся пол и поезд двинулся. Наталья полезла в сумочку за валидолом и, сказала, сдерживая рыдания:
– Не надо нам было ехать, нас туда как будто что-то не пускало. Говорила я тебе: тревожно как-то, не надо ехать…
– Ну, успокойся, все хорошо, успели. Можно расслабиться, – повторял Николай.
Он не был настолько подвержен предчувствиям и приступам интуиции, как она, и мистическим поискам неких знаков. Но, как ни странно, в нем почему-то промелькнула мысль: «Теперь не скоро». Николай даже не понял, почему «не скоро», и решил, что это она «заразила» его своей истеричной чувствительностью. Но та же фраза посетила его еще раз, когда они вышли в Мелитополе, где их встречали родственники. Было задумано переночевать у них, а утром двинуться дальше – к своему морю, а не к тому, куда, постояв минут 10, отправился их поезд.
Дядя Николая был очень похож на его отца, и чем больше старел, тем сильнее становилось это сходство: в походке, в какой-то задумчивой отрешенности. Издалека, увидев его, Николай на минуту даже замер от узнавания чего-то совсем родного. Виделись они не часто, потому что в основном Николай ездил прямым поездом из Москвы, что было тоже не слишком удобно: прыгать с вокзала Ленинградского на Курский, и еще торчать там до отхода своего поезда. Приняли их, как всегда, хорошо, но было неловко, что уже час ночи, а тетя суетится с угощением, чувствовалось как ей тяжело ходить: она давно жаловалась на ноги. За столом начались вопросы, но никаких разговоров о политике, так – вскользь брошенное дядькой «брехуны все, только обещают, обещают». Кто же мог знать тогда, что не пройдет и года, как всё так изменится в стране, в этом городке, утопающем в садах. Он давно знал и этот кирпичный дом с крыльцом, и двор с голубыми металлическими воротами, двор, собаку, рвущуюся с цепи не от злобы, а от радости, повиливая хвостом и желая быть причастной ко всему, призывая, чтобы к ней подошли. Николай потрепал ее по холке: «Привет, приятель». На ветках уже спели абрикосы. И тогда, глядя на это всё, и на постаревшее, изрезанное морщинами лицо тети, он снова подумал: «Теперь не скоро». Когда всё случилось на Украине, он не звонил им – боялся, и не хотел потерять то чувство тепла и родства, которое запомнил. А вдруг теперь, поверив всему, что им говорят о нас, он – чужой для них? Услышать голос и понять, что все по-другому – не хотел.
– Следующая станция… Моя, – подумал Николай, сбрасывая свои воспоминания, потому что теперь нужно было думать о том, что он будет сейчас говорить своим студентам о Богдане Хмельницком, потом о Полтавской битве. Войти вот так в класс и сказать, – предположил он:
– Ну что вам поведать, если коротко, о геройствах и об изменах этого противоречивого человека? Он вернулся от турецкого султана назад к польскому королю. Затем заключил снова союз с турками и крымчаками, тем самым предав своего короля. Позже опять вошел в мир с поляками. Затем была попытка перехода в московское царство, но царь не торопился. И тогда Хмельницкий пошел к турецкому султану. После чего последовал его принудительный возврат в Польшу. И вскоре – измена польскому королю и переход «под руку московского царя». Но за этим еще случилась измена и ему, дальше – возвращение в Польшу, а потом снова к московскому царю. Это сложно вместить в голове, – думал Николай, – а как же он смог вместить всё в свою жизнь… И чего же на самом деле хотел Богдан Хмельницкий? Из переписки с королем вырисовывалась такая картина, что гетман не претендовал на территории Дикого поля, которые контролировались ногайцами и крымским ханом, с которым он на тот момент был в дружбе. Скорее всего Богдан ратовал не за территории, а за людей той религии, которую исповедовал и он, тогда как большинство шляхтичей были преданы католической, а не православной вере. Видимо, Богдан и сам плохо представлял себе границы создаваемого им государства. Это сейчас «патриоты» считают, что вся земля принадлежала украинцам, а в то время о таких не слышали. Протоукраинская Трипольская цивилизация, как это не обидно слышать националистам, располагалась в древности преимущественно на территории Румынии и Молдавии, прискорбно сознавать, как и то, что границы нынешнего крупнейшего государства Европы были сформированы «первейшими врагами», как говорит пламенная фашистка Фарион, – «москалями», а именно – Екатериной II, и земли эти отвоевывали русские воины, и погибали тоже русские, а дальше «красная империя» – Ленин и Сталин поработали над контурами границ. Сама же территория Украины исторически состояла из восьми областей нынешней Центральной Украины (это для справки тем, кто забыл, ничего личного – только факты, только история).
Европейская политкорректность, будь она не ладна, не давалась Николаю: рожей не вышел: от ногайских ордынцев, греков, осевших еще со времен античных, рыбаков азовских, старшин Запорожских, рабочих русских, военных государевых – смешанная горячая кровь его. А врать не приучен с детства, потому как был за это бит нещадно. Об этом он не станет рассказывать своим студентам. Но вечером, вернувшись домой, он включит первым делом телевизор и услышит, что еще одного украинца убили бандеровцы на этот раз в Мариуполе, и что войска шли со стороны Бердянска, из чего можно было понять, что Днепропетровская и Запорожская области уже под этими тварями. Что ж это у них там творится? Днепропетровск Нахтигаль, Донецк Нахтигаль – «Днепр», «Азов» – подразделения привет из прошлого?
В 1944-м году Гитлер выводит Бандеру из резерва и включает в состав Украинского национального комитета, задачей которого была организация борьбы с наступающей Красной Армией, (документ: показания Мюллера 19 сентября 1945 года): «В начале апреля 1945 года Бандера имел указание от Главного управления имперской безопасности собрать всех украинских националистов в районе Берлина и оборонять город от наступающих частей Красной Армии. Бандера создал отряды украинских националистов, которые действовали в составе Фольксштурма, а сам бежал. Он покинул дачу отдела 4-Д и бежал в город Веймер. Бурлай мне рассказывал, что Бандера договорился с Даниловым о совместном переходе на сторону американцев». А вот история о том же, но от второй стороны – бандеровской (версия Игоря Набытовича): «Почувствовав на своей шкуре силу УПА, немцы начали искать в ОУН-УПА союзника против Москвы. В декабре 1944 года Бандера и еще несколько членов ОУН-революционной были освобождены. Им предложили переговоры о возможном сотрудничестве. Первым же условием переговоров Бандера выдвинул признание Акта возобновления Украинской Государственности и создание украинской армии как отдельных, независимых от немецких вооруженных сил самостоятельной державы. Гитлеровцы не согласились признать независимость Украины и стремились создать пронемецкое марионеточное правительство и украинские военные формирования в составе немецкой армии. Бандера решительно отбросил эти предложения». Так оно красивши, конечно, и Бандера – герой получается, только по странной случайности или забывчивости немецкой, его не расстреляли за этот отказ. Бред. А вот про марионеточное правительство – это в точку, и вполне актуально сейчас, – размышлял Николай, – борьба с немцами – дело хорошее, если бы это было на самом деле так, но, увы… Были, правда, случаи, когда хозяева наказывали своих помощников, исключительно в дисциплинарном порядке. Кому понравится 3 тысячи трупов волынских крестьян поляков, с которыми в 1943-м году был у немцев договор на поставку продуктов? Сорвали хлопцi запланированную поставку для германской армии. И еще, у бандеровцев была скверная привычка, по мнению организованных и чистоплотных немцев, эта привычка – забивать трупами колодцы с питьевой водой. Входит группа СС, а воды напиться негде – не «корошо» есть. А так, ничего: служили исправно. Вот и Роман Шухевич, хоть и был одним из министров разогнанного немцами бандеровского правительства, однако, продолжал служить верой и правдой им в батальоне «Нахтигаль», а потом стал одним из командиров карательного батальона СС (повышение получил). До декабря 1942 года успел заработать два креста и звание капитана СС за успешное подавление партизанского движения на территории Белоруссии. Карьерный рост налицо.
А вот и показания Германа Гребе, зачитанные (заметьте, не «москалями красными») американским обвинителем Стари:
«Ночью 13 июля 1942 года все жители гетто в г. Ровно… были ликвидированы… Вскоре после 22.00 гетто было окружено большим отрядом СС и примерно втрое большим отрядом украинской полиции… Группы эсэсовцев и полиции врывались в дома, живущие там люди выгонялись на улицу в том виде, в котором они были застигнуты. Людей выгоняли из домов с такой поспешностью, что в некоторых случаях маленькие дети были оставлены в кроватях. Всю ночь гонимые, избитые и израненные люди двигались по освещенным улицам. Женщины несли своих мертвых детей на руках. Некоторые дети тащили… за руки и ноги своих мертвых родителей. Вскоре украинская полиция ворвалась в дом 5 по Бангофштрассе, вытащила оттуда 7 евреев и потащила их на сборный пункт в гетто»
Нюрнбергский процесс. Сборник документов. Т.2. С.5002
Вот этим батькам слава? Этим героям слава? Обыкновенный фашизм без всякого политеса и романтичности, без всякой европейской «стыдливости» называть вещи своими именами. Это уже было на Украине, и опять случилось. Николаю так захотелось, чтобы кто-нибудь услышал его – из тех девочек, мальчиков, думающих, что это какая-то компьютерная игра, какое-то переодевание в одежду со свастикой, стрелялки, шумелки – драйв, как сказала одна украинка из западных областей, что сын поехал на майдан заробить грошей – 200 гривень, и «нехай, хоче драйв получить». А в Одессе людей заживо сожгли в Доме Профсоюзов, тех же кто пытался бросаться из окон и как-то выбираться из пламени – просто отстреливали, и «лихой» сотник даже не скрывая своего лица и пистолета, делал это с особой радостью. Зондер-команда СС. Потом утром нынешняя хунта будет искать «русский след» (по-другому и представить сложно). Скажут, что сепаратисты сами себя сожгли, а правый сектор назовет то, что случилось в Одессе «светлой страницей в истории Украины», и этим с потрохами сдаст себя. Чей они след там ищут, если эта «Хатынь»? – спрашивал Николай, глядя на кадры видеозаписи и слыша крики людей: «фашисты».
В Советские времена во имя дружбы народов стеснялись говорить, кто именно жег белорусские деревни и Хатынь в том числе. Этот стиль карателей нельзя спутать – почерк, который не возможно изменить так же, как сознание нациста: «Украина понад все», а «Кто думает иначе – тот должен быть уничтожен». Действительно – «понад все» – над разумом человеческим, ведь когда в Одессе горели люди, на украинском канале шло шоу, где хлопали и радостно кричали «истинные патриоты», опьяненные, как упыри кровью, от того, что горят последние «сепаратисты». Они готовы к жертвам во имя своей больной идеи. Не зря семнадцатым вопросом в анкете для карателей, отправляемых на юго-восток стоит вопрос о том, готовы ли они стрелять в женщин? Николай бы мог понять людей, оказавшихся заложниками своих политиков, бандеровских банд, посочувствовать им всем и своим родственникам, но они не нуждались в его сочувствии – они кричали, что «это всё русские сделали», и что у них на Украине спокойно, и они всем довольны. Такой циничной и агрессивной лжи и нападок на себя, он не мог больше выносить. Но всё что мучило – было внутри него и оно рвалось наружу. Теперь он понимал, почему ему так больно – он хотел, чтобы его услышали и поняли, как они не правы, именно близкие люди, которые были живы, но которых он терял. Если им нравится нацистское государство, русофобия, этот кровавый шабаш, ему нечего было сказать этим людям. Человек в любой системе – в любых условиях может не быть сволочью. Он понимал, что это все не просто разделяло его с теми родными, которые сделали его врагом, между ними прошла та самая вырытая траншея на границе – километровая, а по сути – бесконечная. Это стало зоной отчуждения. Он жалел тех, у кого остался разум, кто не хотел фашистского режима, тех, кто за эту маленькую полосатую ленточку готов был умирать под ржанье молодых, напичканных наркотиками и нацистской идеей карателей, выставляющих на ютубе видео с обгоревшими телами: «во, дивись, а та – загорiвша яка». Как мог Николай такое выдержать? Как мог он это простить? Ладно бы, если бы его близкие осудили это, или сказали, что не хотят говорить о политике (он бы понял – боятся, он бы понял по лицам, по глазам), но они, когда звонили ему по скайпу, улыбались, были абсолютно спокойны, а дочь их одиннадцатилетняя кричала, что она не хочет жить здесь, а хочет – туда! Имелось в виду в Винницу, откуда родом ее отец, которого Николай всегда любил, а теперь девочка чуть ли не в истерике рвется туда, где всех делят на людей и существ (по словам Фарион, имевшей в виду юго-восток, где, по ее мнению «существ» нужно просто убивать»). Он не хотел, больше видеть этих лживых глаз и наигранных чувств, к тому же еще раньше ему было слишком много сказано и о его стране, и о русских…. Нет. Для себя он решил, что на Украине у него никого нет: есть только три могилы и всё, больше ничего… Там чума, паралич сознания, вызванный информационной повальной вакцинацией. Но почему же они с легкостью готовы верить в чудовищную ложь, и чем она страшнее, тем скорее в нее верят? Такое впечатление возникает, что они хотят в это верить. Именно это мучило Николая больше всего: почему хотят? За что так ненавидят, ибо по-другому он назвать это не мог, и спинным мозгом, хребтом своим чуял в них ту звериную настороженность, в любой момент готовую перерасти в истерику. В таком случае они неизбежно возненавидят его за то, что он верит в другое: в людей, в Бога, в солнце, в дружбу, в мир, в человечность, а не в стадные инстинкты тех, кто готов загрызть другого только за то, что он не принадлежит его прайду. Но это звериные, а не человеческие правила. Как может в 21-м веке на Украине, можно сказать, в Европе, так как подписано уже соглашение с Евросоюзом, как такое может быть? Николаю казалось, что он читает дневник из блокадного Ленинграда, что это оттуда – из сороковых. Но нет, это сейчас уничтожают людей Донбасса, это говорят дети, бежавшие вместе с матерями из ада:
Ксюша Яковлева…Луганск:
«Больше всего я боюсь, чтобы не убили маму и папу, а то я не смогу спасти младшего братика, которому 6 месяцев. Пусть лучше убьют меня…»
Сережа…Луганск:
«Мой папа ушел на войну. Мама и бабушка каждый день плачут и ничего мне не говорят. От этого мне становится еще страшнее… Может, папы уже нет?»
Саша Горобець…Луганская обл.
«Я знаю, как пахнет война. Она пахнет подвалом, где мы ночуем с мамой».
Саша Беспалов…Донецкая обл.
«Я очень хочу кушать. Всегда».
«Таня Махиня…Из Мариуполя:
«У нас страшнее, чем в фильмах ужасов. Похороны каждый день».
Света Абрамчук…беженка из Славянска:
«Наш дом разбомбили. Мы с мамой и бабушкой жили в погребе. Когда бомба упала во двор снова, я стала заикаться».
Ваня Лосько…Краматорск:
«Когда бубухнула бомба, я испугался и описался. И писаюсь теперь каждую ночь, когда грои гремит, а мама смотрит на меня и сильно плачет…».
Сергей Фиоктистов…Луганская обл.
«Я не боюсь быть убитым, но если убьют маму, папу или бабушку, я этого не переживу…».
Евгения Ляшенко…Донецкая обл.
«На войне начинаешь верить в Бога по-настоящему, а не понарошку. Потому что понимаешь: только Бог может тебя защитить».
Тамара Овдеенко…беженка из Славянска:
«Война, это когда вокруг тебя только зло, а добро убито и похоронено где-то далеко».
Да, очень далеко похоронено то хорошее, что когда-то меня, как и этих детей, связывало со страной, имя которой Украина, – думал Николай.
Была уже глубокая ночь, когда он загасил, не помня какую по счету, сигарету и произнес: «Всё! С меня хватит!». Николай прошел в спальню и рухнул, не раздеваясь, в постель, как убитый снайпером. Ему снился незнакомый город без людей, без голосов, без звуков. На серых стенах, покрытых черной плесенью, проступал рыжий – почти коричневый мох: он полз по ним вверх, но не к солнцу, а от него – туда, где падала холодная тень. Мрак. Морок. Обморок. Морока. Плавали вокруг слова, не имеющие плоти – бестелесные тени их не проявлялись ни в чем, кроме как в иной реальности, манившей его вперед и показывающей ему то, чего уже нет или еще нет. Николай не понимал, где он находится, пока перед ним не предстал потемневший обломок доски с надписью «Зона отчуждения». От чего? – спросил он, – отчуждение от чего или от кого? Никто не ответил. Громко захлопала крыльями птица, вылетевшая из разбитого окна полуразрушенного дома. Она была черная, как ночь, и ночь была, как черная птица. Сливаясь вместе, они заставляли пространство двигаться – трепетать – колебаться. Он чувствовал как над ним распластались крылья, потому что их движение создавало ветер, а ветер обдувал его запахом гари. Что горит? – спрашивал он. Где я видел уже такое? Надо найти дорогу и вернуться обратно, найти дорогу… Спросить не у кого. А вот еще одна надпись: «Осторожно радиация!», указатель, направленный стрелкой куда-то влево, скрипел при каждом порыве ветра. И этот скрип казался таким громким – оглушительным. Он закрыл уши руками и опустился на землю. Рядом с ним, будто ни откуда, появился человек. Он молча смотрел и улыбался.
– Это что? – спросил Николай.
– Украина. Разве не помнишь?
– Чернобыль?
– И Чернобыль, и майдан. Всё сгорело. Разве не помнишь?
Что он заладил «Не помнишь? Не помнишь?». Помню, конечно: «Черно» и «Быль» – было черно, значит, – заключил он, увязая все больше в этих словах.
– А ты почему здесь? – спросил он человека.
– А где ж мне еще быть? Кто-то же должен хранить это…
– Что хранить? Здесь же ничего нет. Черно.
– А быль? То, что было хранить, чтобы рассказать потом тому, кто придет.
– Сюда? В зону отчуждения?
– Это сейчас чужие все друг другу, но когда-то же закончится… Пожар и тот горит, горит, да и гаснет.
– Вы думаете, что здесь вырастет что-то хорошее без яда – радиации – без страха за свою жизнь и жизнь близких? Да и была ли здесь когда-нибудь жизнь?
– Было поле жизни: засеяли, да кровью полили, вот и не выросло ничего, кроме сорняка колючего, ядовитого.
– Какая ж эта жизнь? И как могло так случится, что никого нет, а ты есть?
– Я – хранитель этого города, а по-вашему: сталкер.
– Водишь сюда за деньги что ли?
– Зачем мне здесь деньги? Да и нет их – денег. Я же говорю – сгорело всё.
– Так не бывает. Где-то же дальше есть город, люди, Украина?
– Ну, иди, ищи, иди, может и найдешь. Я туда не хожу, где стреляют.
– А кто с кем воюет?
– Нелюди против людей, Всегда так было. Ненависть она – страшнее радиации. Теперь уже не склеить им разбитый глечік: раскололи запад с востоком – сдали Украину чужакам, а тем что – жалко людей разве или землю нашу пожалеют? Не своя же… Глаза застило народу нашему: врагов от друзей различить не смог. А ведь звезда Полынь не просто так упала – знак это был, знак.
– Ты, дед, как же один здесь живешь?
– Чего это я один? Вон их сколько вокруг нас стоит, слушают. Тебе не показываются, а я их вижу и разговариваю с ними.
– И что говорят они тебе?
– Раньше говорили, а теперь – ничего, только плачут. Черно было. Черно стало.
Николай пошел вперед, не оборачиваясь, словно боялся обернуться, чтобы не увидеть как падают люди – убитые, раненые, как поле вместо желтого становится красным и как плачут мертвые, о которых говорил хранитель. Он шел вперед, и думал, что вот-вот найдет дорогу, выйдет на нее и увидит большой город с золотой церковью, увидит людей, у которых лица светлые и сердца радостные. И стоит там стол большой длинный предлинный, чтобы всем место хватило за тем столом. И сидят люди за ним нарядно одетые – праздник празднуют, песни поют. А в небе – птица белая, что с черной билась и победила ночь.
Июль 2014Санкт-Петербург
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.