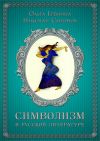Текст книги "Столетие французской литературы: кануны и рубежи"

Автор книги: Вера Шервашидзе
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
«Сияние идеи» в поэтике С. Малларме
Жизнь С. Малларме, в отличие от его предшественников – Ш. Бодлера, А. Рембо, складывалась вполне благополучно.
Понимая, что поэзия не обеспечит финансовой независимости и стабильности существования, Малларме занимается преподавательской деятельностью (английский язык и литература), издает женский журнал «По последней моде» («La dernière mode»), принимает участие в составлении учебника по мифологии («Античные божества») и учебного пособия по английскому языку. В 1880 г. он открывает у себя, на рю де Ром, ставшие впоследствии знаменитыми «вторники», на которых бывают художники – Э. Мане, Дега, Редом, Уистлер, музыканты – Дебюсси, поэты – П. Верлен, Ж. Лафорг, Рене Гиль, Вьеле-Гриффен.
В 80-е годы фигура Малларме окружена всеобщим почитанием; он считается мэтром французского символизма.
Первые произведения Малларме – стихотворения парнасского периода (1862 г.) несут в себе следы ученичества, строгого следования канонам парнасской риторики и эстетики: здесь торжество власти зрения, ощущений, пространственности:
Ты с золотых лавин лазури, жизнь хваля,
Со снега вечного светил, когда-то, в детстве,
Цветочки сорвала в день первозданный для
Земли нетронутой, еще не знавшей бедствий.
«Цветы». Пер. М. Талова
Как и парнасцы, Малларме в ранний период своего творчества противопоставляет «рукотворное» искусство природе (стихотворения «Цветы», «Обновления»). В парнасский период Маларме создает образ своего «поэтического двойника», примеряя различные маски – звонаря, паяца, мифологического фавна, – которые отличаются общим свойством – бессилием и творческим бесплодием. Так, звонарь в одноименном стихотворении не слышит колокольного звона (здесь прозрачная аллюзия на Квазимодо, глухого звонаря «Нотр Дам»). Аллюзия подчеркивает бессилие поэта воплотить божественный идеал. В стихотворении «Лебедь», пародирующем бодлеровского «Альбатроса», звучит вновь мотив бессилия поэта оторваться от «ужаса земли». Малларме пытается создать новую эстетику, провозглашая власть духовного над материальным. Трансформируя опыт своих предшественников – Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, – он опирается на неоплатоническую концепцию «аналогической структуры универсума» («Демон аналогии», пер. М. Талова). Малларме считает, что видимый мир Материи, являясь копией мира сущностей, не обладает независимой реальностью, но, тем не менее, сохраняет принцип симметрии отношений, аналогий и подобий, существующих в мире первоидей. Ему созвучна мысль Плотина: «Все формы бытия отражаются друг в друге»[25]25
Там же, С. 48.
[Закрыть].
Стремясь примирить Дух и Материю, создать облик вечной красоты, отражающей законы вселенской гармонии, С. Малларме провозглашает независимость слова от вещи, которую обозначает. Слово должно жить своей жизнью, лишь намекая на вещь:
«Лучше если ты оставишь
Точный смысл он слишком груб
Разрушительно-бездушный
Для поэзии воздушной»
(«Состояние души»)
Малларме предвосхищает концепцию «плавающего знака» (знака без семантической поддержки) Лакана. Слово освобождается от субъективного вдохновения поэта: важно устранить субъект высказывания. Р. Барт, спустя полвека, напишет: «Малларме полагает, и это совпадает с нашим современным представлением, что говорит не автор, а язык; письмо – изначально обезличенная деятельность… суть поэтики Малларме в том, чтобы устранить автора, заменив его письмом»[26]26
Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – М., 1989. – С. 425.
[Закрыть].
«Задача в том, чтобы исподволь выбрать тот или иной предмет и путем его медленного разгадывания раскрыть состояние души»[27]27
С. Малларме О литературной эволюции// Поэзия французского символизма. – М., 1993. – С. 425
[Закрыть].
Авторское самоустранение диктовало новые формы выразительности: «дать инициативу словам», «высвечивающим связь всего во всем». «Я теперь безлик и не являюсь известным тебе Стефаном, но способностью Духа к самосозерцанию и к саморазвитию через то, что было мною»[28]28
Там же, С. 426.
[Закрыть].
Малларме интересует не конкретный мир – человек или вещь – а их «сущая идея», не имеющая места ни во времени, ни в пространстве, – она вечна, так как принадлежит миру первосущностей.
«Я говорю: цветок! и вот из глубины забвения, куда от звуков моего голоса погружаются силуэты любых конкретных цветков, начинает вырастать нечто иное, нежели известные мне цветочные чашечки; это возникает сама чарующая идея цветка, которой не найти ни в одном реальном букете»[29]29
Там же, С. 423.
[Закрыть].
Малларме «изобретает новый язык» – «рисовать не вещь, а производимый ею эффект. Стихотворение в таком случае должно состоять не из слов, но из намерений, и все слова стушевываются перед впечатлением» (Малларме). Под «впечатлением» подразумевается не мгновенность импрессионистической вспышки, не мимолетность настроения, а «глубинное озарение», «просветление души», ощущающей свою сокровенную связь с тайной «неизреченного»:
Из лавины лазури и золота, в час
Начинанья, из первого снега созвездья
Ты ваяла огромные чаши, трудясь
Для земли еще чистой от зла и возмездья.
«Цветы» (1866). Пер. О. Седановой
Воплощением «неизреченного», непереводимого на язык общезначимой истины, является в поэзии Малларме символ, определяемый как «совершенное применение тайны». Символ и миф, в концепции Малларме (как и всех символистов), понятия тождественные. Миф трактуется Малларме не в традиционном аллегорическом и историческом толковании, а на унаследованной от неоплатоников символической трактовке: мифу придается универсальность и многозначность прочтения. Символ, с точки зрения Малларме, притягивает к неведомому, но никогда не позволяет его достичь. «Назвать предмет – значит на три четверти разрушить наслаждение от стихотворения – наслаждение, заключающееся в постепенном и неспешном угадывании; подсказать с помощью намека, вот цель, вот идеал. Совершенное владение этим таинством как раз и создает символ» («О литературной эволюции»).
Наследуя шеллингианскую (романтическую) традицию в интерпретации мифа, Малларме использует его не только как «материал» для поэзии, но и наделяет принципом персонификации и олицетворения (по выражению Шеллинга, «моральной интерпретацией мифа»). Для Малларме царственная Иродиада («Иродиада», 1869) является одновременно олицетворением роковой красоты, увлекающей к гибели, «древней Горгоной со змеиной головой» и символом вечной женственности:
Мне чудится, что я – одна в стране печальной,
Что все боготворят стекла овал зеркальный,
В чьей сонной тишине играя, как алмаз,
Вдруг отражается взгляд этих светлых глаз.
«Иродиада». Пер. М. Талова
Библейский миф осмысляется в рамках символистской концепции. Фигура Иродиады появляется и исчезает в ореоле разнообразных значений. Малларме привлекают, как и многих символистов (Лафорга, Гюисманса, Милоша) двойственные мифологические фигуры – фавны, химеры – неисчерпаемостью толкований, рождающих ощущение «сияния» идеи:
Фавн, изливается из хладных, синих глаз
Мечта, как плачущий родник, смиренный часто:
Но та, вторая – вздох и глубина контраста,
Как полудня знойный бриз в твоем цветном руне!
«Послеполуденный отдых фавна» (1882). Пер. М. Талова
Образ лебедя, имеющий многозначность прочтений в мифологической традиции, используется в сонете «Живучий, девственный, не ведавший высот» (1885). Лебедь олицетворяет не только ностальгию по «иным мирам» (но с крыльев не стряхнуть земли ужасный плен), но является мифологемой творческого порыва поэта к тайне «неизреченного»:
Живучий, девственный, не ведавший высот,
Ударом буйных крыл ужель прорвет он ныне
Гладь жесткую пруда, чей нам напомнит иней
Увековеченных полетов чистый лед!
Пер. М. Талова
Используя мифологические образы, Малларме создает собственную мифологию, воплощающую символистскую глубину идеи. Мифотворчество – одна из важнейших констант эстетики символизма – будет усвоено художественной практикой литературы XX столетия.
Стремление уловить неуловимое ради того, чтобы возникло «сияние идеи», обусловливает особую музыкальную атмосферу поэзии Малларме: «Музыка встречается со стихом, чтобы стать Поэзией» (Малларме). Суггестивность подразумевала неисчерпаемость бесконечных узоров соответствий, в которых расплываются, тонут конкретные предметы. «Созерцание предметов, образ, взлелеянный грезами, которые они навевают, – вот что такое подлинное песнопение» («О литературной эволюции»),
В стихотворениях «Веер мадам Малларме» (1891), «Другой веер» (1884) (пер. М. Талова), предметный мир развеществляется, превращаясь «в ступени единой гаммы», рождая «впечатления вечной непреходящей красоты»:
Жезл розовых затонов в злате
По вечерам – не так ли? Нет? –
Сей белый лет, что на закате
Лег на мерцающий браслет.
«Другой веер»
Поэзия Малларме, постепенно превращающаяся в «чистую концепцию», усложняется сопоставлением несопоставимого, бесконечным рядом субъективных ассоциаций, построенных на эллипсе, инверсии, изъятии глагола. Малларме разрушает слово создавая «представленную в словесном воплощении» новую реальность бесконечных соответствий и аналогий, что обусловливает герметичность его поэзии, ее труднодоступность для понимания:
Кадит ли вечера вся Спесь,
Заглохший факел в хороводе,
Бессмертный дым в своем разброде,
Ты небреженья не завесь.
«Кадит ли вечера вся Спесь». Пер. М. Талова
Стремления найти код к «орфическому истолкованию Земли», создать «Книгу, Орудие Духа» обусловливают синтез поэзии Малларме не только с музыкой, но и с графическими искусствами. Последняя поэма – «Удача никогда не упразднит случая» (1897) – представляет «звучащий» текст, который поэт просил называть «партитурами». Тональность звучания, по замыслу автора, подчинена графическому изображению слова, различию используемых шрифтов. Малларме построил текст по пространственным законам. На двустраничном развороте причудливо рассыпаны слова, напечатанные различными шрифтами. Случайная россыпь поэтического текста не отменит Случая, но создаст в пространстве текста островок смысла. Магический жест бросания костей становится метафорой творчества. Это азартная игра с мировым хаосом, который поэт пытается таким образом упорядочить, «причесать».
Герметичность поэмы, усложненной пропусками и «пустотами», обусловлена концепцией молчания как знака соприкосновения Духа с тайной «неизреченного». Эта тенденция, наметившаяся в поздней поэзии Малларме, станет основополагающим принципом в «Театре молчания» Метерлинка: «То, что производит мысль, не имеет никакого значения рядом с истиной, которой мы являемся и которая утверждается в молчании»[30]30
Метерлинк М. Бельгийский театр// Французский символизм. Спб. 2000. с. 45
[Закрыть]. Традиция Малларме и Метерлинка получит своеобразное преломление в антидраме Беккета, развивающейся из ограниченного монолога к все пронизывающему молчанию (пьеса «Дыхание»).
Поэма – «Удача никогда не упразднит случая» – первый образец «звучащей» и «визуальной» поэзии – окажет огромное влияние на авангард начала века, в частности на формирование визуальной лирики Аполлинера («Каллиграммы»).
Поэзия Малларме, провозгласившая символ основным средством воплощения «высшей идеи, творящей призрачные видимости», станет философско-эстетической базой французского символизма, а сам поэт – общепризнанным мэтром этого направления. Малларме категорически возражал против причисления ко всяким школам: «Мне отвратительны любые школы. Мне претит всякое менторство в литературе. Литература – это нечто индивидуальное» («О литературной эволюции»).
Символизм II этапа после 1886 года
Художественная практика Бодлера, Верлена, Рембо, Малларме была продолжена их последователями, за которыми закрепился термин «символизм».
Знаменитые «вторники» Малларме собирали его единомышленников – поэтов, художников, музыкантов: Дебюсси, К. Моне, К. Мане, Ренуар, Реми де Гурмон, Пьер Кийар, Жюль Лафорг, Анри де Ренье. Суггестия становится родовым признаком символизма, приближая слово к музыкальному звучанию. Переворот в поэзии, совершенный предшественниками и продолженный их последователями, вызвал необходимость размышлений о целях и задачах «новой» поэзии. В 80-е годы появляется целая серия эссе, в которых формулируются основные принципы символистской поэтики: «Трактат о слове» (1886) Рене Гиля, «О литературной эволюции» (1891) С. Малларме, «Символизм» (1887) Э. Верхарна, «О символизме» (1888) Эрнеста Рейно, «Литературный манифест символизма» (1886) Ж. Мореаса – дата окончательного формирования символизма как литературно-художественного направления.
Одновременно появляются значительные произведения, обусловленные символистской поэтикой: «Апрельский сбор» (1887) Ф. Вьеле-Гриффена, «Ландшафты» (1887) А. Ренье, «Кочующие дворцы» (1889) Г. Кана – первый систематический опыт верлибра.
«Он пришел такой бледный, бледный,
что сестрица моя подумала:
«Злая его любовь выпила его души и кровь,
и теперь он
Тень своих подошв, след своих шагов»»
(Г. Кан «Кочующие дворцы»)
1886–1887 – становление и формирование I периода в развитии символизма. II – критика называет этапом подъема. Открывается этот период поэтическим сборником Ф. Вьеле-Гриффена «Утехи», декоративной стилизацией А. де Ренье.
«То был вечер феерий лета,
Алых лент на небесном стекле
И долин в нежном пурпуре света
В твой прекраснейший год на земле»
(Ф. Вьеле-Гриффен «Утехи»)
Для Ф. Вьеле-Гриффена – последователя Малларме, – жизнь – источник не только страданий, но и радости. Он был глубоко убежден, что творчество – высшая форма вселенской поэзии.
«Мечтаний кровь. Земля скорбящая впитала,
Ударом крыл вовек не разнестись опять,
На взморье вечером следов не отыскать:
Прошел по ним отлив – и тайны их не стало»
(Анри де Ренье)
Поэзия А. де Ренье пронизана декоративным эмблематизмом, мелодичностью стиха. Во многих статьях/ эссе теоретическая рефлексия не только пытается осмыслить место символизма в литературном процессе, но и связать это направление с мистикой: Эрнест Рейно «О символизме», Жорж Ванор «Символистское искусство». С историко-литературной позиции Жан Торель рассматривает и анализирует генезис символизма, восходящий к немецким романтикам: «Немецкие романтики и французские символисты» (1889).
В этот период временно присоединяются к символистам 18-летний П. Валери и А. Жид, за плечами которого первый сборник стихов «Стихотворения», опубликованны под псевдонимом Андре Вальтера и «Трактат о Нарциссе», – в подзаголовке – «Теория символа». В письме П. Валери к Малларме содержатся размышления о «чистой поэзии», а произведения А. Жида пронизаны идеями платонизма.
В 1891 г. произошли два памятных события – банкет по поводу публикации сборника Ж. Мореаса «Страстный пилигрим» (1891); присутствовал весь литературный Париж – от молодых поэтов до С. Малларме и А. Франса. Во-вторых, статья Ф. Брюнетьера – безжалостного, но объективного критика – о символизме. Это означало, что символизм получил, наконец, официальное признание. После временного всплеска и успеха, символизм стал постепенно в 90-е годы превращаться в литературное сообщество, лишенное программы; каждый поэт был озабочен поисками собственного пути. Творческий потенциал символизма истощался, границы с декадансом размывались; усиливаются тенденции эстетизма.
В поэзии Э. Микаэля – «Дождливые сумерки», «Таинственный свет луны» – звучат меланхолия, тоска:
«Как осенний туман,
На меня опустилась тоска,
Ее вечер сгустил, и она, тяжелея, темнея,
Распустилась в душе, словно полная тайн орхидея,
Давит на сердце ночь – с монотонным теченьем река»
(Дождливые сумерки)
К.-С. Гюисманс воспевает «изощренную чувственность – «Экстаз», «Японское рококо», «Ваза с пряностями».
«О том, чьи глаза черны, чьи волосы черны,
Чье тело светло, внемли мне,
О, моя шаловливая ойран!»
(Японское рококо)
Марсель Швоб создает образец символистской прециозности – книгу «Монеллы»[31]31
Монелла – по-латыни это имя означает «напоминание»; по-итальянски – «шалунья, плутовка». Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – СПб., 1999. – С. 152.
[Закрыть] – пронизанной страстью к вечности, тоской о бренности жизни и убегающих мгновениях. Пьер-Луи, одержимый античной экзотикой, переключается на стилизацию. «Песни Билитис» Пьера-Луи – мистификация; это произведение было представлено как перевод стихотворений древнегреческой поэтессы Билитис, чьи стихи были выбиты на ее гробнице. Лоран Тайад выразил суть явления: «Какая разница, лишь бы было красиво!».
Причины творческого угасания символизма в «неустойчивости» концепта «символ», пытающегося установить единство между реальным и идеальным. На примере поэзии С. Малларме происходит растворение предметного мира в бесконечных узорах соответствий, что делает поэзию герметичной, плохо доступной для понимания. С другой стороны, пренебрежение законом соответствий и тождеств, нарушением правил «всеединства», превращает символ в ложно-многозначительную загадку, в некий «ложный» код. Этим объясняется на излете символизма мелкотемье, клишированная образность – экзотический антураж, сумеречные пейзажи, фонтаны, статуи, парки, хрустальная луна, «лилейные женщины». Эти образы лишены подлинной суггестивной выразительности. Символы А. Самена, Жюля Лафорга, Жана Лоррена и Анри де Ренье – вырождаются в обычные метафоры, теряя символическую мощь, превращаясь в клише и стереотипы: «плачущий фонтан», «страждущая душа».
Поколение А. де Ренье, сформированное Рембо и Малларме, постепенно вырождается в эпигонов. Им на смену приходят молодые поэты – Поль Валери с его «чистой поэзией», Поль Клодель с его космическим язычеством – полная противоположность С. Малларме с его одержимостью идеей Красоты-Небытия, и Сен-Поль-Ру, «взорвавший» поэтику символизма и проложивший мостик к авангарду начала века, к сюрреализму. А. Бретон назвал его «сюрреалистом в символе».
Французский символизм, исчерпавший себя к началу ХХ столетия, перестал существовать как направление в 1905 году, однако дав мощный импульс развития по всей Европе, включая Россию и Латинскую Америку. В Бельгии – это «театр молчания» Метерлинка и поэзия Э. Верхарна; в Англии – неоромантизм Суинберна и эстетизм О. Уайлда; в немецкоязычной поэзии – это творчество С. Георге, Р.-М. Рильке; в России – это «младосимволисты» – В. Брюсов, К. Бальмонт; в Латинской Америке символизм достиг расцвета благодаря «никарагуанскому парижанину» Р. Дарио, перенесшему дух Верлена и Бодлера на почву испанского языка. Художественные открытия символизма, особенно ясновидение Рембо, суггестия, синестезия, закон соответствий, черный юмор оказали влияние на сюрреализм.
II Глава
Альфред Жарри и «патафизика»
В 80-90-е годы происходили глубокие изменения в театральном искусстве. Символом этих изменений сначала стал «Свободный театр» (1887–1897) А. Антуана, на сцене которого ставились реалистические и натуралистические пьесы И. Тургенева, Л. Толстого, Г. Гауптмана. В 1884 г. возникает театр «Эвр» как полемическая реплика театру А. Антуана. На его сцене, под руководством режиссера Люнье-По, были поставлены авангардистские для того времени спектакли М. Метерлинка, Стриндберга, Ибсена. Театр «молчания» Метерлинка, поражавший новаторством – поэтикой пауз, умолчания, подтекста, «присутствием неизвестного», – пользовался среди декадентов и символистов огромным успехом. В конце 80-х годов состоялась премьера Ибсена «Пер Гюнт», объединившая трех выдающихся художников – Э. Мунка, – автора декораций и режиссера постановщика, композитора Грига и драматурга Ибсена. Успех был грандиозным. И вот на этом фоне, в 1896 году появляется пьеса «Король Убю», никому не известного автора Альфреда Жарри, ошеломившая зрителей необычностью и внезапностью приемов, эпатажем, нецензурной лексикой, алогичностью содержания.
* * *
А. Жарри вошел в литературу в 90-е годы XIX столетия. Это было время многочисленных литературных школ, авангардных направлений, шумно заявляющих о себе манифестами и декларациями. При жизни Жарри не был знаменит. Имя его было окружено устойчивыми мифами и легендами. Современники не воспринимали его всерьез, называя литературным шутом и паяцем за его эпатажные выходки и не менее экстравагантные произведения выходившие за рамки культурного сознания «прекрасной эпохи» (belle époque), наслаждавшейся безмятежной атмосферой всеобщего процветания и научно-технических открытий (кино, телеграф, автомобиль, пишущая машинка, электричество). Жарри сотрудничал во всех авангардистских журналах, вокруг которых группировались знаменитые поэты, писатели, художники. Реми де Гурмон ввел его в среду поэтов символистов; при его поддержке Жарри стал сотрудником крупнейшего журнала символистов – «Меркюр де Франс». Он был дружен со всей парижской богемой: с писательницей Рашильд, Октавом Мирбо, Полем Валери, Шарль-Луи Филиппом, Ш. Мореасом, Э. Верхарном, Метерлинком, Лораном Тайадом. Но по-настоящему его не знал никто. За маской шутовства и буффонады современники не заметили гениального реформатора театра. Он, как и Рембо, и Лотреамон, предвосхитил бунтарский дух эпохи, наступившей после I Мировой войны.
Премьера «Короля Убю» вызвала неоднозначную реакцию. Скандальный провал называли как открытием «новой эры» французского театра, так и неудачной мистификацией. Жарри спровоцировал скандал, бросив вызов публике. Он умышленно не хотел снисходить до того, чтобы быть понятным. Даже в пояснительной речи, предваряющей спектакль, он коверкал слова, нарушая грамматические и синтаксические связи, делая смысл фразы недоступным.
Сталкивая своих сторонников и противников, Жарри надеялся, что этот скандал станет повторением битвы за «Эрнани» (1830) В. Гюго, которая вошла в историю французского театра как победа нового романтического искусства. «Дрались новые школы, декаденты, символисты, анархисты, буржуазная критика». Несмотря на то, что Люнье-По смог приучить своего зрителя к новому художественному языку, «Король Убю», со своей демонстративной бессмысленностью и эпатажем, произвел на публику эффект шоковой терапии. Литературного взлета не произошло. Зрители стали уходить с самого начала, как прозвучало слово «дерррьмо» (merdre), доминантное во всей пьесе. Ж. Куртелин, автор популярных комедий в 90-е годы, кричал: «Разве вы не видите, что автор над нами издевается?». Поднялся крик, свист. А. Жарри с горечью писал: «… толпа разозлилась, т. к. признала себя в отвратительном персонаже»[32]32
Жарри А. Убю-Король и другие произведения. – М., 2002. – С. 89.
[Закрыть]. Даже друзья А. Жарри – Э. Верхарн, Реми Гурмон, Л. Тайад, Йетс – были обескуражены. Л. Тайад выразил общее настроение: «Мы кричали, поддерживали пьесу, однако, сегодня ночью, в гостинице «Корнель» мне стало грустно… после Стефана Малларме, после Поля Верлена, после Гюстава Моро, после Пюви де Шаванна… после тонкости наших красок, нашей чувствительности к ритму… какие возможности еще остаются. После нас – одичавший бог»[33]33
Essin M. Le théâtre de l’absurde. – P., 1963. – P. 305.
[Закрыть]. Честолюбивые амбиции Жарри, его максимализм – «идти во всем до конца» – не выдержали этого испытания. После провала он превратил свою жизнь в драматический хепенинг с трагическим, печальным концом. Жарри вживается в образ созданного им персонажа; маска папаши Убю становится постепенно его настоящим лицом, защитой от внешнего мира. Произошло зловещее превращение скромного, благовоспитанного провинциала, следившего за своей внешностью, в человека-марионетку, с резким металлическим голосом, пропитанным абсентом и эфиром. Окружающих поражало лицо-маска с толстым слоем крема и пудры, на котором выделялись ярко-красные губы, иссиня черные волосы, расчесанные на прямой пробор, темные (цвета сажи) бретонские усы, неподвижный взгляд совиных глаз – все было рассчитано на эпатаж. Его жилище так же поражало экстравагантностью. Отличавшийся почти карликовым ростом – 1,61 см, – Жарри снимал комнату, в которой высота потолка достигала 1,68 см. Стулья и стол были со спиленными ножками. Гости не имели возможности распрямиться, а сам хозяин их принимал либо лежа на полу, либо играя на аккордеоне, либо расстреливая пауков из револьвера. К кровати был прислонен велосипед (… чтоб кататься по комнате, – объяснял Жарри); на стенах – маски Папаши Убю и его устрашающие орудия – «вельможный крюк», «палочки для забивания в ухи»[34]34
Французский СИМВОЛИЗМ. Бельгийский театр// Рашильд. Из книги Альфред Жарри, или сверхмужчина изящной словесности. – СПб., 2000. – С. 229–231
[Закрыть].
Эксперимент вживания, перманентно дополняемый допингом алкоголя и эфира, окончился трагически. В одном из последних писем Жарри напишет: «Итак, папаша Убю, заслуживший отдых, пробует уснуть. Он полагает, что мозг в состоянии распада, функционирует за пределами смерти, и что Рай – это сновидения»[35]35
Besnier P. Alfred Jarry. – P., 2005. – P. 45.
[Закрыть]. Черный юмор не покидал Жарри даже на пороге смерти. Прием отождествления себя либо с персонажем, либо с собственным творчеством ввел в социокультурный контекст эпохи А. Рембо, а до него, в начале века, романтики. Но, в отличие от трагического опыта, поставленного на собственной жизни Рембо, а вслед за ним и Жарри, их последователи – дадаисты/ сюрреалисты использовали пародийно-игровое начало подобной мистификации. Известен легендарный случай с сюрреалистом Краваном, приглашенным в Нью-Йорк прочесть доклад о черном юморе: абсолютно пьяный Краван поднялся на трибуну и стал стаскивать с себя одежду. Игра Ж. Риго с темой самоубийства заключалась в том, что он клал под подушку револьвер – так для него звучала расхожая мысль, что «утро вечера мудреннее».
А. Жарри умер в 34 года, на больничной койке, в полной нищете.
* * *
Взгляды А. Жарри, формировавшиеся в среде авангарда 80-90-х годов[36]36
В определении А. Роб-Грийе «авангард-это поиск, создающий собственные смыслы… В рамках подобной концепции понятие авангард – лишь этикетка, означающая, что писатель слегка опередил свою эпоху, и что завтра его находки будут подхвачены всеми» (А. Роб-Грийе. Романески. – М., 2005. – С. 538.)
[Закрыть], многими нитями связаны с историко-литературным контекстом: «писатель всегда опутан «сетью культуры», из которой ускользнуть невозможно»[37]37
Барт Р. Избранное. – С. 52.
[Закрыть]. Жарри, как и его единомышленники, отвергал политический террор анархистов, но разделял общий протест против сакральных ценностей III Республики: патриотизма, армии, церкви, политики. Он стремился перевернуть вверх ногами, вывернуть наизнанку высокое и низкое, раскрывая алогичность социальной жизни. Его смех был направлен против здравого смысла, лжи, лицемерия, демагогии. «Изменим условия: знамя превращается в животное. Как описать действие войска по отношению к нему? Только лишь как охоту»[38]38
Besnir P. Alfred Jarry. – P. 188.
[Закрыть]. За маской бессмыслицы А. Жарри вскрывает фальшь и демагогию «патриотической болтовни» о «сакральных» армейских святынях.
В мировоззрении А. Жарри, представляющим глобальную альтернативу буржуазной посредственности, устоям III Республики с ее кукловодом Тьером (премьер-министром), заложены элементы контркультуры. Его театральная реформа была направлена на изменение общественного и культурного сознания «бель эпок» (“belle epoque”). Жарри пытается найти новый художественный язык, соответствующий его программе. Его манифесты 1891–1900 годов стали декларацией нового, авангардистского театра, ломающего штампы и клише: «Программа Короля Убю»; «О бесполезности театрального в театре»; «О чем думаешь в театре?», «Ответы на вопросы о драматическом искусстве».
Новый подход к театральному искусству заключался в пародировании языка, как предшественников, так и современников-символистов. Жарри в своих манифестах утверждал самодостаточность, универсальность актерской пластики, поэтику кукольного театра, очуждение, разрушающие иллюзию правдоподобия, достоверности действия. «Медленно покачивая головой – вверх-вниз и из стороны в сторону – актер играет тенями по всей поверхности своей маски»[39]39
Жарри А. Убю-Король и другие произведения. – С. 201.
[Закрыть]. Жарри стремился заставить задуматься зрителя, а не «сопереживать кулинарным эмоциям», как позже скажет Б. Брехт. Поэтика театра марионеток разрушала психологические, социальные характеристики; персонаж приобретал все черты гиньоля или куклы с символической смысловой нагрузкой. Недаром Жарри называл своего персонажа «толстым Полишинелем». Условность персонажа подчеркивалась идеей создания абстрактного образа или «марширующей абстракцией» (abstraction de marche). Доминантой художественного языка становится гротеск, не только искажающий обычные пропорции, но и эпатирующий зрителя принципом совместимости несовместимого. Поэтика А. Жарри, обусловленная концепцией бергсонианской длительности, отвергает объективное время, уничтожая границы между прошлым, настоящим и будущим. Концепция длительности, как вечного становления, определяет замкнутость вневременного пространства – «здесь и всегда», – в котором каждый миг связан с вечностью; Жарри очуждает «сценическую» реальность, подчеркивая условность театрального действия. Иллюзия достоверности, как и любое проявление фактографического воспроизведения, разрушается. Парадоксальность мышления Жарри, иронически относившегося ко всем «абсолютным истинам», канонам и догмам, выявляется в его теории патафизики. Определение этой «научной теории», вложенное в уста кукольного персонажа, «доктора патафизики» Фаустролля (чье имя построено на сочетании несочетаемого – вечного духа поиска, сомнения, олицетворенного в знаменитом герое Гете и злого скандинавского волшебника тролля), заложен игровой подход к условности, схематичности литературных топосов. «Патафизика изучает законы, управляющие исключениями и стремится объяснить тот, иной мир, что дополняет наш… Предметом описаний будет мир, который мы можем, – а, вероятно, должны видеть на месте привычного»[40]40
Там же, С. 162.
[Закрыть]. Основной тезис патафизики – «исключение есть правило», – парадокс, разрушающие стереотипы и клише обыденного сознания.
«Смех патафизики рождается от сознания очевидности, что каждая вещь такая, какая есть. Это единственное проявление безнадежности»[41]41
Там же, С. 167.
[Закрыть].
Патафизика А. Жарри, предваряя теорию тирании дискурсов Р. Барта, разрушает «прописные истины» как средства манипулирования обыденным сознанием, вскрывая условный характер литературы, «несоответствие жизни и слова». «Патафизическая реальность открыта для фантастического и фантазийного черного юмора и любых преувеличений»[42]42
Там же, С. 170.
[Закрыть]. Стилевую доминанту драматургии А. Жарри составляет утрированное, язвительное передразнивание, ироническое пародирование всей предшествующей и современной культурной традиции, вызывая аллюзии с «Песнями Мальдорора» (1869) Лотреамона. Но, в отличие от своего предшественника, ограничившегося пародированием клишированного языка литературы, создавшем грандиозную «литературную энциклопедию», Жарри пытался раскрыть не только источник драмы «литературного сознания», но и создать новый художественный язык, адекватный «исчерпывающей полноте литературного высказывания»[43]43
Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М., 1980. – С. 108.
[Закрыть]. Принципы патафизики отрицают приоритетность одних смыслов над другими, предваряя теорию децентрации Ж. Деррида. Инновационные, «маргинальные» идеи А. Жарри изменяют соотношение явлений в литературном процессе, намечая вектор его развития. Теория патафизики определяется стилистикой контрастов, смешением противоположностей, сосуществующих на равных правах: бытийный и бытовой, комический и трагический, фантастический и реальный. Рецепция этой теории реализуется на уровне языка, в котором слово многозначно, полисемично, эластично.
А. Жарри – великий экспериментатор, мастер языковой игры, которого Делез в «Критике и клинике» назвал «неведомым предшественником Хейдеггера»[44]44
Делез Ж. Критика и клиника. – СПб., 2001. – С. 125.
[Закрыть], считая, что обновление языка – это одно из основных средств овладения «подлинной реальностью» и «субстанциональной истиной». Жарри создал слово, выходящее за пределы общих мест, обладающее многозначностью, полисемией. «Он заставлял все чаще играть во французском языке латинский, греческий, старофранцузский, бретонский, давая жизнь французскому языку грядущего»[45]45
Там же, С. 134.
[Закрыть]. Эксперимент А. Жарри со словом раскрывает неограниченный потенциал языка, воспроизводящий неисчерпаемую многоцветную палитру мира: «Не молчать, но играть с языком, убивая в нем всю фальшь, возвратить языку его право вдохнуть в него заново душу… литература может быть литературой, только разрушив себя… Нет никакой вещи там, где не хватает слова»[46]46
Там же, С. 155.
[Закрыть].
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?