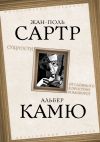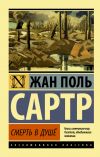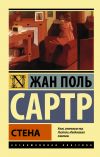Текст книги "История зарубежной литературы второй половины ХХ века"

Автор книги: Вера Яценко
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Поэтика «таинственного», «скрытого», по представлениям Кавабата, требует от воспринимающего сознания быть «сосудом вселенной», обладать чуткой способностью «созвучия». Особо он акцентирует мгновенность «озарений» при встрече с красотой: творческий импульс их плодотворнее холодной рассудительности. Так, в эссе «Существование и открытие красоты» он пишет, как неожиданно открыл красоту сверкания стаканов под лучами солнца: «Наверное и в голову не приходило, что кто-нибудь найдет их прекрасными. Да и я, когда слишком долго задерживаю взор на этой красоте, пытаюсь понять, отчего это сегодня такое сияние и слишком внимательно разглядываю их, тогда все пропадает. Правда, начинаешь замечать детали» [2; 51]. Такова же, по его представлению, и структура читательского восприятия, цель которого – видеть сокрытое. В этой связи уместен часто употребляемый японцами образ дракона в облаках: явственно видны голова и хвост, но нужно уметь видеть всего дракона. Или: Я вижу Фудзи! – она вся в облаках. Не внешнее фиксирует поэт.
В романе «Старая столица» отразились некоторые черты многовекового общественного уклада. Он не может быть понят без учета его главного истока – буддизма, который появился в Японии в VI в. и приобщился к местной традиции. С 1192 г. до середины XIX в. – в Японии правление сёгунов, самурайской упорядоченности. Они внесли повсеместную иерархичность. Принцип «всему свое место» определяет все стороны семейной и общественной жизни, породив сеть непреложных правил поведения. Субординация среди них как стержень, незыблемый закон.
В. Овчинников пишет: «равенство же воспринимается японцами прежде всего как положение на одной и той же ступени иерархической лестницы. На их взгляд, два человека могут быть равными между собой лишь в том смысле, в каком равны два генерала или два солдата» [5; 27]. Повсеместен культ власти старших «по чину»: подчинение младших старшим, работника начальнику, поклонение подданных властям, благоговейное почитание всеми императора. Неповиновение воспринимается как грубое нарушение нормы, как преступление. Отзвук этого в романе – эпизод встречи высокочтимого владельца лавки тканей Тикитиро и талантливого, но мелкого ткача Тидео: Тикитиро излагает перед Тидео просьбу посмотреть принесенные авторские рисунки, и если они хороши, выткать пояс для кимоно. Тидео вызван к нему от станка уставший, он проявил признаки рассеянности и… Такитиро бьет Тидео, раздается крепкая пощечина, и Тидео смиренно склоняется до пола. Нарушено Тидео правило почитания старшего. Тиэко и Наэко – сестры-близнецы с рождения, разлученные жизненной судьбой, встречаются уже взрослыми, находясь на различных уровнях сословной сферы: Наэко – из рабочих, Тиэко – дочь состоятельного торговца; и отношения между ними со стороны Наэко строятся по этой иерархии с боязнью нарушить субординацию.
В романе изображено существующее с древних времен безоговорочное поклонение главе дома, молчаливое признание его воли: «он вправе поступать так, как ему заблагорассудится» [1; 126]. Мы видим Такитиро то молча решившим отдохнуть от дома, снимая комнату в уединенном монастыре, то в единоличном замысле сменить дом-лавку: «мне нужен маленький дом и подешевле». Тиэко как само собой разумеющееся согласна с обычным почитанием и любовью покорно исполнить волю родителей и в выборе жениха. Как свидетельствует В. Овчинников, в жизни часто проявляется у японской молодежи вольность нравов, свобода, но неизменно, когда возникает вопрос о свадьбе, молодежь всегда полагается на мнение родителей, считая, что старшим все виднее. Действует при этом и фундаментальный закон японской этики – «туда и обратно» – взаимосвязанности, взаимоответственности. Проявление его мы видим в романе в сюжетной линии. Вначале родители Тиэко строят матримониальные планы в отношении Тидео, но, вспомнив, что не спросили согласия Тиэко, отказываются от них. Позднее едва обозначившиеся отношения влюбленности между Мидзуки и Тиэко побуждают вмиг родителей с обеих сторон заботливо «обустраивать» психологически и экономически наметившийся союз. При этом Кавабата включает в роман очень важный японский обычай, который даже оформлен юридически. Пока Мидзуки пусть поработает в лавке Такитиро, а в будущем его отец аннулирует права наследования Мидзуки как старшего сына, передав этот его статус в семью Такитиро, где сына нет. Приемный сын-наследник (не зять! Он даже меняет свою фамилию на фамилию жены) тоже воспринимается в ореоле владыки, ибо на нем будет лежать ответственность за благоденствие семьи и, главное, за покой и обеспеченную старость родителей. В силу этого обычая в Японии по сути нет одиноких обездоленных стариков.
Статистика свидетельствует, что в Японии женщин меньше, чем мужчин. Видимо, поэтому этика потворствует мужчинам. В романе мы это видели на примере Такитиро. Принцип «всему свое место» определяет границы различных сфер в жизни полов: для домашнего очага, для продолжения рода – жена, для души – гейша, для плоти – дзёро, ойран, «роль которых после запрета открытой проституции взяли на себя девицы из баров и кабаре» (В. Овчинников). Жизнь Такитиро в романе имеет меты этих трех сфер. О третьей лишь намек в воспоминании Сосукэ, давнего знакомого Такитиро: «вместе развлекались в дурной компании» (с. 52). В настоящем времени – он, пятидесятилетний, утонченно-вежливый, изображен в сцене отдыха – встрече с юной будущей гейшей, и мы узнаем о его высоком имидже среди гейш в прошлом, – все это в добавление к портрету любящего и заботливого супруга и отца. И все вместе вписывается в представление о «норме»: в человеке, как и в бытии, нет совершенства абсолюта. Поэтому и в этике совершенствование значимее идеи совершенства, ибо последнее недостижимо.
Эпизод с гейшами в романе выписан Кавабата в верной этической и художественной тональности, в соответствии с обычным мнением. В переводе «гейша» означает «человек искусства». Ее функция: внести в досуг клиента свою образованность, элегантность, тонкий вкус, искусство пения, танца – плоды ее долгого обучения и воспитания. Некоторые редкие поправки, внесенные жизнью: «Чио чио-сан», большие прибыли хозяек гейш от богатых покровителей гейш» (по свидетельству В. Овчинникова) [5; 22].
Главный сюжет в романе – линия взаимоотношений между сестрами-близнецами Тиэко и Наэко. Во всей сложности он может быть понят при знании подтекстовой буддистской основы, теории дхарм (в переводе «нести», «носитель»). Поток дхарм образует личность; от их сочетания зависит, в какое существо переродится человек. Они непознаваемы, абсолютны, неистребимы. «Карма» («действие», «акт») – связующая, организующая сила – располагает эти элементы в соответствии с поступками человека. Карма формирует судьбу, но не полно, ибо включает в себя также последствия предыдущих перерождений. Кавабата в сюжет о близнецах включает опасения японцев, что близнечная ситуация чревата смешением индивидуальных дхарм, посягательством на неповторимую личность, драматическим осложнением кармы в последующих многих поколениях. Эстетика «печали», югэн, определяет разработку драматических коллизий у Кавабата. Горе родителей, вынужденных расстаться с одной из новорожденных, печаль Тиэко, что она «подкидыш», а не родная дочь, глубокая тоска обеих сестер от разъединенности выписаны Кавабата в богатом эмоциональном ключе, в стиле «потаенных» недоговоренностей. Встреча выписана в сочетании радости и страха: страх, что людям бросится в глаза их внешняя неразличимость, поэтому обе стремятся к малолюдным местам, чтобы не увидели их вместе, рядом; страх Наэко хоть малостью «разрушить счастье» Тиэко, от страха – боязнь Наэко часто встречаться, даже в горах ищут уединения и т. д. Но «смешение» состоялось: Тидео, влюбленный в Тиэко, обманулся разительным сходством. История с поясами для Тиэко и Наэко у влюбленного ткача – тоже на смешении чувств. Предложение Тидео о браке Наэко выслушивает в радости и печали. Она еще не сказала окончательные слова, но ее горестные раздумья вряд ли позволят сказать «да». Она говорит Тиэко: «Я должна занять не свое место, не свое, а ваше… Где-то в глубине души он все еще хранит ваш образ… Когда Наэко станет шестидесятилетней старухой, ваш образ Тиэко будет таким же молодым в сердце Тидео, какая вы сейчас» [1; 169–170].
В описании единственной встречи в доме Тиэко переплетаются мотив счастья и неизбывная печаль от ощущения ущербности судьбы двойняшек в сознании персонажей и восприятии окружающих. Рано утром Наэко говорит своей сестре: «Барышня, эта ночь была самой счастливой в моей жизни. А сейчас я пойду, пока меня здесь никто не увидел». Вручая подарки, прощаясь, Тиэко говорит: «Приходите еще!», Наэко покачала головой. Прием недосказанности колеблет семантику: что означает жест отказа? Боязнь искушать судьбу в будущем? Или память о такой полноте пережитого счастья родства, теплоты кровной близости, что повторение невозможно?
Обычная недосказанность в главной фабульной линии романа сочетается в соответствии с основным постулатом японского мышления инь-ян (сопряжение противоположностей) с другой параллельно-слитной линией – природного цикла, где акцентирована, казалось бы, финальная точка в композиции – наступила зима. Но произведение в целом не должно, по предписанием эстетики югэн, создавать художественную иллюзию завершенности – финал должен быть открытым к бесконечности бытия. Поэтому не случайно выбрана Кавабата природная финальная точка: она включает начало круговорота, в котором вечное движение бытия, природы по закону «туда и обратно».
Обозначенные две фабульные линии в композиции романа манифестируют постоянную связанность, и к ним привязаны гроздья больших и мелких эпизодов, которые обозначены главками: «Весенние цветы», «Женский монастырь и деревенская решетка», «Город кимоно», «Праздник Гион» и др. При этом бросается в глаза сумбурность их; в разнообразии все уравнено между собой – ведь все по критериям саби равнозначно в едином потоке бытия. Существо внутренней структуры позволяет Кавабата соединять главы, эпизоды не по принципу последовательной линейной связи, а по принципу наложения, «нахождения» одного на другое, что Кавабата называет словом «касанэру». В конечном итоге действие не вытягивается в линию, а как бы разворачивается веерообразно, кругами. Идя от центра – главной героини Тиэко, сцены сменяют друг друга, и после каждой «опускается занавес» и ни слова о предыдущих связях. Такие приемы композиции позволяют Кавабата в соответствии с эстетикой ваби создавать художественную иллюзию естественного, асимметричного, неупорядоченного облика жизни.
Ряд самостоятельных отрывков создает ощущение, что может быть продолжен до бесконечности. Это художественно соотносимо с представлениями о безостановочности движения жизни. В романе важен ритм переходов от эпизода к эпизоду. Он летуче-стремителен и создает эффект плавной, мягкой текучести. Кавабата удалось ненавязчиво показать в динамизме ритма переплетение «старины» и «новизны» в мышлении японцев, социуме: цеховое ткачество, мелкие торговые лавки как отживающий уклад, рисунки для пояса кимоно вбирают и возрастное, и эстетическое смешение – состарившийся Такитиро проявляет интерес к западным художникам-абстракционистам (П. Клее, М. Шагалу, А. Матиссу), молодой Тидео весь в приверженности классическим традициям.
Глубокое знание и верность многовековым традициям японской культуры, изящество простоты, художественное совершенство его романов «Старая столица», «Снежная страна», «Тысячекрылый журавль», «Стон горы» снискали Кавабата любовь читателей всего мира. Своим искусством он определил многое в дальнейшем развитии японского и мирового искусства, питая их вечными истоками подлинного творчества – правдивостью, искренностью, благородством, долгом служения человечности, глубинам национального духа.
Вопросы и задания1. Прокомментируйте основные эстетические положения японской поэтики в романе «Старая столица». Какие из них уникальны?
2. Обозначьте поразившие вас особенности ментальности японцев в самоощущении личности, взаимоотношениях.
Литература1. Кавабата Ясунари. Старая столица. – М.: Известия, 1984.
2. Кавабата Ясунари. Существование и открытие красоты // И была любовь и была ненависть: сб. / АН СССР, Институт востоковедения. – М.: Наука, 1975.
3. Федоренко Н. Кавабата Ясунари. Краски времени. – М., 1982.
4. Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. – М.: Изд-во АН СССР, 1979.
5. Овчинников Вс. Сакура и дуб. – М., 1987.
6. Синтара Исихара. Япония, которая сумеет сказать нет // Иностр. лит-ра. – 1991. – № 11.
7. Корагессан Бойл. Восток есть восток // Иностр. лит-ра. – 1994. – № 8.
8. Чхартишвили Г. Но нет востока и запада нет // Иностр. лит-ра. – 1996. – № 9.
9. Генис А. Вавилонская башня // Иностр. лит-ра. – 1996. – № 9.
Юкио Мисима (1925–1970)
Мисима – писатель широкого диапазона. В его произведениях нашли блестящее художественное выражение и традиция, и современность. 40 романов, 18 пьес, десятки сборников рассказов, эссе создают за 25 лет творческого труда, по выражению Г. Чхартишвили, «конструкцию не менее причудливую и поражающую, чем старый киотский храм» [1; 29].
Исследователей не случайно занимает проблема биографизма произведений Мисимы, своеобразие его личности, ибо в ней видится одна из возможностей разгадать многие тайны, скрытые неимоверной сложностью текста, «зашифрованностью» японских реалий. Проступает тенденция искать источник прежде всего в психопатологических комплексах – тяге к смерти, садомазохизму. Поэтому такой повышенный интерес к самоубийству 25 ноября 1970 г., когда знаменитый Юкио Мисима публично сделал харакири. Он стал четвертым в числе маститых писателей: Акутагава, Осаму, Кавабата, которые прежде него покончили с собой. Показательно для Мисимы – дню самоубийства предшествовал день, когда он поставил последнюю точку в романе.
Его жизненный путь исполнен титанической воли, упорства и кипения творческой энергии, которая бурлила в нем, как вулкан. Богатое воображение, могучий «амок» к самоутверждению, страсть к театральности, игре масками (роман «Исповедь маски») определяют поражающую широту тех жизненных сфер, куда направлена его целеустремленная энергия. Он был актером, режиссером своих пьес, автором киносценариев, романов; он дирижировал симфоническим оркестром, семь раз объехал вокруг света, летал на боевом самолете, овладел высшим даном в спортивной борьбе, превратил свое тщедушное тело в образец красоты и был горд тем, что энциклопедия поместила его фотографию как пример увлечения культуризмом; в последние годы – он организатор и продюсер «Общества щита» с монархически-самурайской ориентацией. И это все при том, что невзирая на случаи болезни, определенные часы методично отданы творчеству. И никаких исправлений! «Как описать радость работы, когда она идет хорошо? – пишет он в дневнике. Словно оседлал Земной шар, зажав его между ног, и одним взмахом хлыста погнал вперед, в черную бездну. А мимо, царапая щеки, проносятся звезды…» [2]. Японские издатели не знали автора более аккуратного, щепетильного в соблюдении срока договора.
Иероглиф «Ми-си-ма», псевдоним автора, означает «зачарованный-смертью-дьявол». (Абрис иероглифа напечатан перед текстом «Золотого храма» в издании 1993, СПб.). «Дьявола» оставим в стороне, учтя неукротимую энергию Мисимы, а вот «зачарованный смертью» попытаемся расшифровать, обращаясь к национальным истокам, древней традиции смерти, отшлифованной буддизмом, самурайством (самурай – воин).
Хризантема и меч – два символа Японии, равноправных, как инь-ян. «Бусидо» – «путь самурая» также глубоко укоренен в мышлении японцев, как и «путь чая». Если сущность чайной церемонии – наслаждение жизнью, а хризантема – это очарование красотой природы, то «путь самурая», «бусидо», означает буддистскую строжайшую этику поведения, кодекс смерти во имя верности чести, достоинство собственного «Я», а главное – во имя культа императора, власти, единства нации. Самурайская этика за несколько столетий (с 1192 г., а буддизм значительно раньше – с VI в.) широко внедрили в сознание масс свое представление о величии, красоте в смерти. В годы войны я видела японский фильм, где все жители городка уже предрешенному плену предпочли общую смерть в море – и все это в полном молчании. Н. Федоренко приводит свидетельства «психологии смерти» у японцев, суммируя их фразеологизмы: «умирать с улыбкой, умирать невозмутимо», «умирать словно засыпая»… Он пишет: «О людях, даже умерших в страшных мучениях, не скажут, что он корчился от мук. Этого требует этикет, свойственный стране буддизма – Японии» [6; 341]. Главный персонаж повести «Патриотизм» гвардейский поручик Такэяма рисуется в необычной ситуации, но в обычной для Японии реакции на нее. Ситуация трагична для него, морально неразрешима каким-либо обычным путем: его друзья вступили в военный заговор против императора, он был в неведении; друзья, видимо, зная, что он и полгода нет как женат, оградили его; и вот теперь ему предписано участвовать в подавлении, вести на них своих солдат. Нравственный тупик, из которого единственный выход – харакири.
Повесть резко делится на три части. Первая – описание умиротворенной страстной любви молодоженов. Вторая – подготовка к харакири, мысли и пыл чувственности под влиянием близкой смерти. Третья – изображение двойного самоубийства. Они объединены патриотической идеей верности императору и постоянно живущим в Такэямо и Риэко ожиданием смерти, венчающей долг. Смерть не воспринимается как антипод жизни – это высший виток жизни, долга. Во второй части видение героями предстоящего окутано романтическим флером и подано автором в соответствующей стилистике. Риэко «рада понестись на солнечной колеснице навстречу смерти» [7]. «Смерть, витавшая где-то рядом, не страшила Риэко»… тело мужа, давшее ей счастье, влечет ее за собой к наслаждению, имя которому смерть». Их взаимное решение представляется им свыше благословенными Высшей Справедливостью, Божественной Волей, несокрушимой Нравственностью: «Какая прочная броня Истины и Красоты оберегает их». По мысли поручика, мера полноты счастья и красоты равновелика и в любовной страсти, и в патриотическом чувстве, неотделимом от возможности смерти. «Поэтому поручик был уверен, что никакого противоречия между зовом плоти и патриотическим чувством нет, наоборот, две страсти естественным образом сливались для него воедино» [7; 320]. Так подробно я остановилась на второй части, чтобы подчеркнуть, как много здесь «головного», еще далекого от предстоящего испытания.
Характер повествования в третьей части предваряет фраза из первого абзаца: «Последние минуты жизни мужественной пары были таковы, что дрогнуло бы даже самое каменное сердце». И здесь же был подчеркнут их возраст: поручикау – 31 год, Риэко – 21. Тем самым делается акцент на трагическом столкновении молодости, красоты и физического ужаса умерщвления их. Прав Г. Чхартишвили, верно указывая на художественную силу изображения этой коллизии, но ошибается, когда не видит в ней сознательной авторской установки. Безмерность мук описана так потрясающе представимо, с такой стенографической ежеминутной зримостью, что возникает ощущение наличия какого-то высшего «сверхъестественного» видения происходящего. Повествовательный оптический фокус всевидения – то «изнутри», то в натуралистически ужасающих деталях вызывает потрясение искусством Мисимы, сумевшего душераздирающие сцены описать так «воочию».
И невольно по-европейски задаешься вопросом, как мог он, зная все это, поступить так же в свой последний час. Повесть многослойна. И один из них – видение механизма завораживания, украшения, заклания себя императору возможностью небывалого самовыражения. Срабатывает концепция мужской красоты, которая раскрывается на пределе физических сил и представляет собой мужество, безграничное проявление выдержки, воли – ни единого стона! В абсолюте смерть и есть та единственная возможность для полноты демонстрации мужской красоты. Это счастье в смерти, красоты человека в смерти. А не красота смерти, которая показана натуралистически резко, с ужасом перед насилием над живой плотью. Поэтому поручик рад, что свидетелем будет любимая жена – он предстанет перед нею в высшем своем мужском проявлении. Именно это прежде всего акцентируется автором в третьей части: Такэяма выдержал, казалось бы, невозможное, явив красоту духа. Два импульса его поведения: верность императору и самоутверждение своего достоинства, красоты слились воедино.
Ю. Мисима – культовая фигура для японцев во многих отношениях. Роман Т. Корагессана «Восток есть восток» помогает лучше представить место Мисимы в сознании обычных японцев: у героя в ходу выражения из Мисимы, цитаты из его любимого сочинения самурая, то же мужское и просто человеческое самоутверждение в харакири. В европейском сознании эта японская логика и обычаи представляются варварскими, изуверски жестокими.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!