Текст книги "Зловещий голос. Перевод Катерины Скобелевой"
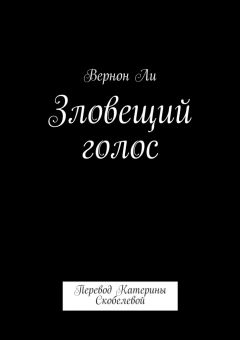
Автор книги: Вернон Ли
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
26 июля
Я получил телеграмму вашей светлости в ответ на свою. Премного благодарен, что отправили к нам князя. Я жду его приезда в лихорадочном нетерпении; это помогает хоть чем-то занять мысли. Кажется, что еще не все кончено. И все же – чем он сможет помочь?
Дети в безопасности: мы подняли их из постелек и привели сюда. Они по-прежнему в легком потрясении из-за пожара, всеобщей суматохи и того, что очутились в незнакомом доме; кроме того, они спрашивают, где их мама; но на глаза им попалась домашняя кошка – и вот я уже слышу, как они что-то щебечут на лестнице.
Сгорела лишь крыша мастерской, залатанная камышом и соломой, да несколько старых балок. Похоже, что Вальдемар тщательно спланировал поджог: принес несколько охапок сухого мирта и вереска, раздобытых в пекарне неподалеку, и набросал в пламя немало сосновых шишек, и плеснул смолы и уж не знаю чего еще, но запах был как от ладана. Когда сегодня рано утром мы наконец пробились в тлеющую мастерскую, то едва не задохнулись от этого горячего аромата, похожего на тот, что бывает в церкви. Разум мой на миг помутился, и неожиданно я вспомнил, как в детстве ходил в храм Святого Петра на Пасху.
Все случилось прошлой ночью, в то самое время, когда я писал вам. Гертруда отправилось спать, оставив мужа в мастерской. Примерно в одиннадцать часов служанки услышали, как он вышел и позвал Дионею, чтобы она встала с постели и пришла позировать для него. На Вальдемара и прежде находила подобная блажь – желание посмотреть на свою натурщицу и пока еще не готовую статую при искусственном свете: вы помните, у него были кое-какие теории насчет того, каким образом в античные времена освещали статуи в храмах. Слуги говорят, что слышали, как Гертруда на цыпочках спустилась по лестнице чуть позднее.
Вы видите эту сцену? Она много часов стоит у меня перед глазами, и кажется, что прошли недели и месяцы. Он велел Дионее взойти на большую глыбу мрамора, так чтобы девушка стояла, точно Мадонна у ван Эйка4848
Ян ван Эйк (ок. 1390—1441) – нидерландский живописец.
[Закрыть], на фоне тяжелой занавеси из тускло-красной парчи – вы знаете эту венецианскую парчу с орнаментом из золотых гранатов. Прежде он как-то раз показывал мне Дионею в таком виде: белизна ее шеи и груди и белизна ткани, ниспадающей складками с ее бедер, были окрашены в тона старого мрамора светом от смолы, зажженной в расставленных повсюду плошках… У ног Дионеи был алтарь – тот самый алтарь Венеры, позаимствованный у меня. Вальдемар, должно быть, уже собрал вокруг него охапки роз и бросил ладан на угли, когда неожиданно вошла Гертруда. А потом, потом…
Мы нашли ее распростертой на алтаре: белокурые волосы разметались средь пепла благовоний, и ее кровь – немного же в ней было крови, в этом несчастном белом призраке! – стекала меж каменных гирлянд и бараньих голов, окрашивая розы в черный цвет. Тело Вальдемара обнаружили у подножия замковой скалы. Надеялся ли он, устраивая поджог, в раскаянии сгинуть среди руин или скорее желал таким образом довершить жертвоприношение – превратить весь храм в гигантский костер во исполнение некоего обета? Именно так все и выглядело со стороны, когда мы спешили вниз по холму, в Сан-Массимо; целый склон, заросший сухой травой, миртом и вереском, был в огне: бледные язычки пламени волнами вздымались и опадали на фоне синего неба при полной луне, и силуэт старого форта казался черным по контрасту с этим сиянием.
30 августа
О Дионее ничего не могу сказать достоверно. Мы стараемся говорить о ней как можно меньше. Ходит слух, что кто-то видел, как ночами в штормовую погоду она бродит среди скал, однако один мальчик-морячок уверяет меня, клянясь всем святым, что наутро после пожара в часовне – мы никогда не называем это событие иначе – он видел, как греческая ладья с намалеванными на бортах глазами, миновав на заре остров Пальмария, на всех парусах выходила в море из залива Портовенере, и мужчины пели за работой, налегая на весла. А прислонившись к мачте, облаченная в пурпурно-золотой плащ и с миртовым венком на голове, стояла Дионея, напевая что-то на непонятном языке, и вокруг нее вились белые голуби.
Майяно, близ Флоренции, июнь 1889 года
Зловещий голос
Посвящается М. У.4949
М.У. – Мэри Уэйкфилд, певица.
[Закрыть] – в память о последней песне в палаццо Барбаро, «Chi ha inteso, intenda»5050
Кто знает, тот поймет (итал.)
[Закрыть].
Сегодня меня вновь поздравляли с тем, что в наше время – во дни оглушительных оркестровых эффектов и поэтического шарлатанства – я единственный из композиторов, кто отринул новомодное сумасбродство Вагнера и смело вернулся к традициям Генделя, Глюка и божественного Моцарта, главенству мелодии и уважительному отношению к человеческому голосу.
О, будь проклят этот голос, скрипка из плоти и крови, созданная при помощи хитроумных инструментов ловкими руками Сатаны! О, мерзкое певческое искусство, не достаточно ли бед ты принесло в прошлом, низведя до полнейшего ничтожества несметное число благородных гениев, испоганив чистоту Моцарта, превратив Генделя в сочинителя первоклассных вокальных упражнений и обманом лишив мир источника душевного подъема, единственно равного тому, что дали нам Софокл и Еврипид, – поэзии великого Глюка? Недостаточно тебе было обесчестить целое столетие, заставив всех преклоняться перед этой нечестивой и презренной тварью, певцом, без того чтобы преследовать безвестного молодого композитора наших дней, чье единственное богатство – его любовь к величию в искусстве и, быть может, несколько крупиц таланта?
А затем меня начинают осыпать комплиментами: мол, с каким совершенством я имитирую манеру великих мастеров, покойных ныне, – или же с полной серьезностью спрашивать, есть ли шанс – в том случае, если мне удастся склонить благосклонность современной публики к этому позабытому музыкальному стилю, – отыскать певцов, способных исполнить подобные композиции. Порой, когда люди начинают говорить со мною таким образом, совсем как сегодня, и смеяться, когда я провозглашаю себя последователем Вагнера, мною овладевает приступ неконтролируемой, ребяческой ярости, и я восклицаю: «Еще увидим!»
О да, когда-нибудь увидим! Ведь, в конце-то концов, неужто я не оправлюсь от этой страннейшей из всех болезней? Еще есть надежда, что придет день, когда все произошедшее покажется мне неправдоподобным кошмаром, день, когда «Ожье-датчанин»5151
Ожье-датчанин – один из героев французских эпических сказаний, в том числе цикла о деяниях Карла Великого. Согласно одной из легенд, он попал под чары феи Морганы и провел с ней два столетия, а затем вернулся в реальный мир.
[Закрыть] будет завершен и станет очевидно, следую ли я примеру великого мастера музыки Будущего или жалких певунов Прошлого. Я околдован лишь наполовину, если сознаю, что связан заклятьем. Моя старушка-няня, в далекой-предалекой Норвегии, когда-то говорила мне, что вервольфы полжизни проводят как обычные мужчины и женщины – и если в это время они вдруг поймут, какое ужасное превращение им суждено претерпевать, то сумеют отыскать средство, чтобы исцелиться. Не так ли дело обстоит и со мною? Разум мой наконец свободен, хоть творческое вдохновение и связано узами, и я могу презирать и ненавидеть ту музыку, которую вынужден сочинять, равно как и ту омерзительную силу, в чьей власти я пребываю.
Уж не потому ли я стал жертвой столь мистической, невероятной мести, что с ожесточенным упорством изучал извращенную и совращающую музыку Прошлого, выискивая мельчайшие особенности тогдашнего стиля и пустячные биографические детали лишь для того, чтобы полнее продемонстрировать всем ее низменную сущность? Не из-за этой ли самонадеянной смелости?
Единственное облегчение для меня пока состоит в том, чтобы снова и снова прокручивать в памяти историю собственных злоключений. На сей раз я запишу ее, предам бумаге лишь для того, чтобы затем разорвать эту рукопись и бросить, никем не прочитанную, в огонь. Хотя кто знает? Когда последние обугленные страницы, потрескивая, медленно съежатся на красных угольках, возможно, заклятье будет снято, и я вновь обрету давно потерянную свободу и свой утраченный талант.
То был душный вечер полнолуния, безжалостного полнолуния, когда Венеция, залитая мерцающим светом, изнемогала от зноя среди вод даже более, нежели в сонной сияющей ряби полуденного прилива, и, казалось, источала, подобно огромной водяной лилии, таинственные ароматы, способные затуманить разум, а в сердце влить слабость – этакую духовную малярию, порожденную, как мне чудилось, томными мелодиями, воркующими переливами голоса, обнаруженными мною в заплесневелых нотных книгах столетней давности. Этот лунный вечер как сейчас у меня перед глазами. Я вижу своих сотоварищей – жильцов маленького пансиона для творческих личностей. Стол, над которым они склонились после ужина, весь усеян хлебными крошками, салфетками в кольцах, тут и там измаран пятнами от вина, а через равные промежутки на нем стоят щербатые перечницы, подставки с зубочистками и вазы с огромными, совершенно твердокаменными персиками, как будто природа изваяла их по примеру мраморных шаров из какой-нибудь лавочки безделушек в Пизе. Все обитатели пансиона в сборе и глупо таращатся на гравюру, привезенную мне американским офортистом: он знал мое сумасшедшее увлечение музыкой и музыкантами XVIII столетия и, перетасовывая стопки эстампов посреди площади Святого Павла, заметил, что на сем портрете как раз изображен певец той эпохи.
Певец, исчадие зла, глупый и нечестивый раб инструмента, изобретенного не человеческим разумом, но порожденного плотью, который, вместо того чтобы трогать душу, всего лишь вздымает муть с ее дна. Ибо что есть голос, как не зов Зверя, пробуждающий своего собрата, дремлющего в глубинах человеческой природы, Зверя, коего все великое искусство всегда стремилось обуздать, подобно тому как архангел на старых полотнах накладывает путы на демона в женском обличье? Как может существо, прикованное к этому голосу, его хозяин и жертва, певец, истинный певец, некогда великий покоритель людских сердец, не быть грешником, достойным лишь презрения? Впрочем, надо собраться с силами и продолжить свой рассказ.
Как сейчас, вижу я пред собою всех своих товарищей из пансиона: вот они облокотились о стол, рассматривая гравюру – этого женоподобного щеголя с волосами, уложенными в прическу ailes de pigeon5252
«Крыло голубя» – мужская прическа с локонами на висках. Сзади волосы стянуты лентой.
[Закрыть], и шпагой, продетой сквозь украшенный вышивкой карман, изображенного сидящим под сводами триумфальной арки среди облаков, в окружении пухленьких купидончиков, в то время как богиня славы склонилась над ним, чтобы увенчать его лавровым венком. Я вновь слышу все эти пошлые восклицания и пошлые вопросы о сем певце: «А когда он жил? Был ли он знаменит? А ты уверен, Магнус, что это действительно чей-то портрет?» – и так далее, и так далее. И также я слышу собственный голос, он доносится словно из дальней дали: вот я излагаю биографические сведения, равно как и отзывы критиков, почерпнутые мною в потрепанном томике под названием «Театр музыкальной славы, или соображения касательно наиболее знаменитых капельмейстеров и virtuosi сего столетия. Писано отцом Просдосимо Сабателли из ордена святого Варфоломея, профессором красноречия в Моденском колледже и членом Аркадской академии5353
Аркадская академия – римское общество поэтов и любителей искусства, основанное в 1690 году с целью противодействия испорченному литературному вкусу XVII столетия. Все члены академии носили идиллические (греческие пастушьи) имена и заседали в масках и костюмах аркадских пастухов, на открытом воздухе.
[Закрыть], состоящего в оной под идиллическим именем Эвандр Лилибеец5454
Лилибей – древний город на острове Сицилия, основанный карфагенянами.
[Закрыть], в Венеции, в 1785 году с дозволения вышестоящих лиц». Я объясняю всем, по какой причине этот певец, этот Бальтазар Чезари был прозван Заффирино5555
Zaffirino (итал.) – сапфирный.
[Закрыть]: однажды вечером некий человек в маске преподнес ему в подарок сапфир с начертанными на нем каббалистическими знаками, а был этот незнакомец, по мнению знающих людей, не кто иной, как великий ценитель человеческого голоса – дьявол; и еще я рассказываю, насколько певческий дар этого Заффирино превосходил способности всех прочих певцов древности или современности: его непродолжительная жизнь была чередой триумфов, и прошла она под покровительством величайших особ королевской крови; его превозносили самые знаменитые поэты и, наконец, как добавляет отец Просдосимо, «окружали – да будет дозволено суровой музе истории прислушаться к сплетням о любовных интрижках – самые прелестные нимфы, да к тому же высокородного происхождения».
Друзья мои вновь принимаются разглядывать гравюру, со всех сторон сыплются очередные пошлые замечания, меня упрашивают – в особенности юные американские леди – сыграть или спеть одну из любимых песен этого Заффирино: «Вы ведь наверняка знаете их, дорогой маэстро Магнус: вы же испытываете столь сильную страсть к музыке прежних дней. Будьте паинькой и садитесь к фортепьяно». Я отказываюсь, довольно-таки грубо, и скручиваю гравюру в свиток. Похоже, эта проклятая жара, эти проклятые лунные ночи расшатали мои нервы самым ужасающим образом. Без сомнения, Венеция непременно погубит меня когда-нибудь! Один только вид этой дурацкой гравюры, одно только имя этого самовлюбленного, расфуфыренного певца заставили мое сердце биться чаще, а члены мои – обратиться в воду, словно я больной от любви, неуклюжий юнец.
После моего резкого отказа компания начинает потихоньку расходиться; народ собирается отправиться на прогулку – одни желают прокатиться на лодке по лагуне, другим хочется пофланировать вдоль кафе на площади Святого Марка; начинаются семейные споры – ворчание отцов, бормотание матерей, взрывы смеха юношей и девушек. А лунный свет, лиясь в распахнутые окна, обращает эту бальную залу старого дворца, ныне обеденную комнату гостиницы, в лагуну, полную мерцающих волн, столь похожую на другую лагуну, настоящую, что простирается вон там, бороздимая незримыми гондолами – их выдают лишь красные огоньки фонарей на носу каждой лодки. Наконец вся толпа отправляется в путь. Я смогу обрести хоть немного тишины в своей комнате и чуточку поработать над своей оперой «Ожье-датчанин». Но нет! Разговор оживает вновь, и речь заходит не о чем ином, как об этом певце, этом Заффирино, чей нелепый портрет похрустывает у меня в руках.
Говорит в основном граф Альвизе, старый венецианец с крашеными бакенбардами, огромным клетчатым галстуком, закрепленным двумя булавками и цепочкой, потрепанный аристократ, который отчаянно хочет устроить брак своего долговязого сына вон с той миленькой американочкой, чья мать зачарована его россказнями о былой славе Венеции в целом и о блистательном прошлом его семьи в частности. Для чего, во имя небес, он остановился на имени Заффирино, предаваясь своим мечтаниям, этот старый никчемный аристократишка?
– Заффирино – ах да, точно! Бальтазар Чезари по прозвищу Заффирино, – гнусавит граф Альвизе: он повторяет последние слова в каждой фразе по крайней мере трижды. – Да, Заффирино, точно! Знаменитый певец времен моих праотцев, да, моих праотцев, милая леди!
Далее следует множество пустых рассуждений о былом величии Венеции, славной музыке прошлого, прежних консерваториях, и все это вперемежку с анекдотами из жизни Россини и Доницетти, с которыми он был якобы близко знаком. Наконец – сама история, разумеется, украшенная многочисленными упоминаниями о собственном блистательном семействе («Моя двоюродная бабушка, прокурорша Вендрамин, от которой мы получили в наследство имение Мистра на Бренте…»); безнадежно запутанная история, по-видимому, полная отступлений, но этот певец Заффирино является в ней главным героем. Рассказ постепенно становится все более осмысленным, или, быть может, я просто начинаю внимательнее прислушиваться к нему.
– Кажется, – говорит граф, – одна из его песен была знаменита в особенности: так называемая «Ария мужей», «L’Aria dei Mariti», поскольку им она нравилась не так сильно, как их лучшим половинам… Моя двоюродная бабушка, Пизана Ренье, вышедшая замуж за прокурора Вендрамина, была знатной дамой старой закалки – таких еще сотню лет назад надо было поискать. Добродетель и гордость снискали ей славу недоступной женщины. Заффирино, со своей стороны, имел привычку хвастаться, что ни одна дама не в состоянии противостоять чарам его голоса, причем, похоже, небезосновательно – идеалы меняются, моя дорогая леди, идеалы меняются очень сильно из столетия в столетие! – и утверждал, что первая его песня способна заставить любую женщину побледнеть и опустить взгляд, вторая – влюбиться до безумия, третья же – убить ее на месте, погубить этой любовью, тут же у него на глазах, если бы он только пожелал. Моя двоюродная бабушка, госпожа Вендрамин, посмеялась, когда ей поведали эту историю, отказалась идти послушать этого наглого пса и добавила, что вполне возможно убить благородную даму с помощью заклятий и сделок с дьяволом, но вот заставить ее влюбиться в лакея – никогда! Естественно, этот ответ довели до сведения Заффирино, а он гордился тем, что брал верх над всяким, кто хотел с ним потягаться, когда речь заходила о неуважительном отношении к его голосу. Как говорили древние римляне, pacere subjectis et debellare superbos5656
Ниспроверженных щадить и укрощать горделивых (лат.)
[Закрыть]. Вы, американские леди, такие образованные, должны оценить эту цитату из божественного Вергилия. Хоть Заффирино на первый взгляд избегал общества прокурорши Вендрамин, но однажды вечером на большом балу он воспользовался возможностью спеть в ее присутствии. Он пел, и пел, и пел, пока бедная двоюродная моя бабушка Пизана не занемогла от любви. Самые искусные врачи были не в состоянии объяснить, что за таинственный недуг убивает несчастную молодую даму буквально на глазах, а прокурор Вендрамин тщетно взывал к наиболее чтимым изображениям Богоматери и напрасно обещал преподнести в дар святым Козьме и Дамиану, покровителям целительского искусства, серебряный алтарь с массивными золотыми подсвечниками. Наконец деверю прокурорши, монсиньору Алморо Вендрамину, епископу Аквилейскому – прелату, известному своей безгрешностью – в видении о святой Юстине, к которой он испытывал особую привязанность, открылось, что излечить странную болезнь невестки способен лишь голос Заффирино. Примите во внимание, что моя бедная двоюродная бабушка никогда бы не унизилась до подобного признания.
Прокурор пришел в восторг оттого, что наконец-то нашлось столь прекрасное решение; его святейшество самолично отправился к Заффирино и в собственной карете доставил его на виллу Мистра, где пребывала прокурорша.
Когда моей бедной двоюродной бабушке сообщили, что именно должно случиться, ею овладел приступ гнева, но его немедленно сменила столь же необузданная радость. При этом Пизана была далека от того, чтобы забыть о своем высоком положении. Будучи почти при смерти, она тем не менее нарядилась с величайшей пышностью, велела нарумянить ей щеки и надела все свои бриллианты: казалось, она озабочена тем, чтобы с подобающим достоинством предстать перед певцом. Соответственно, она приняла Заффирино, возлежа под роскошным балдахином на софе, перенесенной в большой бальный зал виллы Мистра: Вендрамины, благодаря брачным узам, связавшими их с правителями Мантуи, располагали обширными владениями, являясь князьями Священной Римской Империи. Заффирино поклонился ей с величайшим почтением, однако они и словом не обмолвились. Певец лишь осведомился у прокурора, соборовали ли сиятельную даму. Узнав, что прокурорша сама попросила деверя о помазании, Заффирино объявил, что готов повиноваться приказам его высокопревосходительства, и немедленно сел за клавесин.
Никогда прежде он не пел так божественно. К концу первой же песни прокурорша Вендрамин воспрянула к жизни самым изумительным образом, к финалу второй казалась совершенно исцеленной и лучилась красотой и счастьем, однако во время третьей арии – то была, без сомнения, «Aria dei Mariti» – все изменилось самым зловещим образом: она испустила душераздирающий крик и упала в предсмертных судорогах. А четверть часа спустя уже была мертва! Заффирино не стал дожидаться, пока она скончается. Исполнив арию до конца, он немедленно бежал и мчался в почтовой карете день и ночь, пока не добрался до Мюнхена. Поговаривали, что он явился на виллу Мистра в траурном наряде, хотя и не упоминал о смерти кого-либо из родственников, а также ходили слухи, что он заранее подготовился к отъезду, словно опасался мести столь могущественного семейства. Кроме того, он задал странный вопрос перед тем, как начал петь: исповедовалась ли прокурорша и соборовали ли ее… Нет, благодарю, моя милая леди, сигареты я не курю. Однако, если это не будет чересчур неприятно для вашей очаровательной дочери, могу ли я смиренно просить дозволения выкурить сигару?
И граф Альвизе, в упоении от собственного таланта рассказчика, уверенный, что завоевал для сына сердца и доллары прекрасных слушательниц, зажигает свечу, а от нее прикуривает одну из тех длинный, черных итальянских сигар, которые надобно бы дезинфицировать перед использованием.
…Если так пойдет и дальше, придется, пожалуй, разжиться у доктора бутылочкой с лекарством; это дурацкое сердцебиение и отвратительный холодный пот все сильнее мучили меня во время рассказа графа Альвизе. Пытаясь держать себя в руках, несмотря на поток идиотских комментариев, вызванных этой малоправдоподобной историей о самодовольном голосистом хлыще и знатной даме-бахвалке, я разворачиваю свиток с гравюрой и отупело вглядываюсь в портрет Заффирино, некогда столь почитаемого, а ныне всеми позабытого. Этот певец выглядит просто каким-то нелепым ослом на фоне своей триумфальной арки, в компании откормленных купидончиков и дебелой, грузной кухарки с крыльями, венчающей его лавровым венком. Да уж, как это пошло, как безвкусно и вульгарно, право же, как, впрочем, и весь этот омерзительный восемнадцатый век!
Однако сам он не так уж и безынтересен, как мне показалось вначале. Его женственное, округлое лицо со странной ухмылочкой, бесстыдной и жестокой, почти прелестно. Я видел подобные лица, если не наяву, то по крайней мере в романтических грезах юности, когда зачитывался произведениями Суинберна и Бодлера: то были лица недобрых, мстительных женщин. О да! Он определенно был красивым созданием, этот Заффирино, и голос его, наверное, был столь же прекрасен и отмечен той же печатью порока…
– Ну же, Магнус, – донеслись до меня голоса соседей по венецианскому пансиону, – будь добр и спой нам одну из песенок этого гражданина, ну или хотя бы какую-нибудь вещицу того времени, а мы представим, что это песня, убившая ту бедную даму.
– О да, «Aria dei Mariti», «Ария мужей», – бормочет старик Альвизе, попыхивая своей невозможной черной сигарой. – Моя бедная двоюродная бабушка Пизана Вендрамин – он взял да и убил ее этими своими песнями, этой «Aria dei Mariti».
Я чувствую, как на меня накатывает волна бездумной ярости. Неужели всему виной ужасное сердцебиение, которое гонит кровь прямиком мне в мозг и сводит меня с ума? (Сейчас в Венеции как раз остановился норвежский доктор, мой соотечественник, и это очень кстати.) Люди возле пианино, мебель, все это, кажется, сливается воедино и превращается в движущиеся вокруг меня пятна цвета. Я начинаю петь; отчетливым у меня перед глазами остается лишь портрет на краешке пансионного фортепиано; чувственное, женоподобное лицо со зловещей, циничной ухмылочкой то появляется, то исчезает – гравюру колышет сквозняк, из-за которого дымят и оплывают свечи. И вот я пою со все более неистовым пылом, пою – сам не знаю что. Да, я начинаю узнавать эту мелодию: это «La biondina in gondoleta»5757
«Блондинка в гондоле» (ит.)
[Закрыть], единственная песня восемнадцатого века, которая еще не выветрилась из памяти венецианцев. Я вывожу ее, подражая сладкозвучию старой школы, – все эти трели, каденции5858
Каденция – гармонический или мелодический оборот, завершающий музыкальное произведение или его часть.
[Закрыть], томительно нарастающие и слабеющие ноты – и всячески кривляясь при этом, пока изумленные слушатели, наконец пришедшие в себя, не начинают трястись от смеха, пока я не начинаю смеяться и сам, безумно, буйно, в перерывах между музыкальными фразами, пока мой голос не прерывается совсем: я задыхаюсь от этого глухого, грубого хохота… А потом, в довершение всего, я потрясаю кулаком, грозя давно мертвому певцу с личиком испорченной женщины и дурацкой, издевательской усмешкой.
«Ах, ты бы и мне желал отомстить! – восклицаю я. – Ты бы хотел, чтобы я сочинял для тебя чарующие рулады и вокальные орнаменты, написал тебе еще одну пленительную „Арию мужей“, дорогой мой Заффирино!»
В ту ночь мне приснился очень странный сон. Жара и духота были невыносимыми даже в просторной, скудно меблированной комнате. Казалось, что воздух наполнен слабым, но тяжелым из-за своей нестерпимой сладости ароматом всевозможных белых цветов – тубероз, гардений и жасмина, вянущих неведомо где в позабытых всеми вазах. Лунный свет превратил мраморные плиты пола вокруг меня в неглубокую сияющую заводь. Из-за жары я прикорнул не на кровати, а на широкой старомодной софе из светлого дерева, расписанной букетиками и веточками, точно старинная шелковая ткань; и вот я лежал там, даже не пытаясь уснуть и предаваясь смутным размышлениям о своей опере «Ожье-датчанин»: я давно написал к ней либретто, а для музыки надеялся найти вдохновение в этой странной Венеции, дрейфующей, так сказать, в стоячих водах лагуны прошлого. Но Венеция лишь безнадежно спутала мои замыслы; с ее мелководья как будто поднимались миазмы давно мертвых мелодий, и они не только наполняли мою душу отвращением, но и дурманили ее. Я лежал на софе, глядя в этот омут белесого света, который поднимался все выше и выше: маленькие струйки света вливались в него тут и там, как только лунные лучи натыкались на какую-то гладкую поверхность, и гигантские тени колыхались на сквозняке, ползущем из распахнутой на балкон двери.
Я вновь и вновь прокручивал в уме эту старую норвежскую историю – о том, как паладин Ожье, один из рыцарей Карла Великого, по пути домой из дальнего странствия в Святые Земли был завлечен чарами одной волшебницы, той самой, что когда-то держала в плену великого императора Юлия Цезаря и подарила ему сына, короля Оберона; о том, как Ожье задержался на ее острове всего лишь на один день и одну ночь, но когда вернулся в свое королевство, то обнаружил, что все переменилось: его товарищи умерли, семья лишилась трона, и ни один человек не узнавал его в лицо; он скитался, точно нищий, пока наконец над его страданиями не сжалился бедный менестрель и не подарил ему все, что мог – песню о доблести героя, умершего столетия назад, песню о паладине Ожье-датчанине.
История об Ожье плавно сменилась сном, настолько же ярким, насколько туманными были мои мысли наяву. Я смотрел уже не на озерцо лунного сияния, растекающегося вокруг моей лежанки ручейками света средь смутного колыхания теней, а на покрытые фресками стены огромной гостиной. Как я понял в ту же секунду, то была не столовая венецианского дворца, ныне превращенного в пансион. Это было помещение намного больше – настоящий бальный зал, восьмигранный, но почти округлый, с восемью белыми дверями, обрамленными лепниной, и восемью небольшими галереями, или альковами наподобие театральных лож, высоко под сводом потолка, предназначенными, без сомнения, для музыкантов и зрителей. Все пространство тускло освещала лишь одна из восьми люстр, что медленно вращались на длинных цепях, точно гигантские пауки. Свет, впрочем, озарял золоченую лепнину напротив меня, и обширный фрагмент фрески, изображающей жертвоприношение Ифигении, с Агамемноном и Ахиллом в древнеримских шлемах, туниках и штанах до колен, а также выхватывал из темноты одну из заключенных в рамы панелей на потолке, представляющую собой написанную маслом картину: на ней была богиня, облаченная в одежды лимонного и сиреневого оттенка, низкорослая в сравнении с огромным зеленохвостым павлином рядом с ней. Внизу – там, куда падал свет, – виднелись широкие лежанки, обитые желтым атласом, и тяжелые позолоченные консоли, в затененном углу – что-то похожее на фортепиано, а дальше в сумраке – один из тех больших балдахинов, что украшают приемные залы итальянских дворцов. Я огляделся по сторонам, недоумевая, где нахожусь; густой, сладкий аромат, напоминающий запах персика, наполнял все вокруг.
Мало-помалу я начал различать звуки – короткие, отрывистые: отдельные ноты с металлическим отзвуком, точно кто-то играл на мандолине; к ним приплетался голос, очень низкий и нежный, почти шепот, и звук его все нарастал, и нарастал, и нарастал, пока все вокруг не наполнилось изысканной, трепещущей мелодией – странной, экзотической, неповторимой. Одна-единственная нота все тянулась, усиливаясь, усиливаясь… Неожиданно раздался ужасный, пронзительный вскрик, а затем глухой звук, словно чье-то тело рухнуло на пол, и послышались нестройные, приглушенные восклицания. Внезапно рядом балдахином появился свет, и меж темных фигур, мечущихся по комнате, я смог разглядеть лежащую на полу женщину, окруженную другими дамами. Ее белокурые волосы – спутанные, полные бриллиантовых искорок, остро поблескивающих в полутьме – растрепались; завязки корсета были разрезаны, и ее белая грудь сияла в отблесках усыпанной драгоценными каменьями парчи; голова склонилась вперед, а худенькая белая рука, точно сломанная, болталась на коленях одной из женщин, которые силились приподнять свою госпожу. Вдруг кто-то плеснул водой на пол, снова раздались смущенные возгласы, их прервал хриплый, сдавленный стон, а затем ужасный булькающий звук… Я внезапно очнулся и бросился к окну.
Снаружи, в голубоватой лунной дымке, возвышались синевато-размытые контуры церкви и колокольни святого Георгия, а перед ними чернели корпус и снасти и мерцали алые огоньки пришвартованного рядом большого парохода. От лагуны веял влажный морской ветерок. Что это было такое? Ах! Я начал понимать: это все история старого графа Альвизе, смерть его двоюродной бабки, Пизаны Вендрамин. Да, во сне именно она мне и привиделась.
Я вернулся в комнату, зажег свет и сел к письменному столу. Мне уже было не уснуть, и я принялся за работу над своей оперой. Раз-другой я уже мнил, будто мне удалось ухватить то, что я искал так долго… Но едва я пытался запечатлеть свою музыкальную тему на бумаге, у меня в голове появлялось отдаленное эхо того голоса, той протяжной ноты, медленно, неуловимо нарастающей, той длинной ноты, чье звучание было столь нежным и в то же время столь сильным.
В жизни человека творческого есть такие моменты, когда он, еще не в силах подчинить себе вдохновение и даже со всей ясностью распознать, что оно принесет, уже предчувствует приближение некой давно зреющей идеи. Радость пополам с ужасом упреждает его о том, что не пройдет и дня, а то и часа – и вдохновение переступит порог его души и наполнит ее восторгом. Весь день я чувствовал, как необходимы мне одиночество и тишина, и когда стали сгущаться сумерки, отправился на морскую прогулку по самой безлюдной части лагуны. Все, казалось, говорило о том, что меня вот-вот посетит вдохновение. И я ждал его, как любовник ждет появления своей дамы сердца.
Я велел ненадолго остановить гондолу, и пока она покачивалась на волнах, облицованных лунными лучами, мне чудилось, будто я нахожусь на самой границе некоего воображаемого мира. Стоит лишь протянуть руку – и вот он предо мною, окутанный светозарным, бледно-голубым туманом, сквозь который луна прорезала широкую мерцающую тропу; крошечные острова в открытом море, похожие на почернелые лодки у причала, лишь подчеркивали безлюдье этого края лунных лучей и зыби на воде, а жужжание насекомых в прибрежных садах едва ли нарушало впечатление, что вокруг царит безмятежная тишина. По таким вот морским просторам, подумалось мне, должно быть, плыл и паладин Ожье, перед тем как обнаружить, что за то время, пока он спал у ног волшебницы, прошли столетия и наступил закат эры героев, а на смену ей пришло царствие прозы.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































