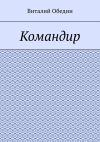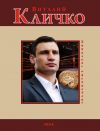Текст книги "Игра взаперти"

Автор книги: Виктор Брусницин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Первое конкретное уравнение, связанное с папашей, возникшее в юности, составляло вопрос – как такого человека можно любить. Вопрос пришел закономерно, поскольку особо впечатляющий след, проложенный отцом, был трагедия матери, женщины тихой, мягкой, по-видимому, безнадежно влюбленной в мужа. Кретов служил биологом и в командировках пропадал уйму времени, ибо разброс его интересов был полярный: от дельфинариев на Черном море до нерестилищ дальневосточных рек, от уток в дельте Волги до пушного зверья в заповедниках Сибири. И мать в отлучки отца, пропитанная неизбывной атмосферой сплетен, часто укромно всхлипывала одинокими ночами. Там была какая-то темная история, существовал безнадежный воздыхатель матери, сослуживец отца, над которым батя подтрунивал, и подчас безжалостно.
Здесь и примечательно, свое негодование по поводу семейного позора и прямой несправедливости, Евгений никак не мог превратить в недоверие к отцу. Он уже тогда вынужден был признаться, что все оборачивается жгучим интересом к родителю и жалостью к матери, но никак не любовью. И принужден был сделать заключение о нелицеприятных мотивах, которые состоят в том, что мать есть безоговорочная собственность, а отец – терра инкогнито.
Пресловутый вопрос находил замечательную питательную среду, ибо коварство личности отца имело цепкое распространение. Несомненно, тот был повинен в несуразной участи дочери. Инна, девушка красивая и умная, долго копалась в женихах, вышла замуж в двадцать семь, рожать не стала, а вскоре прервала супружество, чему причиной, несомненно, служили интриги отца – Инна и в замужестве жила с родителями – который не умел делить любовь дочери с кем-либо. Нормальной семьей пошла жить только после тридцати, вслед за смертью папаши.
Уж однозначно, вопрос этот взбухал при взгляде на самую жизнь Евгения, потому что именно отец затейливым и оттого беспощадным способом сочинил драматическую подоплеку существования сына.
И странным образом, как все, что касалось отца, вопрос угас с его смертью. Только тогда оный растворился в догадке, что Евгений любит отца содержательно, веско. Впрочем, и тут горю истинному и, пожалуй, неожиданному искал поначалу сынок причины, и пенял на то, что в отце не было домогательства, собственнической страсти, его одиночество обособляло и охраняло от насилия. Однако позже, замечая тоску по родителю, видя ночные и светлые слезы воспоминания, он, порой стыдясь, уломал себя не браться за вопросы, ибо пришло одно из тех редких и чудесных откровений, которые отделяют от массы и украшают при взгляде в зеркало.
Итак, драма Евгения и авторство Кретова-старшего. Из-за отношения отца к женщинам, от собственного взгляда на жену и родителя Женя определял себя эрзац-особью, недоделком, человеком, стремящимся к женщине и отталкивающим ее одновременно. Именно здесь обозначилась склонность ковыряться в действительности, неумолимые любопытство и бессилие. Несомненно, эти особенности уклоняли от нормальной стези и, по существу, коверкали жизнь.
– Первым быть проще, чем лучшим, – говорил отец, – потому что здесь не обязательно иметь нравственность.
Пустая, брошенная в веселом кругу фраза – спорили, кажется, о рокмузыке – а поди ты, Евгений постановил, что станет нравственным человеком. И старательно пытался не уклонится от решения… В зрелости, анализируя поступки и душевные движения, он признавался, что разговоры папаши оказывали магическое влияние. Причем действовали выборочные смыслы, иногда отдельные слова – зачастую всего лишь интонации.
Стоял прелестный день недалекой осени. В облысевших деревьях шныряли мягкие пронырливые лучи, покореженный, пегий лист хрупал под ногами. Женя шел домой из школы и дышал. Он был рад дню, городу, присутствию.
Увидев в прихожей плащ отца и не обнаружив самого в комнатах и кухне, парнишка настроения не переменил. Некоторое время мотался по квартире, проделывая переодевание и прочие процедуры, и в общем отсутствовал. Неожиданно обнаружил себя стоящим посреди комнаты и вслушивающимся в овальную тишину помещения – звенела несообразность.
Невесть какая сила двинула отрока. Женя шел по коридору вкрадчиво, настойчиво, бездумно. До микрона выверенным движением отслонил от пола табурет. Поставил таковой к соседской двери, гуттаперчиво переместил центр тяжести тела, взлез на приспособление и поместил голову на уровень последнего, не закрашенного стеклянного окошка.
На кровати, напряженно-безучастная, лежала хозяйка комнаты, красивая и молодая тетя Вера. Из халата ее выпала и словно водопад ушла в подмышку колоссальная, завершенная шляпкой соска грудь, рука с оголенным локтем придерживала распадающуюся прическу… По ней ритмически и сосредоточенно двигался отец.
Парнишка уже заставал того с чужими женщинами, и случалась безмолвная истерика, однако последствия этого прецедента приобрели самые обширные размеры. Начались эротические кошмары. Как только Женя достигал постели, тело его врывалось в иную жизнь, в отчаявшемся мозгу сновали безумные образы, вся кровь уходила в чресла, член отвратительно воспалялся, токая и напрягаясь до боли. И удостоившись мерзкого выбрасывания, уходя в недолгую апатию, тело Евгения обрушивалось в липкое и беспощадное отвращение.
Он стал ненавидеть член, тело, себя. Он решил бороться. Устроившись в постели, еще не выдохнув будничную жизнь, еще не плененный властью пениса, Женя прислонял его к промежности и мертво сводил ноги, устраивая перегородку дикому зверю. Когда подходила дрема, монстр просыпался – колотился, рвался в пространство. Но стоик держался. Чудовище корчилось в клетке, изрыгало злобу, однако уже не доставляло того отвращения. Наверное, присутствие противодействия очищало юношу.
Сражения длились с завидной продолжительностью. Наконец Евгений стал замечать, что позорная опухоль начала уступать, – уменьшилось напряжение, сократились извержения, Женя пробовал разжимать ноги, животное пыталось, но уже достаточно вяло.
Вскоре встряхнуло ошеломительной догадкой. Юноша захлебнулся от ужаса, поняв, что убил в себе мужчину. Но и здесь существовал занимательный вираж – ужас владел недолго, и распорядилась психикой та неприсущая возрасту мысль, что половой акт совсем не апофеоз, а едва ли не прагматический жест. Разумеется, руку обратно приложил отец. Тот не раз говорил – редко себя отец умерял педагогическими соображениями – что телесную покорность женщины не следует рассматривать как мужское достижение, ибо часто здесь женская провокация. Притом он рассуждал и вообще об ущербности игры, так как усматривал отсутствие правил, – причем исключительно с женской стороны. Слишком много бессознательного. Они пользуются любыми средствами якобы из-за природной слабости. Мужчина более нравственен, порядочен – от разума. Невольно соблюдает регламент в средствах, значит, ограничен. В этом и состоит феномен женской силы… Между прочим, именно отсюда имеется потребность поделиться: хочется ввести деяния в круг привычных норм.
Собственно, не столько эти рассуждения составили дело для Евгения, а общее отношение отца к женщинам – разве не лицемерное.
Это явилось одной из загадок. Евгений так и не понял: то ли отец был слишком способен ко всему и оттого пренебрежителен, – либо напротив, не до конца востребован в профессии и она его не удовлетворяла (работа было единственное, о чем он не любил распространяться), согласно чему собственный изъян возмещал в женщинах, и, презирая себя, не доверялся им. Словом, неспособность оценить отца толкала Евгения к составлению порой абсурдных схем.
Тем временем изложенный эпизод имел конкретные последствия. Естественно, со временем организм вошел в норму, но психологический след приютился удобно и в должный час внес лепту.
Одна отчаянная девица, сестра сокурсника Кретова, неожиданно, так, что не представилось возможности уклониться, предложила ему интересные занятия. Вроде бы все шло нормально, пока Евгений не наткнулся на девичество авантюристки. Почему-то именно это оживило комплекс, и орудие сникло – вещь известная. Если б не генеральша, так лихо введшая девственника в курс, кто знает, сколько бы продолжалась ущербность.
Между тем, отголоски сидели глубоко и прочно. Конечно они решили дело с Татьяной. Кретов достоверно не испытывал к ней настоящего чувства. Просто она подошла и взяла его. И это было удобно.
Евгений был раб теорий, их отыскивалось и слагалось множество. Все они обладали, как стало ясно ближе к зрелости, обобщающим свойством – коварством, непредсказуемостью влияния.
Уже само составление теорий. Они давались ему тяжело, скрипуче (даже в школе учителя крестили его тугодумом, имея в виду не результат – учился Женя хорошо – а скорость достижения), без подготовленных озарений. Правда, должно быть за счет этого результат или иллюзия достижения давали каждый раз приличные вспышки наслаждения. Но осыпались теории легко, самопроизвольно, и такая схема вскоре начала нести устойчивое подозрение в бесплодности. К тому же всякий раз вкраплялась мысль, что товарищ, увы, плутоват и горазд сварганить удобное лишь для личного пользования. Это подтверждалось и самой жизнью: Кретов упорно не находил себя.
Благодаря аналитической скрупулезности и внимательности человек скоро заметил цикличность собственных состояний, невеликую разнообразность ситуаций (после тридцати жизнь сплошное дежавю, вспоминал он слова отца), и со временем ему начало казаться все заведомым, похождения подобного рода пустыми и бессмысленными, что в свою очередь толкало к теории вещества, механизма.
И, безусловно, самую гиблую роль сыграла убежденность в присущем одиночестве, основы чего, наверняка, выцарапал парень опять у родителя. Вероятно, Жене просто угождало находить себя отдельным и даже странным, что позволяло носить мнение при себе постоянно.
Забавно, что «не от мира сего» Кретова никто не находил, кроме тещи. «Неурядный» было высшей любезностью в кадастре ее характеристик. «Говна сквозь ребра плывут, а тожо вякать», – чаще сердечно цедила она сквозь зубы. Человек не имеющий сберкнижки в ее понимании не обладал голосом. И возьмите – испытывал к ней Кретов искреннюю теплоту.
Как раз чувство одиночества приохотило Евгения к рассматриванию феномена тяги людей друг к другу, внимание к собственным и чужим эмоциям. Вместе с тем, его неадекватная чувствительность, которая имела место, понятное и тщательное желание отвадить несоразмерности со сверстниками еще с юношеских пор соорудили задачу, где за счет относительного скудоумия естественными выпростались условия – приоритет эмоции и вторичность, стало быть, лишение какой-либо идеалистичности мысли.
Именно придуманное одиночество, хоть и достаточно опосредствованно, соорудило идею фикс, одержимость – стремление построить доктрину, которая была не нужна и едва ли достижима. Которая, однако, созрела, сложилась, и которая нелепо и совершенно обусловила его фантазии и поглощала жизнь.
Эта теория была предельно органична для Кретова. Смело говоря, вся его пусть недолгая, но устоявшаяся жизнь была не только подтверждением ее, ибо модель получилась всеохватной, но поход за ней. Каждый свой шаг представлялся Жене как звено, опыт, предназначенный аналитическому воздействию, мозаичный сколок, призванный выявить общий рисунок. Возможно по этой причине момент сложения окончательного результата, когда идея завершёно и цельно легла в поле зрения Кретова, доставил мощный, сокрушительный восторг.
Естественно, скоро сошло, поскольку Кретов понял, что он всего лишь нашел изящную, так ему казалось, удобную и доходчивую во всяком случае, аллегорию, поглощающую громоздкие, проникновенные и неудобоваримые знания о человеческом организме и его жизнедеятельности. Дальше и простота и доходчивость повернулись разочарованием, ибо столь результат стал очевиден (там и изящество начало казаться сомнительным), что такой долгий и трудоемкий путь к нему опять пошел выявляться как следствие скудного кругозора.
Впрочем, и разочарование Кретов унимал, ловко внушая себе, что здесь не столько поработал недостаток – никто ведь его пустым не считал, наконец, до многого додумался сам – сколько снова отдельность натуры, странная целеустремленность, пускающая решать задачи именно такого толка. Более того, разглядывал себя с приятным любопытством, – при всем наличии глубокого, абсолютного знания о жизни, никто, прямо скажем, им не пользуется. Одни для комфортности балуются богатством, иные разного рода любовями, те богом, остальные бог знает чем, но мало кто рассматривает жизнь сопоставимо научным представлениям. Но существуют вещи, которые элементарно растворяют все эти частности, и вот, Кретов – обладатель пронзительной и простой схемы, что урезонивает все происки организма, и, к примеру, самую его странность, позволяет быть соотносимым с собой и даже удовлетворительным. Словом, с этой принадлежностью Кретов раз и навсегда почувствовал себя достигшим, вполне приемлемым и более не претендующим.
Вообще говоря, здесь было нечто удивительное. Даже после защиты диссертации (уже молодые изыскания основательно забылись), когда его пригласили преподавать в университет – обратите внимание, никакой протекции – ни самолюбие, ни бытовая сторона оказались нетронутыми, что, между прочим, несколько противоречило самой теории.
КАТЯ
И тут началось…
После Катя твердо помнила, что врач как бы отъехал, женщина помощница странно, неестественно отклонилась. Вдруг пополз в сторону воздух, обозначилась некая ниша, Катя очутилась одна.
Навек запомнятся те ощущения. Такого восторга, боли, блаженства, чуда – она, конечно, никогда не переживала и уже не удосужится.
Увидела, что куда-то плывет, ее затягивало, несло в некую воронку. Исчезла тяжесть, навалилась невесомость. Сопровождалось это сознанием целесообразности происходящего и некоторой заинтересованностью.
Особенно четко Катя помнит начало. Там стояло на диво крепкое и толстое небо, в нем были помещены штучные облака, рельефные, с отличной просинью, они существовали замерши и, казалось, выполняли роль парадных постовых. Это ядреное небо начало раскалываться… Признаться, Катя не сразу заметила, где взяла начало трещина – вроде бы, в левом углу, куда было неудобно направить глаза (виновно в невнимательности здесь, конечно, было отсутствие звука: согласитесь, всякое разрушение должно сопровождаться тоном) – уловила уже порядочную, мелко и неучтёно ломанную щель, за которой открывалась не иначе ночь, ибо обнажающаяся субстанция состояла из лощеной, крайней черноты, оттененной переливающимся мерцанием звезд. Щель ширилась, полуденное небо равнодушно смещалось, и Катя чувствовала смесь кручины и любопытства: ничего дурного от происходящего она ничуть не ждала. Любопытство было вознаграждено, ибо, когда щель хорошенько разверзлась, ночь встряхнулась и на Катю посыпались звезды. Они падали чудесно, метко в глаза, и перед достижением, искривляя траекторию непременно у самого лица, уходили в уголки зрачков, озаряя всю панораму золотистым свечением. Впрочем, в конце концов глаза звездами запорошило – между прочим, они чуть покалывали, но совсем едва, это даже смахивало на музыку – и Катя на минуту прекратила видеть и чувствовать, осуществлялась лишь холодная терпеливость. Оказалась права, ибо, совершив невеликую задержку, звезды пошли пробираться в тело и совершать действия. Первым делом, сами понимаете, они прикоснулись к печени.
Катя-то полагала иначе, по ней товарищи должны были в первую очередь задействовать сердце – в производстве таковое случилось гораздо позже… Итак, печень. Зря Катерина прежде не обращала на существо внимание – выяснилось, что презанимательная дама. Печень от соприкосновения жантильно накренилась и далее пошла вибрировать (умеренно). Ничего не оставалось, как сделать вывод, что особь благонамеренна. Отсюда и произошел посыл к остальным органам: в первую очередь диафрагме, далее селезенке, – там и кости, и сердце, которое уже упоминалось.
Кости. Они представляли – как мы неряшливы к собственности – из себя сооружения, обладающие прекрасными свойствами. Заметьте, что трубы, например, по которым всякое передается (вплоть до отходов) подобны. И потом – остов. Однако вот какое, ребята, Катерина сей же час решительно заподозрила, что душа непременно поселена в костях. Глупость, что всякие измышления людей душу приютить не могут, – кости, ни малейших сомнений. А возьмите, ничего не остается кроме костей, когда человек тлеет – это знаменательно.
Ах, как это открытие воспламенило! Катенька с удовольствием разлеглась, окунулась в удобное и именно подобающее моменту ложе. Боже, как она умна! Разумеется, она специально приехала в Спитак, чтоб подвергнуться событиям, а именно, лежанию по центру этого хорошего, выдающегося дня на отличном ложе. Как она всех обхитрила. Но тсс, никому ни слова. Вы же понимаете – Катюшка умненькая… Погодите! Что значит умненькая? Нет-нет, она – штукенция, прештучка… Стоп. Да ведь Катька – не просто так! Елки-моталки, как говорит, Санька, она – нечто!.. Так, а где Санька? Хм… вообще говоря, она шла с Гаянэ, Санька убежал к друзьям… А причем здесь вообще Саша? Ну да, что-то там смежное осуществлялось, были даже соприкосновения. Однако позвольте, то что делала Катя в прежней жизни было так себе – априори, проба на вкус. А настоящее, господа хорошие, происходит сейчас… Послушайте, не морочьте голову – какие к лешему Саши, Гаянэ. Тут процесс… Катя незамедлительно сообразила, что необходим поступок. Она закрыла глаза. Изумительное, потрясающее действо. Отчего Катя так нерасчетливо прежде пользовалась этим упражнением? Господи, как понапрасну было потеряно девятнадцать лет! Впрочем, не будем – она слишком богата, чтоб сожалеть. Итак…
Дьявол! Почему-то ничего не происходит. Катя вновь открыла глаза – перед ней очутилась ошеломляюще прекрасная пустота, в обозрении ровными счетом ничего не находилось. Ничего, Отсутствие, Ни фи-га. Царица небесная, да это же его величество Ноль!.. Катя попробовала вещество на вкус. Ноль… надо же, чуть отдает земляникой… но не так напористо – глаже, растянутей. Сокровенней! Катю озарило: кажется, вот отчего он так ненавязчив – есть умножение на ноль и получается… Постойте, постойте… Мама моя – это же суть вещей. Умножьте всякое на ноль и получится… О боже!..
Катя испытала некоторый испуг – а что же таким образом ждет впереди, какие откровения? Стряхнула – вы бросьте тут со своими земными дурачествами: какой, к лешему, испуг! Двинулась дальше.
Она плыла по воздуху. Вокруг лежали усталые улицы, строения. Перекресток, истоптанный и изъезженный, следы мамы на нем, очаровательные, нужные. За год до рождения Кати здесь машина сбила соседскую девчонку; впрочем, у нее было малокровие, Лера и без того умерла бы в одиннадцать лет… Возникло. Завизжали тормоза, старенький грузовичок потащило юзом, девочка, испуганно вздернулась, выставив плечико, вскинула накрест перед собой вялые ручки. Обдало безболезненно неприятным, скользким ощущением и ушло гулким, чуть вибрирующим эхом… Перед глазами поплыл дом из детства, – забавно, Кате было два годика, когда они отсюда переехали. Двухэтажный, с вываленным куском штукатурки, за которым сизо покоились шлакоблоки, потраченный шифер кровли, раскидистый тополь… Катя совсем крошка, сидит на руках папы, сосет палец; мальчишка из дома, Колька, влез на дерево, чтоб скинуть кошку. Это Катина лучшая подруга, она сворачивается ночью, привалившись приятно тяжело, и девочка хозяйски проводит ладонью по ребристому круглому животу, отчего Муся вздрагивает хвостом и затем степенно кладет его обратно, урчит длинно и доверчиво.
Вот подлый отрок дергает малую за косу – непереносимо знакомый облик у этой девочки. Небеса, это же Катя в пять лет. А мама так старалась наладить прическу (какое наслаждение обоюдно с мамой получали они от процедуры). Нет, не больно – хотя возник звонкий жар в голове, всполошился очаг непонятным ощущением – но явен урок посягательства. Да-да, эти существа, напористые, домогающиеся, они дадут о себе знать. Мальчики. Маль-чи-ки! Хм… странное слово – что-то в нем есть.
Папа моет Катю в ванной – ей три года. Папа – удивительное двуногое, теплое, охраняющее, зависимое со всех точек зрения – родное. Никогда не могла найти отличие мамы от папы, – впрочем и не искала, зачем? Нет, кажется, искала. Папа однажды так неаккуратно на маму кричал, она воспротивилась, говорила жалкие слова: «Я не способна потакать всем, как ты не понимаешь…» Щемило страшно, скручивало, эти слова – язвящие, жалящие своим непонятным смыслом. Хорошо… Мамочка, нечто неотрывное, сильно-слабое – кости, вот… Ну да, дом тридцать восемь, соседний, сюда переехали в более обширную квартиру, – однако прожили здесь года четыре, то есть из этого дома съехали в шесть лет. Странно, совершенно не тот подъезд; она отлично помнит: здесь было залитое бетоном крылечко с бортиками из того же материала, дряхлая, облезлая дверь. А теперь – двустворчатая, открывается сама. Слушайте, так двери не открываются. Расползаются – да, но не растворяются. Погодите, что за женщина входит в дверь. Женщина, постойте!.. Катя? Ах, вы Катя – а кто же тогда я! Как подозрительно вы на меня смотрите, подождите, отчего столь сардоническая улыбка теплится на вашем лице, я вам не позволю…
Как? Я – это вы? Вы – это я! Я требую разбирательства, что за претензии? Негодование перешагивает всякий расчет… Ой, как больно вы меня кольнули. Вы ко мне не притронулись? Прекратите, откуда тогда подобная боль? Ой… заклинаю, перестаньте, – послушайте, я вам верю, только оставьте ваши доказательства.
Катя скрючилась, нестерпимая боль ожгла все тело, ярила натурально, выхолостила. Очень явственной была, испытанной, проверенной, чуть родной – ну да Катя такое недавно уже прошла. Взмолилась: пощадите, я не смогу перенести это еще раз. Нет, боль не отпускала, прохаживалась, слонялась, дефилировала. Женщина – вы же я, имейте совесть!.. Бах, отпало. Пустота, опять ноль. Но уже коварный – ведь с него и началось.
Вроде того что Катя дышала – предыдущее насилие было столь жестоким, что предохраняло от любого вопроса… Однако это уже было вопросом. Господи, за что… Катя вторая смотрела зло, настойчиво, люто. Катя же натуральная (натуральная? – давайте сойдемся на «лежащая») опустошенно, убито смотрела, даже мольба ушла, растворилась в звонкой пучине растерзанного тела. И Катя внешняя вдруг напряглась, затем осунулась и стала исчезать, растворяться в зыбком воздухе.
Тишина – тишина. Дрейф. – Какое блаженство.
Что? Мадам, вы себе позволили распутство – вы имели слабость констатировать блаженство? Получите тогда. Весь организм Кати сконцентрировался – хоть как-то защититься, как-то приготовиться к насилию… Но ничего – покой, отсутствие чувств.
Вдруг картинка резко сменилась. Проселочная дорога, изрытая колея, застывшие ребрышки от давешнего трактора, прокопченная натуральность: унылый подорожник, чахло-забавный мелкий кустарник, дальше ущербленная плевелом невзрачная культура. Позади поля бездеятельный и тем близкий лесок. Землистое, орнаментное небо в изодранных тучах с начесом. Вздох. Катя споткнулась, как неудобны эти босоножки, и потом такие неудачные колготки, не иначе китайские, на жаре колются, цепляются – как хочется идти голой.
Голой. Катя всегда ощущала внимание к телу. Как странно – нога, пальцы на ней, пошевелила, слушаются, как странно. Да, думать об этом, тело нейтрально, иначе снова пожалует невыносимая боль… Оп? Что это – как славно сыграло на слове боль тело, какая прелесть обдала левую часть организма. Шепотом, с внятной артикуляцией – БОЛЬ… Вот это да… разомкнула уста, отчетливо произнесла – БОЛЬ! Господи, какая прелесть, навалилось изящное, смазливое чувство, мало изведанное, неухватное. Кажется это предощущение. Да, да – именно. Однако становится понятным, что следует двигаться дальше. Но что же, что? Рискнем – Катя пошевелила рукой. И… легкая волна радости торопко, жадно прокатилась по телу. Неужели нашла? Катя сильно сжала пальцы в кулак, ногти вонзились в подушки ладоней. Яркая, титаническая радость точно из ведра окатила женщину. Потрясающе! Однако есть здесь нечто неучтенное, незавершенное.
Вдруг Катя видит аллею со скамьей, на которой сидит согбенная и сморщенная старушка. Опирается на клюку и, медленно перетирая пустым ртом нечто, бесславно взирает в шустрого воробья, что клюет воду с высокого для этого существа расстояния размеренно и настойчиво. Бабушка явно поджидает, что тот свалится. Рядом дурачатся две собаки: одна, дворовая как будто, кокетливо, с систематической оглядкой и паузами удирает, за ней галопом, крупными прыжками, быстро догоняя и тормозя достигнув, скачет мышастый с безучастной физиономией дог. Катя размашисто влепляет себе пощечину. Эта пощечина громогласно и четко приходится бабушке, та немало прядает от удара и, восстановившись, направляет на Катю острый взгляд. И неожиданно бабушка распрямляется, лицо озаряет улыбка и оно неугомонно молодеет, в бабушку врывается счастье, вихри несказанно великолепных ощущений истязают ее тело. Катя чувствует ровно то же самое. Катя делает удар по другой щеке… уже не бабушки: особь буквально на глазах расцвела и превратилась в отличную, породистую женщину. Эффект тот же. Вот это да!
После еще некоторых аналогичных упражнений Катя замечает другие фигуры. Парочка, кажется, они насуплены. Ах, ну да – молодой человек, его зовут Максим, во-первых, опоздал на свидание, но главное, вместо запланированного кино настоятельно предлагает присоединится к сабантуйчику в общежитии, – а Света так этого не любит: там вечный бардак, и Макс непременно станет склонять остаться ночевать, и все это будет происходить при посторонних, на узкой неудобной постели, и непременно последует мамина выволочка. Замечательный тандем, вот ужо Катюшка оных попользует.
Катя пустилась измываться над собой, приурочив к этим ребятам. Терзала тело: щипала, выкручивала кожу, царапалась. Максим и Света потянулись друг к другу, как влюблёно озарились их лица, глаза. И неизведанные удары блаженства колотили, взъяряли Катю. В жизни такое недоступно.
Она таскалась по улицам, употребляла прохожих, втискивалась в квартиры и судьбы, шельмовала. Изнемогала от блаженства и, устав, насильно принималась радоваться, тем самым ввергая людей и себя в горы боли (теперь она не была насилующей – ибо контролируема). Катя творила. Как божество. Это было непередаваемо… Происходящее сменялось красочными цветовыми ощущениями – все розовело при счастье, листья деревьев набухали хлорофиллом, шумно и игриво шевелились, точно опахала, колебля воздух до ветерка, аранжируя пение невиданных, в атласном оперении птиц; лучи солнца на ходу расщеплялись на спектр и обдавали панораму изумительными красками. На больном – отнюдь не негативном – орудовали преимущественно холодные тона, наступала осень, окутанная сизоватым флёром, с грязной лужей неба и слепым от облаков солнцем, – прекрасная по своей зависимой природе. Осуществлялась оратория власти.
Однако произошла усталость, картины пошли блекнуть, устойчивость манипулирования ослабела, эмоции становились бесконтрольными и тревожными. Катя открыла глаза – осознала, что прежде лежала с сомкнутыми веками – пришли незнакомые очертания. Вот люди – чуть накатилось зрение, даже различимы стали лица – помощница врача держит прочно ее руку, ребята – у тех испуганные лица, раскрытые рты, смотрят напористо, жадно. Катя закрыла глаза – только не это. И угадала, вновь ее куда-то потянуло, она тронулась растворяться, расползаться по миру.
Катя видит десятилетнюю девчушку, резко угадала – это она, Катя идет в школу, беззаботно маша портфелем. Вот к ней суётся списывать сосед по парте Юрка Кочурин, завзятый шкодник, приехавший недавно из Азербайджана и постоянно донимающий штучками типа «бубуны чады?», «чопоёглы баласы, полный жопы колбасы», перевод которых неизменно волен и разнообразен. Когда бы Катя вспомнила эти моменты? А дальше она на занятиях по фортепьяно, штудирует этюды Грига. И разматывается жизнь через утерянные в памяти крупицы, довольно стремительно, не слитно, однако досконально, с пронзительной отчетливостью, эпизодами, несущими стойкий аромат роста. Выпускной бал, благостное и чуть тревожное ощущение грядущего – огромного, мятежного, собственного. Практика в колхозе, местный парнишка Володя, по утрам кладущий на подоконник рядом с ее кроватью букет остро пахнущих росой и простором цветов.
Саша.
Она с Гаянэ идет по замечательному городу Спитаку. И зашевелились торопливо и испуганно кроны деревьев, и туча, рваная, плоская, проглотила солнце.
Пережитый недавно кошмар до щели, до молекулы грянул на Катю! – и опять в разрезе нечаянно открытых глаз затуманились контуры женщины, ребят. Она с усилием сомкнула ресницы. Снова получилось, Катя ухнула в пропасть, в бездонную и бесчувственную бездну. В ноль.
Резкий скачок. Город. Улицы запружены машинами, громадные здания, лучащиеся от обилия непрозрачного стекла, не кажутся величественными, а скорей утилитарными, приспособленными. Стремительные, озабоченные люди без взглядов, прячущие глаза за непроницаемыми очками. Жадное, воинственное солнце. Катя сидит за столом, перед ней дисплей, она ловко орудует мышкой и клавиатурой. Вот одержимо снует по квартире, не умея унять тревожное сердце.
– Я умоляю, перестань, – успокаивает мужчина с интенсивной проседью, в очках (это ничуть не Саша). – В конце концов, он парень и ему семнадцать лет.
– Какая безответственность! – восклицает Катя. – А этот чересчур самостоятельный друг Эдик? Он непременно куда-нибудь втянет Костю…
Кате сорок. Как безмерно она полюбила. Без взаимности, с мокрой подушкой, с мутным томлением и пакостью забубенных решений, с маятой вариантов и бессилием – о да, у нее дети, они молчаливы и напуганы. Между прочим, предмет отчего-то неясен – вот некий скользкий силуэт, кустистые брови, раскатистое, замечательное «р», точь-в-точь рев заводимого мотора на лодке, ослепительные зубы и отличные итальянские башмаки… Ах, все равно: решила открыться, полагая, что, обнажив неистовое чувство, обязана получить взаимность – не имеет права аналогичное сокрушение остаться без положительной реакции. (Откуда-то из-за угла мужской, нахально смахивающий на Сашин голос жалеет с иронией: «Катя-Катя, как вы юны».) Отказ! Безжалостно несправедливый и вместе занимательный, даже как бы симпатичный – лощеный, чуть влажный на ощупь.
Город меняет облик – стремительно, кардинально. Нахлобучиваются каскады высоких, пронизанных щегольской архитектурой строений. Пышные парки, бравые усадьбы, оснащенные стилем. Собственно, это совсем чужой город. Погодите, что за странное наречие звучит на устах вон того дяди, имеющего облик индуса? Милая девушка с едва заметной ленцой внимающая его страстную речь. Ба-а, это же внучка Кати, Аленка! – Галерея событий, шествие декорумов, терпкие ожидания и мрачные прозрения, душевные ссадины и ликования сердца, обжигающий неуют перекладных и лад основного вектора – забубенные игры жребия. Кисейные утра и гарные закаты, миролюбивые и воинственные дни, мятежные и усталые ночи – жизненные подробности, сытый воздух и холод лет…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?