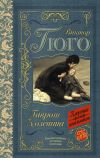Читать книгу "Отверженные"

Автор книги: Виктор Гюго
Жанр: Зарубежная классика, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вот что вперемежку всплывает на поверхности 1817 года, ныне забытого. История пренебрегает почти всеми этими своеобразными подробностями, и иначе поступить она не может: они затопили бы ее бесконечным своим потоком. А между тем эти подробности, несправедливо называемые мелкими, – полезны, ибо для человечества нет чересчур мелких фактов, как для растительного мира нет чересчур мелких листьев. Именно из физиономии отдельных лет и слагается облик столетий.
В этом-то 1817 году четверо юных парижан придумали «забавную шутку».
Глава 2Двойной квартет
Парижане эти были: один из Тулузы, другой из Лиможа, третий из Кагора и четвертый из Монтобана; но они были студенты, а студент – это парижанин: учиться в Париже – все равно что родиться в Париже.
Эти молодые люди ничего значительного собой не представляли, всякому случалось видеть им подобных; четыре образчика «первого встречного», не добрые и не злые, не ученые и не невежды, не гении и не дураки, все они пленяли очарованием того апреля, имя которому «двадцать лет». То были просто четыре Оскара, ибо Артуров еще не существовало в ту эпоху. «Воскурите для него благовония Аравии, – восклицал романс, – Оскар идет, я увижу Оскара!» Увлечение Оссианом еще не остыло; образцом изящества считались скандинавы и шотландцы; подлинный английский стиль одержал верх лишь значительно позднее, и первый из Артуров, Веллингтон, только недавно выиграл сражение при Ватерлоо.
Этих Оскаров звали: одного – Феликс Толомьес из Тулузы, второго – Листолье из Кагора, третьего – Фамейль из Лиможа и последнего – Блашвель из Монтобана. Разумеется, у каждого из них была любовница. Блашвель любил Фавуритку, получившую это искаженное на английский лад имя после ее поездки в Англию; Листолье обожал Далию, избравшую своей кличкой название цветка; Фамейль боготворил Зефину – уменьшительное от Жозефины; Толомьес обладал Фантиной, прозванной Блондинкой за ее прекрасные волосы цвета солнца.
Фавуритка, Далия, Зефина и Фантина были четыре восхитительные девушки, благоуханные и сияющие, еще не совсем потерявшие облик работниц и не окончательно расставшиеся с иглой, немного выбитые из колеи любовными приключениями, но еще сохранившие на лицах душевную ясность – спутницу труда, а в душе пушок невинности, которая у женщины переживает ее первое падение. Одну из четырех называли молодой, потому что она была младшей, а другую называли старухой. «Старухе» было двадцать три года. Чтобы ничего не утаить, сознаемся, что первые три были более опытны, более легкомысленны и сильнее увлечены шумным потоком жизни, нежели Фантина-Блондинка, переживавшая пору своей первой иллюзии.
Далия, Зефина и в особенности Фавуритка не могли бы сказать о себе того же. Романтическая повесть их юности, едва начавшись, уже насчитывала не один эпизод, и влюбленный, который в первой главе носил имя Адольфа, во второй превращался в Альфонса, а в третьей в Гюстава. Бедность и кокетство – пагубные советчицы: первая брюзжит, а вторая льстит, и обе, каждая о своем, нашептывают что-то красивым девушкам из народа. Души, оставшиеся без присмотра, прислушиваются к этим голосам. В результате – падение, а потом и камни, которыми бросают в падших. Бедняжек подавляют блеском всего, что непорочно и неприступно. Увы, что сталось бы с Юнгфрау, если бы она испытала голод!
У Фавуритки, побывавшей в Англии, были две поклонницы – Зефина и Далия. Уже в ранней юности она жила совсем одна. Отец ее, старый учитель математики, грубиян и любитель прихвастнуть, не был женат и, несмотря на преклонный возраст, бегал по урокам. В молодости этот учитель увидал однажды, как горничная зацепилась юбкой за каминную решетку; этого случая оказалось довольно, чтобы он влюбился. В результате на свет появилась Фавуритка. Время от времени она встречалась с отцом на улице, и он раскланивался с нею. Однажды утром какая-то старая женщина, на вид святоша, вошла к ней в комнату и сказала: «Вы меня не узнаете, барышня?» – «Нет». – «Я твоя мать». Затем старуха открыла буфет, напилась и наелась, послала за своим тюфяком и водворилась у дочери. Эта мать, ворчунья и ханжа, ни о чем не говорила с Фавуриткой, часами сидела молча, завтракала, обедала и ужинала за четверых, а потом спускалась вниз посудачить с швейцаром, которому рассказывала гадости про свою дочь.
Причиной, которая свела Далию с Листолье, – а быть может, и не с одним Листолье, – и бросила ее в объятия праздности, были ее чересчур красивые розовые ногти. Ну как можно портить такие ногти грязной работой? Женщина, которая хочет остаться добродетельной, не должна беречь свои руки. Что касается Зефины, то она завоевала Фамейля своей задорной и вместе с тем ласковой манерой произносить: «Да, сударь».
Молодые люди были приятелями, молодые девушки стали подругами. Подобные любовные связи всегда сопровождаются такого рода дружбой.
Мудрость и целомудрие – вещи разные; доказательством этому служит то, что Фавуритка, Зефина и Далия – разумеется, если принять во внимание все необходимые оговорки относительно этих незаконных супружеств – были девушками мудрыми, а Фантина – девушкой целомудренной.
«Целомудренной? – спросите вы. – А Толомьес?» Соломон ответил бы, что любовь является частицей целомудрия. Мы же скажем только, что любовь Фантины была первой любовью, любовью единственной и верной.
Из всех четырех лишь к ней одной обращался на «ты» только один мужчина.
Фантина принадлежала к числу тех созданий, какие порой расцветают, так сказать, в самых недрах народа. Выйдя из бездонных глубин социального мрака, она носила на своем челе печать безыменности и безвестности. Родилась она в городе Монрейле-Приморском. Кто были ее родители? Никто не мог бы ответить на это. Никто не знал ее матери, ее отца. Ее звали Фантиной. Почему Фантиной? Другого имени у нее не было. Когда она родилась, еще существовала Директория. У нее не было фамилии, потому что не было семьи; у нее не было имени, которое обычно дают при крещении, потому что в то время не было церкви. Ее стали звать так, как вздумалось окликнуть ее случайному прохожему, который встретил ее на улице босоногой девчонкой. Она приняла свое имя так же покорно, как принимала потоки воды, поливавшие ее непокрытую голову, когда шел дождь. Ее называли малюткой Фантиной. И это было все, что о ней знали. Так вступило в жизнь это человеческое существо. Десяти лет Фантина покинула город и поступила в услужение к каким-то фермерам в окрестностях города. Пятнадцати лет она явилась в Париж «искать счастья». Фантина была красива и оставалась непорочной так долго, как только могла. Это была хорошенькая блондинка с чудесными зубами. Приданое ее состояло из золота и жемчуга: золото – на головке, а жемчуг – во рту.
Она работала, чтобы жить; потом – тоже для того, чтобы жить, – она полюбила, ибо существует и сердечный голод.
Она полюбила Толомьеса.
Для него – любовное похождение, для нее – истинная страсть. Улицы Латинского квартала, кишащие толпами студентов и гризеток, видели начало ее грезы. Фантина в этом лабиринте холма Пантеона, где происходит завязка и развязка стольких любовных приключений, долго избегала Толомьеса, но так, что каким-то образом везде встречала его. Есть такой способ избегать, который весьма напоминает способ искать. Короче говоря, пастушеская идиллия началась.
Блашвель, Листолье и Фамейль составляли нечто вроде кружка, главарем которого являлся Толомьес. Он-то и был умнее их всех.
Толомьес олицетворял уже исчезающий тип старого студента; это был богач с четырьмя тысячами франков ренты; четыре тысячи франков ренты – скандально много для горы Св. Женевьевы. Толомьес был тридцатилетний кутила, плохо сохранившийся, морщинистый и беззубый; кроме того, у него намечалась лысина, о которой сам он говорил без тени грусти: «В тридцать лет плешь, а в сорок – колено». У него плохо варил желудок и с некоторых пор начал слезиться один глаз. Но по мере того как угасала его молодость, он разжигал свою веселость; зубы он заменил остротами, волосы – жизнерадостностью, здоровье – иронией, а его плачущий глаз то и дело смеялся. Он был изношен и в то же время цвел пышным цветом. Его молодость, которая снялась с лагеря намного раньше срока, отступала в полном порядке, покатываясь со смеху и ослепляя всех своим блеском. Он сочинил пьесу, которую отверг театр «Водевиль». Время от времени он пописывал посредственные стишки. А главное, он высокомерно сомневался во всем на свете – великая сила в глазах слабых. Итак, обладая иронией и плешью, он был главарем. Iron – по-английски значит железо. Не от него ли произошло и слово ирония?
Однажды Толомьес отвел в сторону остальных трех членов компании и с загадочным видом сказал им:
– Скоро год, как Фантина, Далия, Зефина и Фавуритка просят, чтобы мы сделали им сюрприз. Мы торжественно обещали им это. Они то и дело напоминают нам о нашем обещании, и особенно мне. Как старухи в Неаполе кричат святому Януарию: «Faccia gialluta, fa о miracolo! – Желтолицый, сотвори чудо!» – так и наши красотки беспрестанно твердят мне: «Толомьес, когда же ты разрешишься своим сюрпризом?» В то же самое время наши родители шлют нам бесконечные письма. Словом, пилят с обеих сторон. Мне кажется, что время пришло. Давайте потолкуем.
Тут Толомьес понизил голос и таинственно произнес нечто столь забавное, что взрыв громкого восторженного смеха одновременно вырвался из всех четырех глоток, и Блашвель вскричал: «Вот так мысль!»
По дороге им попался кабачок, полный табачного дыма, они зашли туда, и завеса мрака покрыла конец совещания.
Следствием этого темного дела явилась блистательная прогулка, которая состоялась в следующее же воскресенье и на которую четверо молодых людей пригласили четырех девиц.
Глава 3Четыре пары
В наше время мы плохо представляем себе, чем была загородная прогулка студентов и гризеток сорок пять лет назад. Окрестности Парижа сейчас совсем не те; за полвека облик так называемой «околопарижской» жизни совершенно преобразился; прежняя двуколка сменилась вагоном, пакетбот – пароходом, и сегодня съездить в Фекан так же просто, как в Сен-Клу. Париж 1862 года – город, предместьем которого является вся Франция.
Четыре парочки добросовестно проделали все глупости, какие можно было проделать на свежем воздухе в то время. Каникулы только что начались, и стоял жаркий, солнечный летний день. Накануне Фавуритка, единственная из девушек, которая умела писать, написала Толомьесу от имени всех четырех записку следующего содержания: «Кто долго спит, тот щастье праспит». По этой-то причине они и поднялись в пять часов утра. Затем отправились дилижансом в Сен-Клу, осмотрели бездействовавший каскад, вскричав при этом: «Как это должно быть красиво, когда пускают воду», позавтракали в «Черной голове», куда еще не заглядывал отравитель Кастен, угостили себя игрой в кольца на обсаженной косыми рядами деревьев площадке у большого водоема, взобрались на Диогенов фонарь, сыграли в рулетку на миндальное печенье у Севрского моста, нарвали цветов в Пюто, накупили дудок в Нельи, ели повсюду яблочные пирожные и были совершенно счастливы.
Девушки шумели и щебетали, словно малиновки, вырвавшиеся на волю. Они были в каком-то чаду. По временам они награждали молодых людей легкими шутливыми шлепками. Опьянение утром жизни! Чудесные годы! Трепещущие крылья стрекоз! О, кто бы вы ни были, читатель, вспоминаете ли вы это? Приходилось ли вам сбегать, смеясь, по мокрому от дождя откосу вместе с любимой женщиной, которая восклицает, опираясь на вашу руку: «Ой, мои новые ботинки! На что они стали похожи!»
Надо заметить, что на сей раз веселая помеха в виде ливня миновала нашу жизнерадостную компанию, хотя, отправляясь в путь, Фавуритка и сказала наставительным и материнским тоном: «По дорожкам ползают улитки. Это к дождю, дети мои».
Все четыре девушки были дьявольски хороши собой. Некий поэт классической школы, пользовавшийся в то время большой известностью, шевалье де Лабуис, добродушный старичок, воспевавший свою Элеонору, бродил в тот день, около десяти часов утра, под сенью каштанов в Сен-Клу и, встретив подруг, вскричал, несомненно имея в виду трех граций: «Одна тут лишняя!» Фавуритка, возлюбленная Блашвеля, та, которой было двадцать три года, то есть «старушка», очертя голову неслась впереди всех под густыми зелеными ветвями, перепрыгивала через канавы, перескакивала через кусты и предводительствовала всеобщим весельем с пылом юной дриады. Зефина и Далия, которых случай создал так, что красота одной дополняла красоту другой, причем каждая только выигрывала от сравнения с подругой, не расставались, побуждаемые не столько дружеской привязанностью, сколько инстинктивным кокетством, и, томно прислонившись друг к другу, принимали позы английских леди; первые «кипсеки» только что появились, меланхолия уже входила в моду у женщин, как несколько позже байронизм стал модой у мужчин, и волосы представительниц прекрасного пола уже начинали свисать грустными прядями; Зефина и Далия укладывали волосы валиком. Листолье и Фамейль занялись спором о своих профессорах и разъясняли Фантине, чем г-н Дельвенкур отличался от г-на Блондо.
Блашвель, казалось, был создан исключительно для того, чтобы по воскресным дням носить на руке кашемировую шаль Фавуритки с цветной каймой по краям.
Толомьес шел сзади и руководил всей компанией. Он был очень весел, но в нем чувствовалось сознание власти; в его шутках сказывался диктатор. Главным украшением его особы были нанковые панталоны фасона «слоновьей ноги» со штрипками из медных цепочек, в руке у него была массивная трость стоимостью в двести франков, и так как он позволял себе решительно все, то во рту у него торчала странная штука, именуемая сигарой. Для него не было ничего святого – он курил.
«Этот Толомьес просто изумителен! – с почтительным уважением говорили о нем приятели. – Какие панталоны! Какая энергия!»
Что касается Фантины, то это была сама радость. Ее чудесные зубы, несомненно, получили от бога определенное назначение – сверкать при улыбке. Свою шляпку из строченой соломки, с длинными белыми завязками, она охотнее носила не на голове, а на руке. Ее густые белокурые волосы, то и дело рассыпавшиеся и расплетавшиеся, вечно нуждались в шпильках и приводили на память образ Галатеи, бегущей под ивами. Ее розовые губы что-то восторженно лепетали. Уголки губ, сладострастно приподнятые, как на античных масках Эригоны, казалось, поощряли к вольностям, но длинные скромно опущенные ресницы, полные тайны, смягчали вызывающее выражение нижней части лица, словно предостерегая от вольных мыслей. Весь ее наряд производил впечатление чего-то певучего и сияющего. На ней было барежевое платье розовато-лилового цвета, маленькие темно-красные башмачки-котурны, с лентами, перекрещивающимися на тонких белых ажурных чулках, и тот самый муслиновый спенсер, который придумали марсельцы и название которого – «канзу», искаженное на канебьерский лад: quinze août – означало пятнадцатое августа, то есть хорошую погоду, зной, полдень. Остальные три девушки, как мы уже говорили, менее робкие, были откровенно декольтированы, что летом, при шляпках, украшенных цветами, придавало им очень изящный и задорный вид. Однако рядом с этими смелыми костюмами прозрачное канзу белокурой Фантины, с его нескромностью и недомолвками, что-то скрывающее и в то же время что-то обнажающее, казалось дерзкой находкой приличия, и, пожалуй, знаменитый суд любви, где председательствовала виконтесса де Сет, обладавшая глазами цвета морской воды, скорее вручил бы этому канзу приз за кокетливость, нежели за целомудрие, на которое оно претендовало. Нередко наивность оказывается величайшим искусством. Это бывает.
Ослепительный цвет лица, тонкий профиль, темно-голубые глаза, тяжелые веки, изящные маленькие ножки с высоким подъемом, восхитительные линии рук, белая кожа с сетью синих жилок, свежие детские щечки, сильная и гибкая шея эгинских Юнон, крепкий затылок, плечи, словно изваянные резцом Кусту, с двумя просвечивающими сквозь тонкий муслин сладострастными ямочками, веселость, слегка скованная мечтательностью, скульптурные, изысканные формы – вот Фантина; под тканями и лентами вы чувствовали статую и в этой статуе – живую душу.
Фантина была прекрасна, сама того не сознавая. Немногие мечтатели, таинственные служители культа красоты, которые молча сравнивают с совершенством все, что они видят, уловили бы в юной швее сквозь прозрачную дымку парижского изящества античную и священную гармонию. В этой безвестной девушке чувствовалась порода. Она соединяла в себе и красоту стиля, и красоту ритма. Стиль – форма идеала, ритм – его движение.
Мы уже сказали, что Фантина была сама радость; Фантина была также сама стыдливость.
Наблюдатель, внимательно присмотревшись к ней, заметил бы, что сквозь опьянение юностью, весной и любовью в ней просвечивало выражение непреодолимой сдержанности и скромности. Она всегда казалась слегка удивленной. Вот это целомудренное удивление и есть оттенок, отличающий Психею от Венеры. У Фантины были длинные, белые и тонкие пальцы весталки, которая ворошит пепел священного огня золотой булавкой. Хотя, как мы это слишком ясно увидим из дальнейшего, она ни в чем не отказала Толомьесу, лицо ее в минуты покоя выражало чистейшую непорочность; печать какого-то серьезного и почти строгого достоинства внезапно появлялась на нем в иные часы, и нельзя было без удивления и волнения смотреть, как быстро угасала на нем веселость и как, без всякого перехода, безмятежная ясность сменялась вдруг глубокой сосредоточенностью. Эта внезапная серьезность, порой выраженная очень резко, походила на высокомерие богини. Лоб, нос и подбородок представляли ту идеальную линию, совершенно отличную от идеальных пропорций, которая и обусловливает гармонию лица; а в характерном промежутке между основанием носа и верхней губой у нее была та едва заметная и очаровательная ямочка – таинственная примета целомудрия, – благодаря которой Барбаросса влюбился в Диану, найденную при раскопках в Иконии.
Любовь – грех, пусть так! Фантина была невинностью, всплывшей над пучиной греха.
Глава 4Толомьес так весел, что поет испанскую песенку
Весь этот день от начала и до конца был соткан из лучей утренней зари. Казалось, что всю природу отпустили на каникулы и она ликует. Цветники Сен-Клу благоухали, дыхание Сены едва заметно шевелило листву деревьев, ветви покачивались от легкого ветерка, пчелы безжалостно грабили кусты жасмина, целая ватага бабочек налетела на тысячелистник, клевер и дикий овес; заповедным парком французского короля завладела шумная толпа беспутных бродяг – то были птицы.
Четыре веселые парочки, слившись с солнцем, полями, цветами, с лесом, сияли радостью жизни.
И в этом райском единении с природой молодые девушки болтали, смеялись, бегали взапуски, танцевали, гонялись за бабочками, рвали повилику, промачивая в высокой траве свои розовые ажурные чулки; юные, сумасбродные, отнюдь не строптивые, они то и дело получали поцелуи от каждого из мужчин – все, кроме Фантины, замкнувшейся в своей бессознательной, задумчивой и пугливой неприступности, – кроме той, которая любила. «Ты всегда разыгрываешь из себя недотрогу», – говорила ей Фавуритка.
Таковы истинные радости. Счастливые пары – это могучий призыв к жизни и к природе; при их появлении все сущее брызжет лаской и светом. Некогда жила фея, которая создала рощи и луга только для влюбленных. Так возникла бессмертная школа любовников, которая возрождается вновь и вновь и будет существовать до тех пор, пока будут существовать рощи и школьники. Вот почему весна увлекает мыслителей. Патриций и уличный точильщик, герцог, возведенный в достоинство пэра, и приказный, «придворные и горожане», как говорилось встарь, – все они подвластны этой фее. Все смеются, все ищут друг друга, воздух пронизан сиянием апофеоза – вот как преображает любовь! Жалкий писец нотариуса становится полубогом. А эти легкие возгласы, это преследование друг друга в зеленой траве, эта девическая талия, которую обнимают на бегу, эти словечки, звучащие, как музыка, это обожание, выдающее себя интонацией одного слога, эти вишни, вырванные губами из губ, – все это искрится, проносясь мимо, в каком-то небесном ликовании. Красавицы сладостно и щедро расточают себя. Всем кажется, что это будет длиться вечно. Философы, поэты, художники взирают на эти восторги и, ослепленные, не знают, как отобразить их. «Отплытие на Киферу!» – восклицает Ватто; Ланкре, живописец, увековечивший разночинцев, созерцает своих горожан, улетающих в лазурь; Дидро раскрывает объятья всем влюбленным, а д’Юрфе видит среди них друидов.
После завтрака четыре парочки отправились в Королевский цветник, как его называли в то время, посмотреть на недавно привезенное из Индии растение, название которого мы не можем сейчас припомнить и которое привлекало тогда в Сен-Клу весь Париж; это было причудливое и прелестное деревцо с высоким стволом, с бесчисленными тонкими, как нити, растрепанными веточками, лишенными листьев, но покрытыми множеством крошечных белых розочек, отчего куст напоминал голову, всю усыпанную цветами. Около него всегда стояла толпа любопытных.
Осмотрев деревцо, Толомьес вскричал: «Угощаю ослами!» – и, договорившись с погонщиком о цене, компания пустилась в обратный путь через Ванв и Исси. В Исси – происшествие. Парк, конфискованный во время революции и перешедший к тому времени во владение поставщика армии Бургена, случайно оказался открытым. Они вошли за ограду, посетили пещеру с куклой-анахоретом, испытали на себе все таинственные эффекты знаменитой зеркальной комнаты – этой западни, достойной похотливого сатира, ставшего миллионером, или Тюркаре, преобразившегося в Приапа. Молодые люди как следует раскачали большую сетку-качели, висевшую меж двух каштанов, воспетых аббатом де Берни. Поочередно качая красавиц, среди дружного смеха и взлета юбок, образовывавших такие складки, которые восхитили бы самого Греза, Толомьес, уроженец Тулузы и немного испанец – ведь Тулуза двоюродная сестра Толозы, – напевал заунывным речитативом старинную испанскую песенку, должно быть тоже навеянную образом какой-нибудь красотки, высоко взлетавшей на веревке меж двух деревьев:
Одна только Фантина отказалась качаться.
– Терпеть не могу, когда так ломаются, – пробормотала Фавуритка довольно едким тоном.
После катанья на ослах новое развлечение: переехали на лодке Сену и прошли пешком от Пасси до заставы Звезды. Как мы помним, молодежь была на ногах с пяти часов утра, но что из этого! «В воскресенье не устают, – говорила Фавуритка, – по воскресеньям усталость тоже отдыхает». Около трех часов дня четыре парочки, уже совсем ошалевшие от счастья, кубарем слетали с русских гор. Это странного вида сооружение находилось в то время на Божонских холмах, и его извилистая линия виднелась над верхушками деревьев Елисейских полей.
Время от времени Фавуритка восклицала:
– Ну, а сюрприз? Я требую сюрприза.
– Терпение, – отвечал Толомьес.