Читать книгу "Шествуют творяне"
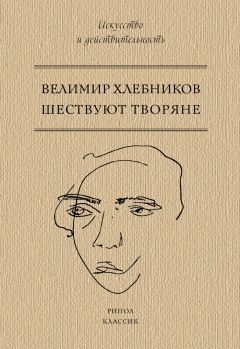
Автор книги: Виктор Хлебников
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Гоум, моум, суум, туум – это часть большого списка видов умов, который лежал в основе интеллектуальных построений Хлебникова, более пространный список есть в его сверхповести «Зангези». Гоум – горный, высокий ум; моум – широкий, морской ум; суум – половинчатый, двусмысленный, серединный ум; туум – ум, который «оттуда», постигающий «ту» сторону, инопланетный ум. Ну и Будрые – мудрецы будущего, сразу видим.
Поэт. Весенние святки
Выражение «весенние святки» можно считать и подзаголовком, и жанром этой поэмы: это не поэма, а весенние святки, иначе говоря, Масленица. Произведение писалось в Харьковской психиатрической больнице, сначала задумывалось как «Карнавал» из 365 строк, в котором проходит вся русская классическая поэзия, до высот которой не смогли подняться символисты, но поднимется знаток законов времени.
От этого масленичного карнавала в поэме остался ряд загадочных, но разгадываемых образов, таких как «осьминог на груди»: вышитое изображение масленичного солнца; или «харя» в значении маски. Итоговый текст был написан с целью показать, что пушкинский стих вполне подвластен новому поэту, хотя в поэме множество цитат и из Лермонтова, множество отсылок к Гоголю.
В основе произведения – «Русалка» Пушкина, понятая как автобиографический рассказ Пушкина о капризности вдохновения, которое может поддерживаться вполне только в потустороннем мире. Но в поэме Хлебникова сам поэт уже изгнан в потусторонний мир, а сам этот мир изгнан из области практических решений – и поэт всякий раз должен увлекаться и пением русалок, и хороводами, и другими экстатическими искусствами, чтобы вернуть себе речь.
Но «Поэт и русалка», как изначально называлась эта вещь – не только поэтологическая, но и научная поэма. Она исследует культ женского божества у славян, которое явлено сначала как Цаца, потом как Лада, потом как дева Песни Песней, у которой волосы падали оленей сбесившимся стадом, а потом уже как Богородица, в юдоли слез живущая как русалка. Появление электричества, «научного огня», когда «водят молнии телегу» электрического трамвая, спасет Русалку из-под власти Водолея, то есть поэтическое Воображение, умеющее работать с мнимыми числами, корнями из отрицательных чисел, от власти производимых явлений: поэзию – от прозы.
* * *
Как осень изменяет сад,
Дает багрец, цвет синей меди,
И самоцветный водопад
Снегов предшествует победе,
И жаром самой яркой грезы
Стволы украшены березы,
И с летней зеленью проститься
Летит зимы глашатай – птица,
Где тонкой шалью золотой
Одет откос холмов крутой,
И только призрачны и наги
Равнины белые овраги,
Да голубая тишина
Просила слова вещуна, —
Так праздник масляницы вечный
Души отрадою беспечной
Хоронит день недолговечный,
Хоронит солнца низкий путь,
Зимы бросает наземь ткани
И, чтобы время обмануть,
Бежит туда быстрее лани.
Когда над самой головой
Восходит призрак золотой
И в полдень тень лежит у ног,
Как очарованный зверок,
Тогда людские рощи босы
Ткут пляски сердцем умиленных,
И лица лип сплетают косы
Листов зеленых.
Род человечества, игрою легкою дурачась, ты,
В себе самом меняя виды,
Зимы холодной смоешь начисто
Пустые краски и обиды.
Иди, весна! Зима, долой!
Греми весеннее трубой!
И человек, иной чем прежде,
В своей изменчивой одежде,
Одетый облаком и наг,
Цветами отмечая шаг,
Летишь в заоблачную тишь
С весною быстрою сам-друг,
Прославив солнца летний круг.
Широким неводом цветов
Весна рыбачкою одета,
И этот холод современный
Ее серебряных растений,
И этот ветер вдохновенный
Из полуслов и полупения,
И узел ткани у колен,
Где кольца чистых сновидений.
Вспорхни, сосед, и будь готов
Нести за ней охапки света
И цепи дыма и цветов.
И своего я потоки,
Моря свежего взволнованней,
Ты размечешь на востоке
И посмотришь очарованней.
Сини воздуха затеи.
Сны кружились точно змеи.
Озаренная цветами,
Вдохновенная устами,
Так весна встает от сна.
Все, кто предан был наживе,
Счету дней, торговле отданных,
Счету денег и труда, —
Все сошлись в одном порыве
Любви к Деве верноподданных,
Веры в праздник навсегда.
Крик шута и вопли жен,
Погремушек бой и звон,
Мешки белые паяца,
Умных толп священный гнев,
Восклицали: «Дева Цаца!»
Восклицали нараспев,
В бурных песнях опьянев.
Двумя занятая лавка,
Темный тополь у скамейки.
Шалуний смех, нечаянная давка,
Проказой пролитая лейка.
В наряде праздничном цыган,
Едва рукой касаясь струн,
Ведет веселых босоножек.
Шалун,
Черноволосый, черномазый мальчуган
Бьет тыквою пустой прохожих.
Глаза и рот ей сделал ножик.
Она стучит, она трещит,
Она копье и ловкий щит.
Потоком пляски пробежали
В прозрачных одеяньях жены.
«Подруги, верно ли? едва ли,
Что рядом пойман леший сонный?
Подруги, как мог он в веселия час
Заснуть, от сестер отлучась?
Прости, дружок, ну, добрый путь,
Какой кисляй, какая жуть!»
И вот, наказанный щипками,
Бежит неловкими прыжками
И скрыться от сестер стремится,
Медведь, и вдруг, свободнее чем птица,
Долой от злых шалуний мчится.
Волшебно-праздничною рожей,
Губами красными сверкнув,
Толпу пугает чернокожий,
Копье рогожей обернув.
За ним с обманчивой свободой
Рука воздушных продавщиц,
Темнея солнечной погодой,
Корзину держит овощей.
Повсюду праздничные лица
И песни смуглых скрипачей.
Среди недолгой тишины
Игра цветами белены.
Подведены, набелены,
Скакали дети небылицы,
Плясали черти очарованно,
Как призрак призраком прикованный,
Как будто кто-то ими грезит,
Как будто видит их во сне,
Как будто гость замирный лезет
В окно красавице весне.
Слава смеху! Смерть заботе!
Из знамен и из полотен,
Что качались впереди,
Смех, красиво беззаботен,
С осьминогом на груди
Выбегает смел и рьян,
Жрец проделок и буян.
Пасть кита несут, как двери
Отворив уста широко,
Два отшельника-пророка,
В глуби спрятаны, как звери,
Спорят об умершей вере.
Снег за снегом,
Все летит к вере в прелести и негам.
Вопит задумчиво волынка,
Кричит старик «кукареку»,
И за снежинкою снежинка
Сухого снега разноцветного
Садилась вьюга на толпу.
Среди веселья беззаветного,
Одетый бурной шкурой волка,
Проходит воин; медь и щит.
Жаровней-шляпой богомолка
Старушка набожных смешит.
Какие синие глаза!
Сошли ли наземь образа?
Дыханьем вечности волнуя,
Идут сквозь праздник поцелуя!
Священной живописью храма,
Чтобы закрыл глаза безбожник,
Иль дева нежная ислама,
Чтоб в руки кисти взял художник?
«Скажи, соседка, – мой Создатель!
Кто та живая Богоматерь?» —
«Ее очами теневыми
Был покорен страстей язык,
Ее шептать святое имя
Род человеческий привык».
Бела, белее изваяния,
Струя молитвенный покой,
Она, божественной рукой,
Идет, приемля подаяние.
И что ж! и что ж! Какой злодей
Ей дал вожатого шута!
Она стыдится глаз людей,
Ее занятье – нищета!
Но нищенки нездешний лик,
Как небо синее, велик.
Казалось, из белого камня изваян
Поток ее белого платья,
О нищенка дальних окраин,
Забывшая храм Богоматерь!
Испуг. Молчат…
И белым светом залита
Перед видением толпа детей, толпа дивчат.
Но вот веселье окрепло.
Ветер стона, хохот пепла,
С диким ревом краснокожие
Пробежали без оглядки,
За личинами прохожие
Скачут в пляске и присядке.
И за ней толпа кривляк
С писком плача, гик шутов,
Вой кошачий, бой котов,
Пролетевшие по улице,
Хохот ведьмы и скотов,
Человек-верблюд сутулится,
Говор рыбы, очи сов,
Сажа плачущих усов,
На телеге красный рак,
С расписными волосами,
В харе святочной дурак
Бьет жестянкою в бочонок,
Тащит за руку девчонок.
Мокрой сажи непогода,
Смоляных пламен костры,
Близорукие очки текут копотью по лицам,
По кудрявых влас столицам.
И в ночной огнистой чаре,
В общей тяге к небылицам
Дико блещущие хари,
Лица цвета кумача
Отразились, как свеча
Среди тысячи зеркал,
Где огонь, как смерть, плескал.
Смеху время! Звездам час!
Восклицали, ветром мчась.
И копья упорных снежинок,
Упавших на пол мостовой.
Скамья. Голо выбритый инок
Вдвоем с черноокой женой.
Как голубого богомольцы,
Качались длинных кудрей кольца,
И полночь красным углем жег
В ее прическе лепесток.
И что ж! Глаза упорно-синие
Горели радостью уныния
И, томной роскоши полны,
Ведут в загадочные сны.
Но, полна мятели, свободы от тела,
Как очи другого, не этого лика,
Толпа бесновалась, куда-то летела,
То бела, как призрак, то смугла и дика.
И около мертвых богов,
Чьи умерли рано пророки,
Где запады, с ними востоки,
Сплетался усталый ветер шагов,
Забывший дневные уроки.
И их ожерельем задумчиво мучая
Свой давно уж измученный ум,
Стоял у стены вечный узник созвучия,
В раздоре с весельем и жертвенник дум.
Смотрите, какою горой темноты,
Холмами, рекою, речным водопадом
Плащ, на землю складками падая,
Затмил голубые цветы,
В петлицу продетые Ладою.
И бровь его, на сон похожая,
На дикой ласточки полет,
И будто судорогой безбожия
Его закутан гордый рот.
С высокого темени волосы падали
Оленей сбесившимся стадом,
Что, в небе завидев врага,
Сбегает, закинув рога,
Волнуясь, беснуясь морскими волнами,
Рогами друг друга тесня,
Как каменной липой на темени,
И черной доверчивой мордой.
Все дрожат, дорожа и пылинкою времени,
Бросают сердца вожаку
И грудой бегут к леднику.
И волосы бросились вниз по плечам
Оленей сбесившимся стадом
По пропастям и водопадам,
Ночным табуном сумасшедших оленей,
С веселием страха, быстрее чем птаха!
Таким он стоял, сумасшедший и гордый
Певец (голубой темноты строгий кут,
Морскою волною обвил его шею измятый лоскут).
И только алмаз Кизил-Э
Зажег красноватой воды
Звездой очарованной, к булавке прикованной,
Плаща голубые труды,
Девичьей душой застрахованной.
О девушка, рада ли,
Что волосы падали
Рекой сумасшедших оленей,
Толпою в крутую и снежную пропасть,
Где белый белел воротничок?
В час великий, в час вечерний
Ты, забыв обет дочерний,
Причесала эти волосы,
Крылья дикого орлана,
Наклонясь, как жемчуг колоса,
С голубой душою панна.
И как ветер делит волны,
Свежей бури песнью полный,
Первой чайки криком пьяный,
Так скользил конец гребенки
На других миров ребенке,
Чьи усы темнеют нивой
Пашни умной и ленивой.
И теперь он не спал, не грезил и не жил,
Но, багровым лучом озаренный,
Узор стен из камней голубых
Черными кудрями нежил.
Он руки на груди сложил,
Прижатый к груде камней призрак,
Из жизни он бежал, каким-то светом
привлеченный,
Какой-то грезой удивленный,
И тело ждало у стены
Его души шагов с вершин,
Его обещанного спуска,
Как глина, полная воды,
Но без цветов пустой кувшин,
Без запаха и чувства.
У ног его рыдала русалка. Она,
Неясным желаньем полна,
Оставила шум колеса
И пришла к нему, слыхала чьи
Песни вечера не раз.
Души нежные русалочьи
Покорял вечерний час.
И забыв про ночные леса,
И мельника с чортом божбу,
И мельника небу присягу
Глухую его ворожбу
И игор подводных отвагу
Когда рассказом звездным вышит
Пруда ночного черный шелк,
И кто-то тайну мира слышит,
Из мира слов на небо вышед,
С ночного неба землю видит
И ждет к себе, что кто-то выйдет,
Что нежный умер и умолк,
Когда на камнях волос чешет
Русалочий прозрачный пол
И прячется в деревьях липы,
Конь всадника вечернего опешит,
и только гулкий голос выпи
Мычит на мельнице, как вол,
Утехой тайной сердце тешит
Усталой мельницы глагол,
И всё порука от порока,
Лишь в омуте блеснет морока,
И сновидением обмана
Из волн речных выходит панна.
И горделива и проста
Откроет дивные уста,
Поет про очи синие, исполненные прелести,
Что за паутиною лучей,
И про обманчивый ручей,
Сокрыт в неясном шелесте.
Тогда хотели звезды жгучие
Соединить в одно созвучие
И смуглую веру воды,
Веселые брызги русалок,
И мельницы ветхой труды,
И дерево, полное галок,
И девы ночные виды.
И вот, одинока, горда,
Отправилась ты в города.
При месяце белом
Синеющим телом
Пугает людей. Стучится в ворота
И входит к нему.
В душе у девы что-то
Неясное уму.
Но сердце вещее не трогали
Ночные барышни и щеголи,
Всегда их улицы полны
И густо ходят табуны.
Русалка, месяца лучами —
Невеста в день венца,
Молчанья полными глазами,
Краснея, смотрит на певца.
Глаза ночей. Они зовут и улетают
Туда, в отчизну лебедей,
И одуванчиком сияют
В кругах измученных бровей,
И нежно, нежно умоляют.
«Как часто мой красивый разум,
На мельницу седую приходя,
Ты истязал своим рассказом
О празднике научного огня.
Ведь месяцы сошли с небес,
Запутав очи в черный лес,
И, обученные людскому бегу,
Там водят молнии телегу
И толпами возят людей
На смену покорных коней.
На белую муку
Размолот старый мир
Работою рассудка,
И старый мир – он умер на скаку!
И над покойником синеет незабудка,
Реки чистоглазая дочь.
Над древним миром уже ночь!
Ты истязал меня рассказом,
Что с ним и я, русалка, умерла,
И не река девичьим глазом
Увидит времени орла.
Отец искусного мученья,
Ты был жесток в ночной тиши.
Несу венок твоему пенью,
В толпу поклонниц запиши!»
Молчит, руками обнимая,
Хватает угол у плаща
И, отшатнувшись и немая,
Вдруг смотрит молча, трепеща.
«Отец убийц! отец убийц – палач жестокий,
А я, по-твоему, – в гробу?
И раки кушают меня, клешнею черной обнимая?
Зачем чертой ночной мороки,
Порывы первые ломая,
Ты написал мою судьбу?
Как хочешь назови меня:
Собранием лучей,
Что катятся в окно,
Ручей-печаль, чей бег небесен,
Иль «нет» из «да» в долине песен,
Иль разум вод сквозь разум чисел,
Где синий реет коромысел.
Из небытия людей в волне
Ты вынул ум, а не возвысил
За смертью дремлющее «но».
Иль игрой ночных очей,
На лоне ночи светозарных,
И омутом, где всадник пьет,
Иль месяца лучом, что вырвался из скважин,
Иль мне быть сказкой суждено,
Но пощади меня! Отважен,
Переверни концом копье!»
Тогда рукою вдохновенной
На Богоматерь указал:
«Вы сестры. В этом нет сомнений.
Идите вместе, – он сказал. —
Обеим вам на нашем свете
Среди людей не знаю места
(Невеста вод и звезд невеста).
Но, взявшись за руки, идите
Речной волной бежать сквозь сети
Или нести созвездий нити
В глубинах темного собора
Широкой росписью стены,
Или жилицами волны
Скитаться вы обречены,
Быть божествами наяву
И в белом храме и в хлеву,
Жить нищими в тени забора,
Быть в рубище чужом и грязном,
Волною плыть к земным соблазнам
И быть столицей насекомых,
Блестя в божественные очи,
Спать на земле и на соломах,
Когда рука блистает ночи.
В саду берез, в долине вздохов
Иль в хате слез и странных охов,
Поймите, вы везде изгнанницы,
Вам участь горькая останется
Везде слыхать «Позвольте кланяться».
По белокаменным ступеням
Он в сад сошел и встал под Водолеем.
«Клянемся, клятве не изменим, —
Сказал он, руку подымая,
Сорвал цветок и дал обеим. —
Сколько тесных дней в году,
Стольких воль повторным словом
Я изгнанниц поведу
По путям судьбы суровым».
И призраком ночной семьи
Застыли трое у скамьи.
16–19 октября 1919, 1921.
* * *
Если все свои утопии Хлебников строит как развернутые большие тропы, переносные употребления слов, например «радио будущего» как развернутая метафора общения или «съедобная земля» как развернутая метонимия жизни, то в «Поэте» Хлебников дает энциклопедию малых тропов, смещений значений отдельных слов, во многом вдохновленных поэтикой Гоголя с его пышно-барочными развернутыми сравнениями.
Отметим главные и наименее понятные при первом чтении: «призрак золотой» – явление солнца в мире; «людские рощи босы» – народ танцует босиком; «цветами отмечая шаг» – наступая на цветы, оставляя в них след; «холод современный» – настоящий, ощущаемый прямо сейчас; «воздуха затеи» – мечты; «умных толп» – людей, всего народа; «рука воздушных продавщиц» – рука продавщиц на рынке под открытым небом; «пасть кита» – вероятно, отсылка к сюжету сказки П. П. Ершова «Конек-Горбунок»; «струя молитвенный покой» – отвечая на молитву; «кудрявых влас столицам» – по лицам как центру личности, как столице психической жизни; «голубого богомольцы» – пропущено «цвета»; «плаща голубые труды» – мечты рыцаря; «мельницы ветхой труды» – хлеб, который надо скормить русалкам, чтобы они не беспокоили; «одуванчиком сияют» – белым ярким светом во все стороны.
Парафразы вроде «И раки кушают меня, клешнею черной обнимая» лермонтовского «И звезды слушают меня, лучами радостно играя» настолько изумительны, что сразу должны, согласно Хлебникову, опознаваться читателем.
Пушкин и чистые законы времени
Раздел из «Досок судьбы», сочинения, над которым Хлебников работал весь поздний период жизни, не жалея сил и здоровья, с весны 1920 года. В декабре этого же года Хлебников читал доклад в Баку о числовых законах истории, на основе уже подготовленных материалов, и хотя аудитория не подхватила его мысли, он показывал потом выданную ему организаторами лекции справку о его пророчестве о появлении новой Республики – после оказалось, что он угадал с точностью до дня образование одного из государств советского Закавказья. Слово «доски» – просто русификация слова «таблицы», хотя позднейшими поколениями поэтов они рассматривались как новые скрижали, «немые свидетели его жизни», как назвал их Николай Заболоцкий в поэме «Торжество земледелия». Хлебников писал этот труд не с теоретической целью, а с практической – победить фатум смерти, благодаря собственным законам чисел, которые если сработают правильно, то отменят смерть. Эти законы чисел понимаются не как, закономерности, но как стремление чисел к самостоятельности, к приумножению, к раскрытию своих свойств, понятых и как математические свойства, и как свойства характера, самореализации. Уже не знаешь, о каких достижениях идет речь – о достижении математического предела или о достижении полной самостоятельности.
Пушкин был для Хлебникова певцом самостоятельности власти, самодеятельного и самобытного государственного начала, но не знатоком математики. Даже Гоголю Хлебников отдавал предпочтение как математику – в этом он сходился с Андреем Белым, нашедшим в прозе Гоголя математические, геометрические закономерности. Вершиной творчества Пушкина Хлебников объявляет стихотворение «Анчар», в котором власть понимается как утрата над собой контроля, как эксцентрика завоевателя, в сравнении с которой любая стратегия, включая ту самую добычу яда, губительна – раб гибнет как «человек», а царь утверждает себя как посредник дела смерти. Этот образ был близок Хлебникову, который даже в официальной автобиографии назвал себя обрученным со смертью и позволил сблизить «Анчар» с «Полтавой», где царь выступает как видение, как «божия гроза», и только гладкость стиха не дает пережить фатальность исторических законов.
* * *
10. Х.1824 <года> Пушкин закончил «Цыган». В этой вещи вдохновение жертвенно курилось перед человеческой личностью, чуждой законам государства и общества. И около костра, прославлявшего гибель государства и освобождение от него личности, жречески стоял сам Пушкин.
Через 3+3 <дней>, по законам чистого времени, должна быть обратная волна, и на самом деле 8–9 окт<ября> 1828 <года> Пушкин заканчивает «Полтаву», где прославляется государственное начало в его высшем проявлении – Петре Великом, и самодержавный молот, набивший на русский бочонок суровый обруч Полтавской битвы, находит певца в певце «Цыган».
Личность, враждующую с государством, сменяет «Отец России», отец государства – Петр.
Напротив, 15.V.1821 <года> закончен «Кавказский пленник» с таким настроением: русский в первобытном быту горцев; дыхание, здоровье Востока, его дикой воли и силы, на русское зеркало.
Через З6+З6-22 <дней> после этого, 9.V.1823 <года> начат «Евгений Онегин», где взято обратное настроение: изнеженный Запад и русский человек; разлагающее действие Запада, гибель духа, оторванного от Азийского ствола.
«Кавказский пленник» вскрыл встречу русского с первобытным Востоком, диким и полным здоровья; «Евгений Онегин» – его встречу с «образованным Западом», с его «пагубным» дыханием.
Таким образом, колебательный закон времени легко проверяется на творчестве Пушкина.
«Анчар», посвященный красоте власти, ее грозному величию, написан через 2 (=32 дня) после «Полтавы», именно 9.XI.1828 <года>; в нем, приемами Пикассо, взят тот же самодержец.
Вообще через 2n следует рост событий.
* * *
Пояснить здесь нужно две вещи: почему «Евгений Онегин» толкуется как роман о западном начале как начале разложения и почему техника «Анчара» сравнивается с Пикассо. «Евгений Онегин» понят Хлебниковым не просто как рассказ об индивидуализме, но как исследование истории изнеженности: роман для Хлебникова – это не жанр патетических характеров, но жанр расслабленности духа, измельчания страстей. Хотя тема измельчания Запада и витальности Азии – одна из ультраконсервативных тем, возникших задолго до Хлебникова, особенность подхода Хлебникова в том, что Азия для него не столько витальна, сколько драматична; в отличие от эпического «зеркала», Азия создает собственную драматургию событий.
Пикассо, который стал известен русскому зрителю рано, благодаря щукинской коллекции современного западного искусства, был воспринят не как, только новатор формы, но как новатор содержания: как сообщающий о новом состоянии мира. С точки зрения футуристов, страх символистов перед такой вестью ничем не оправдан. Поэтому Пикассо был истолкован футуристами как главный художник, способный сказать о новом типе власти, которая сама перед собой несет весть о себе. Именно такова власть «Анчара» во всем своем роковом размахе: она сообщает о власти прежде, чем сообщит о своем человеческом содержании.









































