Читать книгу "Шествуют творяне"
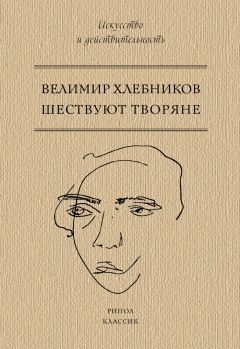
Автор книги: Виктор Хлебников
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Голова вселенной. Время в пространстве
Этот Манифест был написан весной 1919 г. для сборника «Интернационал искусства». Выражение «числовые лубки» в первой же фразе Манифеста отсылает к художественной манере Малевича и вообще русского авангарда, для которого лубок был победой цвета над перспективой, а значит, в нем, по Хлебникову, число, номер цвета, номер, увиденный как цвет, выигрывал у судьбы с ее гаданиями о перспективах человечества.
«Клети и границы отдельных наук» – отсылка к классическому дюреровскому пониманию живописной перспективы как сетки, в которой нужно орудовать строгой графической линией, нажимающей как граница. Хлебников кладет в основу нового искусства «атом гелия», в атомарных значениях которого он разглядел землю и молнию, во вспышках газа – освещение молнией всей земли, и исчисление спутников Юпитера – в «Досках судьбы» это часть установления «азбуки неба», правильного синтаксического членения явлений космоса.
В этом тексте можно увидеть полемику и с теорией относительности Эйнштейна: художник Хлебникова производит «свободные удары по научному пространству», иначе говоря, моделирует любые свойства пространства. Свойства пространства определяются не числовыми свойствами как свойствами времени и скоростей, а числовыми схемами, «числоуглем», как чистой вспышкой пространственной интуиции, пламенеющим углем пророка. «Быстрота обогатится новой быстротой – быстротой мысли». – А здесь Хлебников невольно мыслит деформацию времени при достижении околосветовых скоростей, но только, в отличие от Эйнштейна, Хлебников всегда мыслит любое преодоление судьбы как обогащение во всех смыслах, от обогащения руды до обогащения впечатлений.
* * *
1. Есть виды нового искусства числовых лубков, творчества, где вдохновенная голова вселенной так, как она повернута к художнику, свободно пишется художником числа; клети и границы отдельных наук не нужны ему: он не ребенок. Проповедуя свободный треугольник трех точек: мир, художник и число, он пишет ухо или уста вселенной широкой кистью чисел и, совершая свободные удары по научному пространству, знает, что число служит разуму тем же, чем черный уголь руке художника, а глина или мел – ваятелю, работая числоуглем, объединяя в этом искусстве бывшие до него знания. Пусть одна строчка дает внезапную, подобную молнии, связь кровяного шарика и Земли, другая падает в гелий, третья разбивается о непреклонное небо, открывая спутников Юпитера. Быстрота обогатится новой быстротой – быстротой мысли, а границы отдельных знаний исчезнут перед шествием чисел на свободе, брошенных в печать как приказы по земному шару. Вот они, эти виды нового творчества, возможного по нашему мнению.
Поверхность Земли – 510 051 300 кв. километров; поверхность красного кровяного шарика, этого гражданина, этой звезды Млечного Пути Человека – 0,000128 кв. миллиметра. Между гражданином неба и гражданином тела заключен договор, вот он: поверхность земной звезды, деленная на поверхность звездочки кровяного шара, равна 365 в десятой степени (36510) – прекрасная созвучность двух миров, право человека быть первым на Земле. Это первая статья договора государства кровяных шариков с государством небесных шаров. Двуногий живой Млечный Путь и его звездочка заключили союз тристашестидесятипятиричности с Млечным Путем на небе и его большой звездой Земли. Мертвый Млечный Путь и живой здесь дали свои подписи как два равноправных правовых лица.
2. В некоторых теневых чертежах Малевича, его друзах черных плоскостей и шаров, я нашел, что отношение наибольшей затененной площади к наименьшему черному кругу есть 365. Итак, в этих сборниках плоскостей есть теневой год и теневой день. Я увидел снова в области живописи время приказывающим пространству. В сознании этого художника белые и черные цвета то ведут настоящие бои между собой, то исчезают совсем, уступая место чистому размеру.
* * *
Идея сопоставления планетарных систем и атомов по сходству структуры была известна – этому посвящено одно из поздних стихотворений Валерия Брюсова, предположившего рекурсию, что и на электронах атома может быть жизнь. Только у Хлебникова этот договор заключают мертвое и живое: основополагающая хлебниковская автобиографическая тема брака со смертью оказывается здесь темой всемирного договора, всемирной шахматной партии, за которой и последует не вмещающийся ни в одну готовую клетку Ладомир гармонии.
Описание творчества Малевича напоминает о шахматах, в которых смерть ставит всегда у Хлебникова мат человеку; только Малевич научился масштабировать шахматы, тем самым достигая эффекта слияния цвета и впечатления от него в пятне неразличимости, в «друзе» – наросте на гранях кристалла нашего зрения.
Малевича Хлебников понимал и как, победителя годового времени. Как писал Хлебников в одном из черновиков: «В некоторых теневых чертежах Малевича я нашел, что отношение наибольшей затененной площади к наименьшей темной – число 365 – равно году, деленному на день. Я подпрыгнул от радости, увидев время приказывающим пространству. И великое число Земли да<ющим> красоту площадей. Отсюда вывод: чтоб памятник был красив, его пятно должно быть в 365 раз меньше площади». Цвета различных времен года оборачиваются прекраснейшей победой над временем, и правильный масштаб – правильным знанием.
Послесловие к стихам Федора Богородского
Написать послесловие к стихам рабочего труднее всего – рабочий проходит литературную учебу не у тех, кто пишет послесловия, и обращается не к тем, кто читает в первую очередь послесловия. Но Хлебников сразу вписал творчество рабочего в круг знакомых ему образов: корзины счастья, наследующей «корзине… овощей» поэмы «Поэт», образу щедрости поэта, сумевшего посмотреть со стороны на собственную любовь.
Пролетарский поэт, по мысли Хлебникова, может смотреть со стороны не только на собственную любовь, но и на собственное счастье. Тогда «шуруп» его мысли, просверливая готовые декорации пространства, дарует неподдельное счастье другим.
* * *
Творчество – это искра между избытком счастья певца и несчастьем толпы.
Творчество – разность между чьим-нибудь счастьем и общим несчастьем.
И тогда, когда чье-нибудь счастье треплется, как последний лист осени или первый всход весной, оно спешит пропеть свое «кукареку».
Я – здесь!
Я – счастлив.
А вы как?
Такова и книга Федора Богородского. Он – продавщик с корзиной счастья, кричащий не «огурцы!», а «даешь, берешь счастье!».
Следуя глухому шепоту разума, он рассказывает, при каких условиях им в данной обстановке решена его задача счастья, чему он молится, что осыпает бранью или просто толкает сапогом, как обветшалый пень, полный пыли.
У кого нет счастья, идите к новому портному, Федору Богородскому!
Он скроит! Сошьет!
Он знает, как сшить счастье.
Он «ввинтил шуруп лучей в гайку облаков» и, не успевши свернуть буйной головы в этот час мировых суток, знает, как ложатся тени и лучи счастья.
Вы, читающие, смотрите, как всплескиваются волны славословия у материков брани.
Не забудьте этот случайный чертеж, раскрашенный мозолистой рукой «братишки» Федора Богородского.
Он счастлив —
А вы как?
Январь 1922
* * *
Кроме послесловия Хлебникова, в книгу Ф. Богородского «Даешь! Как будто стихи» были включены также послесловия В. Каменского, С. Спасского и «рабочего Родова» – поэта Пролеткульта. Хлебников искаженно цитирует два стиха Богородского «Ввинтился в облачную гайку / Лучей шуруп». Хлебников превратил описание сцены, будто театральной, в критику любой театральности.
Славословие должно быть не вокруг сцены, но вокруг «материков брани», иначе говоря, действительного столкновения художественных миров, после которого не будет войн. Нужно уметь «раскрасить чертеж» – превратить дюреровскую сетку или фатальные шахматы, с чем мы познакомились при чтении предыдущего в этом сборнике текста Хлебникова, в ладомир яркого и яростного авангардного лубка.
Шествие осеней Пятигорска
Поэма Хлебникова синтетична в высшем смысле – она синтезирует не мысли или чувства, но аскезу мысли и избыток жизни. Сама природа помнит о смерти, в ней «золотые черепа растений», при этом только в ней обилие ценностей, «червонцев», которые у Хлебникова вовсе не метафора («Червонцы мечет листопад» у советского поэта-функционера Н. Грибачева), а научное обозначение ценности природы, превышающей ценность любых отдельных и даже совмещенных человеческих замыслов: любая совместность грозит оказаться разбойничьей.
Подвижники Кавказа живут на кромке скал как на записи фонографа – кромка гор напомнила неровную дорожку виниловой пластинки или валика, и не случайно. Ведь именно на Кавказе иеромонах Иларион Домрачёв напомнил, что подвижник созерцает Имя Божие, которое прекраснее даже мысленной прекрасной вещи, не говоря даже о реальной. Тогда сердечная стенограмма созерцания, мысленного дела, делает кромку гор лишь своей звучащей тенью.
На дне бывшего моря, того большого Каспия, о котором Хлебников грезил как о родине, все тени верны ему вернее псов. Это не тени страха или преследования, но тени художника, недовоплощенные замыслы, которые полюбили художника раньше, чем он успел их воплотить.
Осень Хлебникова – время, когда созрели плоды, но не созрела любовь. Любовь осталась подростковой, импульсивной, обвиняющей, показывающей кукиш или видящей кукиш – такой, которую бы оценили А. Рембо и П. Элюар. Но Хлебников, в отличие от этих поэтов, глядит на незрелую любовь среди перезрелых подсолнухов не сбоку, а сверху, как уже ушедший путями мечты: не оставляющий следы, но идущий по следам, которые еще только будут, – что оценили бы среди поэтов XX века Р. Шар и О. Элитис. Здесь сюжет и становится гимном, идущим по лыжне вздохов на лыжах оживляющего всех людей дыхания.
1
Опустило солнце осеннее
Свой золотой и теплый посох,
И золотые черепа растений
Застряли на утесах,
Сонные тучи осени синей,
По небу ясному мечется иней;
Лишь золотые трупики веток
Мечутся дико и тянутся к людям:
«Не надо делений, не надо меток,
Вы были нами, мы вами будем».
Бьются и вьются,
Сморщены, скрючены,
Ветром осенним дико измучены.
Тучи тянулись кверху уступы.
Черных деревьев голые трупы
Черные волосы бросили нам,
Точно ранним утром, к ногам еще босым
С лукавым вопросом:
«Верите снам?»
С тобой буду на ты я.
Сады одевали сны золотые.
Все оголилось. Золото струилось.
Вот дерева призрак колючий:
В нем сотни червонцев блестят!
Скряга, что же ты?
Пойди и сорви,
Набей кошелек!
Или боишься, что воры
Большие начнут разговоры?
2
Грозя убийцы лезвием,
Трикратною смутною бритвой,
Горбились серые горы:
Дремали здесь мертвые битвы
С высохшей кровью пены и пана.
Это Бештау грубой кривой,
В всплесках камней свободней разбоя,
Похожий на запись далекого звука,
На А или У в передаче иглой
И на кремневые стрелы
Древних охотников лука,
Полон духа земли, облаком белый,
Небу грозил боевым лезвием,
Точно оно – слабое горло, нежнее, чем лен.
Он же – кремневый нож
В грубой жестокой руке,
К шее небес устремлен.
Но не смутился небесный объем:
Божие ясно чело.
Как прокаженного крепкие цепи
Бештау связали,
К долу прибили
Ловкие степи:
Бесноватый дикарь – вдалеке!
Ходят белые очи и носятся полосы,
На записи голоса,
На почерке звука жили пустынники.
В светлом бору, в чаще малинника
Слушать зарянок
И желтых овсянок.
Жилою была
Горная голоса запись.
Там светлые воды и камни-жрецы,
Молились им верно седые отцы.
3
Кувшины издревле умершего моря
Стояли на страже осени серой.
Я древнюю рыбку заметил в кувшине.
Плеснулась волна это
Мертвого моря.
Из моря, ставшего серым строгим бревном,
Напилены доски, орлы
Умной пилой человека.
Лестниц-ручьев, лада песен морей,
Шероховаты ступени.
Точно коровий язык.
Серый и грубый, шершавый.
Белые стены на холмы вели
По трупам усопшей волны, усопшего моря.
Туда, на Пролом,
Где «Орел» и труп моря
Крылья развеял свои высоко и броско,
Точно острые мечи.
Над осени миром покорнее воска
Лапти шагают по трупам морей,
Босяк-великан беседует тихо
Со мной о божиих пташках.
Белый шлем над лицом плитняковым холма,
степного вождя,
Шероховатые шершавы лестниц лады
Песен засохшего моря!
Серые избы из волн мертвого моря, из мертвого
поля для бурь!
Для китов и для ящеров поляна для древней
лапты стала доской.
Здесь кипучие ключи
Человеческое горе, человеческие слезы
Топят бурно в смех и пение.
Сколько собак,
Художники серой своей головы,
Стерегут Пятигорск!
В меху облаков
Две Жучки,
Курган Золотой, Машук и Дубравный.
В черные ноздри их кто поцелует?
Вскочат, лапы кому на плечи положив?
А в городе смотрятся в окна
Писатели, дети, врачи и торговцы!
И волос девушки каждой – небоскреб тысяч
людей!
Эти зеленые крыши, как овцы,
Тычутся мордой друг в друга и дремлют.
Ножами золотыми стояли тополя,
И девочка подруге кричит задорно «ля».
Гонит тучи ветреный хвост.
4
Осени скрипки зловещи,
Когда золотятся зеленые вещи.
Ветер осени
Швырял листьями в небо, горстью любовных
писем,
И по ошибке попал в глаза (дыры неба среди
темных веток).
Я виноват,
Что пошел назад.
Тыкал пальцем в небо,
Горько упрекая,
И с земли поднял и бросил
В лицо горсть
Обвинительных писем,
Что поздно.
5
Плевки золотые чахотки
И харканье золотом веток,
Карканье веток трупа золотого, веток умерших,
Падших к ногам.
Шурши, где сидел Шура, на этой скамье,
Шаря корня широкий сапог, шорох золотого,
Шаря воздух, садясь на коней ветра мгновенного,
В зубы ветру смотря и хвост подымая,
Табор цыган золотых,
Стан бродяг осени, полон охоты летучей,
погони и шипа.
6
Разбейся, разбейся,
Мой мозг, о громады народного «нет».
Полно по волнам носиться
Стеклянной звездою.
Это мне над рыжей степью
Осени снежный кукиш!
А осень – золотая кровать
Лета в зеленом шелковом дыме.
Ухожу целовать
Холодные пальцы зим.
7
Стали черными, ослепли золотые глазята
подсолнухов,
Земля мостовая из семенух.
Сколько любовных речей
Ныне затоптано в землю!
Нежные вздохи
Лыжами служат моим сапогам,
Вместе с плевком вспорхнули на воздух!
Это не сад, а изжога любви,
Любви с семенами подсолнуха.
* * *
Поэма была создана за один присест, 8 ноября 1921 г., и почти не нуждается в фактических пояснениях.
Шура – брат поэта Александр Владимирович Хлебников.
Пролом – достопримечательность Пятигорска, провал на склоне Машука, «Орел» – скульптура, установленная в 1903 году, две Жучки – жаргонное именование вершин Юца и Джуца.









































