Читать книгу "Шествуют творяне"
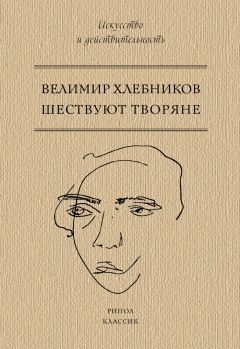
Автор книги: Виктор Хлебников
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
О расширении пределов русской словесности
* * *
Это – одна из немногих статей Хлебникова, написанная по заказу редакции, за заранее оговоренный гонорар. В 1913 г. была создана «политическая беспартийно-прогрессивная» газета «Славянин», и Хлебников стал внештатным сотрудником, борцом за славянское братство. Эта газета, в которой сотрудничали корреспонденты разных славянских стран и краев, была посвящена как политическим вопросам новой конфигурации Европы после двух Балканских войн, так и этнографическому изучению славянства как своеобразного начала Европы.
Готовя статью, Хлебников много читал: скажем, он явно читал книгу С. Ф. Добрянского «Кистории отношений Рагузской республики с Россией в XVIII и XIX веках» и вынес из нее то, что этот тип славянской политико-экономической организации совсем не усвоен Россией. О балтийском острове Рюген как о древнем центре славянства можно было прочесть даже в учебниках. Хлебников указывает на стихи А. К. Толстого «Ругевит» и «Боривой» как на первый подступ к осмыслению славянского мореходства и власти над Балтикой. О Вадиме Новгородском Хлебников прочел у Лермонтова, а Косовская и Грюнвальдская битвы интересовали его всегда.
Святогор, передавший свою силу победителю Илье Муромцу – для Хлебникова и образец правильной литературной эволюции: как бы ни была добыта победа, она назначает своих старших и младших, она назначает свое ответственное будущее для каждого участника битвы. Поэту остается воспеть каждое такое будущее, и только тогда действительно пределы словесности окажутся расширены.
* * *
Русской словесности вообще присуще название «богатая, русская». Однако более пристальное изучение открывает богатство дарований и некоторую узость ее очертаний и пределов. Поэтому могут быть перечислены области, которых она мало или совсем не касалась. Так, она мало затронула Польшу. Кажется, ни разу не шагнула за границы Австрии. Удивительный быт Дубровника (Рагузы), с его пылкими страстями, с его расцветом, Медо-Пуцичами, остался незнаком ей. И, таким образом, славянская Генуя или Венеция осталась в стороне от ее русла. Рюген, с его грозными божествами, и загадочные поморяне, и полабские славяне, называвшие луну Леуной, лишь отчасти затронуты в песнях Алексея Толстого. Самко, первый вождь славян, современник Магомета и, может быть, северный блеск одной и той же зарницы, совсем не известен ей. Более, благодаря песни Лермонтова, посчастливилось Вадиму. Управда как славянин или русский (почему нет?) на престоле второго Рима также за пределами таинственного круга.
Она не знает персидских и монгольских веяний, хотя монголо-финны предшествовали русским в обладании землей. Индия для нее какая-то заповедная роща.
В промежутках между Рюриком и Владимиром или Иоанном Грозным и Петром Великим русский народ для нее как бы не существовал, и, таким образом, из русской Библии сейчас существует только несколько глав («Вадим», «Руслан и Людмила», «Боярин Орша», «Полтава»).
В пределах России она забыла про государство на Волге – старый Булгар, Казань, древние пути в Индию, сношения с арабами, Биармское царство. Удельный строй, кроме Новгорода, Псков и казацкие государства остались в стороне от ее русла. Она не замечает в казаках низшей степени дворянства, созданной духом земли, напоминающей японских самураев. Из отдельных мест ею воспет Кавказ, но не Урал и Сибирь с Амуром, с его самыми древними преданиями о прошлом людей (орочоны). Великий рубеж 14-го и 15-го века, где собрались вместе Куликовская, Косовская и Грюнвальдская битвы, совсем не известен ей и ждет своего Пржевальского.
Плохо известно ей и существование евреев. Также нет творения или дела, которое выразило бы дух материка и душу побежденных туземцев, подобно «Гайавате» Лонгфелло. Такое творение как бы передает дыхание жизни побежденных победителю. Святогор и Илья Муромец.
Стремление к отщепенству некоторых русских народностей объясняется, может быть, этой искусственной узостью русской литературы. Мозг земли не может быть только великорусским. Лучше, если бы он был материковым.
* * *
Ограничимся несколькими красноречивыми фактическими пояснениями. Медо Пуцич (1821–1882) – один из крупнейших хорватских поэтов, мечтал о федерации Южных славян. Самко – так Хлебников не только здесь называет легендарного Само, князя объединенных западных славян (VII в.), вероятно добавляя чешской или украинской ласки (а может, имя Садко) в сами звуки его имени. Биармское царство известно только из скандинавских саг как место добычи мехов и кости мамонтов – вероятно, имелся в виду Пермский край.
Слова Хлебникова о том, что славянство плохо знает культуру евреев, могут быть правильно поняты, только исходя из тогдашнего внимания историографии к расселению еврейской диаспоры в Причерноморье, еще до прихода славян. Для Хлебникова узнать культуру евреев означало воздать необходимое уважение старшим товарищам. Именно в таком уважении Хлебников видел средство против «отщепенства», сепаратизма, в котором он усматривал вспыльчивую непочтительность к старшим.
Песни 13 весен. Болтовня около красоты
* * *
«Все прекрасно, что прекрасно» – звучит совсем как строка Сапфо или максима Платона, но это связующее замечание в статье Хлебникова. Связующее здесь значит и ключевое: Хлебников решил доказать, что смутная психология подростка – ключ к будущему страны и мира. Внимание к психологии подростка обычно для тех лет: молодой Мандельштам не меньше исследовал свои смутные состояния – «я вырос, тростинкой шурша».
Хлебников находит в стихах начинающей поэтессы строгий такт шестнадцати слогов, внутри которых меняется субъект, слово «гулкий» больше подошло телеграфу, чем слогу. И правда, девочку Милицу надлежит считать далекой предшественницей нынешней сетевой поэзии, в которой коммуникативная сторона важнее эстетической. Но «театр размеров» для Хлебникова – это не только возможность сообщать по такому телеграфу целые сцены, это и возможность сделать свое лицо впервые настоящим лицом, а не гримасой испуга или подражания.
Поэзия девочки-подростка напоминает Хлебникову о римской доблести, о Лукреции, о верности чести и Отчизне как едином векторе верности. Отвага для него – не только корень красоты, как будет у Б. Пастернака, но и крона красоты, завершение того прислушивания к звукам, той игры с прозрачными смыслами звука, в которой вызревает томящаяся душа будущего взрослого.
* * *
Прекрасно, когда после года молодого месяца славы рок берет свою свирель и прислоняет ее к нежным детским устам и заставляет ее звать о мужестве и к суровым добродетелям воинов.
Здесь можно заглянуть на сущность вольного размера. Вот «Песнь к ветру»: восемь слогов строки – восемь чисел в одежде звука; в них гулки нечетные слоги:
И под плач твой заунывный
Грустно стало мне самой.
Здесь есть строгость созерцания. Но в следующих шестнадцати слогах,
Ветер, перестань, противный,
Надоел сердитый вой
над словом «перестань» нет двух ударов, и очаровательная свобода от ударных слогов вызывает смену действующего лица первых шестнадцати слогов действующим лицом вторых шестнадцати слогов.
Действующее лицо первых шестнадцати слогов скорбное, строгое, грустное. Вторые наделены веселой лукавой усмешкой и задором к ветру. Это юное смеющееся лицо. Итак, отвлеченная задача размера погрешностей заключается в том, что в нем размеры суть действующие лица, каждое с разными заданиями выступая на подмостках слова.
Очаровательная погрешность, только она приподымает покрывало с однообразно одетых размером строк, и только тогда мы узнаем, что их не одно, а несколько, толпа, потому что видим разные лица.
Заметим, что волевой рассудочный нажим в изменении размера у В. Брюсова и Андрея Белого не дает этих открытий подобно погрешности, и лица кажутся неестественными и искусственно написанными.
Этот размер есть театр размеров, так как покрывало размера приподнято ворвавшимся ветром и смотрит живое лицо.
Строчка есть ходьба или пляска входящего в одни двери и выходящего в другие.
Строгий размер есть немая пляска, но свобода от него (не искусственная, а невольная) есть уже язык, чувство, одаренное словом.
Это общая черта людей песни будущего.
Замолчи, замолкни, ветер,
И меня ты пожалей.
Трогательной просьбой кончается строчка.
Пользование выражением в «прекрасных хоромах» относительно римлянки и римской жизни указывает, что в этой душе даже самые высокие числа иноземного быта не выше чисел русского быта, и юный дух с отчаяния бросается на меч, доказывая это.
Итак, мы делаем вывод, что чувства этого сердца опережают его возраст. Они весть «я» в будущем – «я» сегодня.
Вот описание чувств:
Он забыл тут прелесть ночи,
Он видел только черны очи.
Этот тончайший взмах кисти на тонкой глине детской души.
Ей нежно руки сжал,
Слова любви шептал.
Доверчиво она склонила
Головку на плечо ему.
И он руку нежно взял,
Прижал к губам и замолчал.
Особую красоту дает пользование простым словом для построения образов: сердца цветок «поблек, И смерть уже около ходит».
Как просто и изящно.
Полуклятва:
Французский не буду
Учить никогда!
В немецкую книгу
Не буду смотреть.
Вот слава на щите юной волны. Не могли бы поучиться ей взрослые?
Итак, взрослые не отравленную ли чашу бытия дают детям (России завтра), если могла возникнуть эта горькая решимость:
Скорее, скорее
Хочу умереть!
Французский не буду
Учить никогда!
В немецкую книгу
Не буду смотреть!
Вот строчки прекрасные по мировой тайне, просвечивающей сквозь милые еще сердцу детские образы:
И в темной могилке,
Как в теплой кроватке,
Я буду лежать,
Страшась и боясь.
… Но страх я забуду,
Как только скажу
Слова роковые,
Опять повторю.
Все прекрасно, что прекрасно, говорите вы, закрывая неровный почерк этих строчек.
Здесь слышится холодный полет истины: родина сильнее смерти. Но эта истина становится величественной, когда ее твердят детские уста.
Итак, к детскому сердцу мировая скорбь находит путь через французский и немецкий, через умаление прав русских. Отчего не закрыть это крыльцо?
Мы верим, что если этот ум будет верить себе, то все, что выйдет из-под его пера, будет прекрасно и звонко.
<1912–1913>
* * *
Хлебников написал этот текст как сопровождение публикации стихотворений «малороссиянки Милицы», тринадцатилетней девочки-подростка, судя по названию. Во втором выпуске альманаха М. В. Матюшина «Садок судей» (1913) после всех радикальных эстетических опытов нашлось место трем стихотворениям Милицы, но не статье Хлебникова. Алексей Кручёных, футурист и один из создателей альманаха, вспоминал, что многие стихи Милицы оказались неприемлемы для редакции из-за наивного монархизма девочки, готовой, как новая Жанна д'Арк и Сусанин в одном лице, защищать православного государя. Слово самой Милице:
К Государю
О наш великий Государь,
Наш православный русский царь!
Тебя люблю я всей душою,
Любовью детскою, простою.
Вели – умру, вели же буду жить,
Всем буду верить, всех любить.
Вели себя закую в латы
Надену шлем и меч возьму,
На врага ударив смело,
На поле битвы я умру.
Пусть говорят тогда: там дева пала!
Она за Государя смерти ждала,
За родину свою.
И счастлива в гробу
Тогда я буду,
Недаром же я русскою зовусь
И к Государю всей душою я стремлюсь.
Это стихотворение Хлебников хотел даже сначала включить в сверхповесть «Дети Выдры». О связи свободы, танца и поэтического ритма символисты действительно думали мало, хотя еще Лев Толстой в бессмертном фельетоне «Что такое искусство» сравнил поэзию с приплясыванием пахаря, идущего за плугом. Русские футуристы сразу декларировали свободу размеров и сокрушение ритмов: иначе говоря, движения души опережают любой ритм, оказываются в тексте непосредственными знаками вдохновения, что отличает футуристов от символистов, искавших в ритмических рисунках новые смыслы.
О пяти и более чувствах
Вероятно, самый ранний эстетический трактат Хлебникова, помеченный 24 ноября 1904 года. Можно только удивляться, насколько начинающий поэт и мыслитель предвосхитил ту проблематику анализа пространства как одновременно области минимальной символизации и области соперничающих скоростей, которой занимались потом Флоренский и Фаворский уже в двадцатые годы, изнутри деятельности ВХУТЕМАСа. В этих концепциях точка бралась как минимальный сакральный символ, а пространственность анализировалась в зависимости от того, как она переконфигурируется сакральным, как бы обладающим собственным чувством.
Хлебников берет символистскую идею синестезии, взаимопроникновения чувств, скажем, зрения и слуха, при очень быстрой реакции, но полагает в основу синестезии не грезу или воспоминание, но почти только математическую интуицию точки. Скорее всего, Хлебников взял идею синестезии из трудов проф. Вильгельма Вундта, создателя экспериментальной психологии, но понял ее не как инструмент для исследования работы психологических механизмов, но как способ развертывания психической жизни в виде пространств различных форм, кругового, эллипсоидного или, скажем, прямоугольного. Точка в таком случае оказывается математическим началом трогательности, неконтролируемой реакции, которая при этом всегда экспансивна, пытается «населить пустующие пустыри».
Идея топологических преобразований в математике, превращения круга в треугольник, оказывается перенесена на восприятие цвета, звука или запаха: все они понимаются Хлебниковым как своеобразные округлые конфигурации, которые только их функционирование развертывает в плоскость или линию.
* * *
Пять ликов, их пять, но мало. Отчего не: одно оно, но велико?
Узор точек, когда ты заполнишь белеющие пространства, когда населишь пустующие пустыри?
Есть некоторое много, неопределенно протяженное многообразие, непрерывно изменяющееся, которое по отношению к нашим пяти чувствам находится в том же положении, в каком двупротяженное непрерывное пространство находится по отношению к треугольнику, кругу, разрезу яйца, прямоугольнику.
То есть как треугольник, круг, восьмиугольник суть части плоскости, так и наши слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные ощущения суть части, случайные обмолвки этого одного великого, протяженного многообразия.
Оно подняло львиную голову и смотрит на нас, но уста его сомкнуты.
Далее, точно так, как непрерывным изменением круга можно получить треугольник, а треугольник <соответственно превратить в восьмиугольник, как из шара в трехпротяженном пространстве можно непрерывным изменением получить яйцо, яблоко, рог, бочонок, точно так же есть некоторые величины, независимые переменные, с изменением которых ощущения разных рядов – например, слуховое и зрительное или обонятельное – переходят одно в другое.
Так, есть величины, с изменением которых синий цвет василька (я беру чистое ощущение), непрерывно изменяясь, проходя через неведомые нам, людям, области разрыва, превратится в звук кукования кукушки или в плач ребенка, станет им.
При этом, непрерывно изменяясь, он образует некоторое однопротяженное многообразие, все точки которого, кроме близких к первой и последней, будут относиться к области неведомых ощущений, они будут как бы из другого мира.
Осветило ли хоть раз ум смертного такое многообразие, сверкнув, как молния соединяет две надувшихся тучи, соединив два ряда переживаний в воспаленном сознании больного мозга?
Может быть, в предсмертный миг, когда все торопится, все в паническом страхе спасается бегством, спешит, прыгает через перегородки, не надеясь спасти целого, совокупность многих личных жизней, но заботясь только о своей, когда в голове человека происходит то же, что происходит в городе, заливаемом голодными волнами жидкого, расплавленного камня, может быть, в этот предсмертный миг в голове всякого с страшной быстротой происходит такое заполнение разрывов и рвов, нарушение форм и установленных границ. А может, в сознании всякого с той же страшной быстротой ощущение порядка А переходит в ощущение порядка В, и только тогда, став В, ощущение теряет свою скорость и становится уловимым, как мы улавливаем спицы колеса лишь тогда, когда скорость его кручения становится менее некоторого предела. Самые же скорости пробегания ощущениями этого неведомого пространства подобраны так, чтобы с наибольшей медлительностью протекали те ощущения, которые наиболее связаны положительно или отрицательно с безопасностью всего существа. И таким образом были бы рассматриваемы с наибольшими подробностями и оттенками. Те же ощущения, которые наименее связаны с вопросами существования, те протекают с быстротой, не позволяющей останавливаться на них сознанию.
* * *
Настоящее открытие Хлебникова, к несчастью, очень слабо воспринятое позднейшей эстетикой – классификация чувств сразу по двум разным критериям, по скорости и по качеству. Это позволяет мыслить рассмотрение «оттенков», чувственных впечатлений, как рассмотрение подробностей, которое всегда у ученого Хлебникова означает переконфигурирование пространства. Вероятно, все эти мысли о новой скорости пространства как единственной возможности познать меняющуюся форму как меняющуюся судьбу пришли Хлебникову из его поэтического опыта. Как писал он сам в одном из стихотворений 1915 г.:
Пред смертью жизнь мелькает снова,
Но очень скоро и иначе.
Небо кажется не только размером с овчинку, но и размером с подлинное инобытие.
Фрагменты о фамилиях
Написанная в 1909 году единственная литературно-критическая статья Хлебникова; после этого Хлебников писал только манифесты или резкую полемику, обличая символистов или создателя итальянского футуризма Маринетти.
Хлебников привычно противопоставляет «имя» как обозначение индивидуальной вещи, рядовое каталожное указание, и «фамилию» как миф, как коллективное переживание. В двух самых знаменитых античных стилизациях начала века Хлебников увидел исключение: коллективное переживание берет на себя индивид. Личная единица олицетворяет «безличную единицу», как стилизация олицетворяет оригинал, разыгрывая его в лицах.
Имена собственные не называют дарования. Видимое исключение: Кузмин и Иванов…
Перу Иванова принадлежит «Тантал», Кузмина– «Подвиги Александра».
Вихрь силы вещи Иванова повествует о темном бессильном порыве, гордо отказывающемся от неправого счастья ради правого несчастья. Так как право есть корень счастья в будущем, то эта вещь повествует о русском несчастии, отказывающемся от счастья Европы или завешенного занавесом настоящего счастья внуков.
Вещь Кузмина говорит о человеке-роке, в котором божественные черты переплетаются с человеческими. Она знаменует союз человека и рока и победу союзника над сиротливым, темным человеком. Она совпала с сильными личностями в Руси и написана пером времени, когда общечеловеческие истины искажены дыханием рока.
Подчеркиваем, что эти вещи суть верхушки творчества именованных творцов, олицетворяющих безличную народную единицу.
* * *
Несмотря на то что Иванов стилизует эсхиловскую трагедию, а Кузмин – средневековые легенды об Античности, между их произведениями есть много общего. Это мотив протяженности, и Тантала, покусившегося на область богов и протянувшего руку к ней (само имя Тантала звучит как «тянущийся»)[2]2
Топоров В. Н. Миф о Тантале (Об одной поздней версии – трагедия Вячеслава Иванова). В кн.: Палеобалканистика и Античность. Москва, Наука, 1989. С. 61–110.
[Закрыть], и Александра, который доходит до пределов земли, до мира, где нет уже солнца и луны, до самой Индии. Оба героя противостоят ненавистному Хлебникову Канту, как сказала потом Цветаева о поэте: «Кто Канта наголову бьет».
Также оба героя должны умереть на скаредной земле, железной земле, под чуждым небом, обнимая землю или небо – это мука Тантала и пророчества Александру. Не надо и говорить, сколь близки были Хлебникову обе черты – исследование протяженности как законов времени и исследование скудости настоящего как «занавеса», театрального занавеса или театральной декорации в сравнении с подлинным будущим.
Образчик словоновшеств в языке
Эта статья была опубликована в сборнике «Пощечина общественному вкусу» (1913), причем с большим опозданием, почти что непростительным для знаменосца авангарда. Статья была создана в 1909 году для Василия Каменского, друга и покровителя, серьезно увлекшегося авиацией. В этом же году в русских журналах шла полемика: сохранить ли иноязычную терминологию воздухоплавания или сочинить русскую?
Такая полемика шла не только вокруг авиации, но и вокруг, например, футбола, но вратарь победил голкипера только в двадцатые годы. Одно из первых таких слов, созданных журналами, – летчик как перевод слова авиатор, и всю статью Хлебникова можно считать развертыванием этого невольного журнального открытия, что возможны столь же стрекочущие, отрывистые и летающие в воображении слова.
* * *
Спешу высказаться, М<илостивый> Г<осударь>, по весьма замечательному, Вами затронутому вопросу.
«Летатель» удобно для общего обозначения, но для суждения о данном полете лучше брать «полетчик» (переплетчик), а также другие, имеющие свой, каждое отдельный, оттенок, например «неудачный летун» (бегун), «знаменитый летатай» (ходатай, оратаи) и «летчий» (кравчий, гончий). Наконец, еще возможно «лтец», «лтица» по образцу чтец (читатель). Для женщин удобно сказать «летавица» (красавица, плясавица).
«Летское дело» – воздухоплавание. В смысле удобного для полета прибора можно пользоваться «леткий» (меткий), например, «знаменитая по своей леткости снасть Блерио». От «леткий» сравнительная степень «летче»; «летчайший в мире неболет». Первак воздухолтения – «летчайшина» или «летивейший из русских летивейшин г. Петербурга».
Читать, чтение – летать, лтение.
Сидящие в воздухолете люди (пассажиры) заслуживают имени «летоки» (ходок, игрок). «Летоков было семь».
«Полетная снасть», «взлетная снасть» – совокупность нужных вещей при взлете или полете.
Самое игры летания следует обозначить «лета» (бега).
Явление лёта, а также общая постановка дела может быть обозначена «летеж», например: «Успехи русского летежа в 1909 г.», «Летеж длился недолго».
Общую сложность воздухолтения можно обозначить «летава» (держава). «Русская военная и торгово-промышленная летава над севером мира». Слово «летава» может употребляться в смысле «эскадра». «Летава Японии». «Две летавы встретились готовые к бою».
Народы, искусные в воздухоплавании и способные в нем, можно обозначить «летутные народы». «Летавское/-ное общество».
«Опасности летобы» (учеба, злоба) как явления людской жизни. «Летоба» – воздухоплавание как проявление деятельности жизни.
«Летели» – всякий снаряд летательный (свирели, качели). «Блерио перелетел на своих летелях Ламанш».
«Необходимое для него летло» – в смысле снасти (весло).
«Летины» (именины) – день полета. «Мы были на летинах»; «первины летин».
«Летало» – авиатор. «Известный за границей летало Гюйо».
«Летачество». «Летская дружина». «Летья година».
«Летьба» – место и действие полета – воздухоплавательный парк.
«Летьбище» – аэродром. «Летьбищенская площадь».
«Летище», «летовище» – снасть и воздухоплавательный прибор, вообще место, связанное с полетом.
«Леталище» – лет-алище – костюм летока.
«Летня» – корзина для летоков.
«Лётка», «однолетка» – дрожки, двуколка – машина воздухоплава<теля>. «Лётка Блерио», «пятилетка».
«Двукрылка».
«Небесные казаки» – воздушное казачье войско.
«Летежная выставка».
«Летистый снаряд».
«Летизна» – способность лететь.
«Летоука» – учение о полетах.
«Леторадость». «Летонаглость». «Летоужас». «Летий бог» – Стрибог – бог воздухоплавания.
«Летучий полк» – воздушная дружина.
«Летомая высота» – высота возможного подъема.
«Летлый завод», «летлый снаряд».
«Летлая река» – воздушные течения, пути полета.
«Лето», «летеса» – дела воздухоплавания. «Русские летеса». «Летесная будущность».
Корни парить, реять годны для снастей тяжелее воздуха. «Воздухо-паритель». «Пареж длился недолго». «Паривый». «Начальник парины в воздухе над летьбищем».
«Леточ» (светоч) – воздухоплавательный прибор. «Тат<лин> взлетел на своем леточе».
«Парило» – снаряд для парения в воздухе (планер).
«Парьба». «Паручесть». «Парины».
«Взмыв» (взмывать) – время устремления кверху.
«Скор» – время наибольшего развития скорости в полете.
«Реялка» – снаряд для реяния.
«Рейбище» – место движения в небе.
«Реюн», «рейоч» – приборы для реяния. «Реязь». «Небореязь».
«Неборень» – путь в небе.
«Мах» – расстояние, пробегаемое прибором в один толчок крылий. «Крыломах» – летящий с помощью удар<ов> кр<ыльев>.
<1909>. <1912>
* * *
Поясняя множество слов, Хлебников не пояснил своего неологизма «первак», что значит чемпион. В неологизмах Хлебникова важнее всего то, что среди них нет прилагательных, разве что в словосочетаниях, а сами неологизмы можно представить как истребление прилагательных с помощью продуктивных суффиксов или слитых в одно слово словосочетаний.
Как и многие футуристы, Хлебников борется против инертной описательности прилагательных, но, в отличие от них, только при условии действительного полета – других видов динамики для такой борьбы недостаточно.









































