Текст книги "Жернова. 1918–1953. Книга седьмая. Держава"
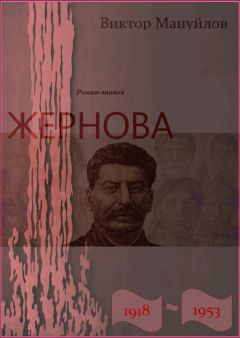
Автор книги: Виктор Мануйлов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Глава 2
Когда-то мощеная булыжником дорога, размытая дождями, петляющая между домами и упорно ползущая в гору, затем утоптанная тропа привели его к говорливому роднику, вытекающему из расщелины между замшелыми камнями. Вода из расщелины падала в неглубокую яму, из ямы вытекала, прыгая с одного плоского камня на другой, чтобы исчезнуть в мрачной расщелине, увитой плющом.
Возле родника устроена скамейка из плоских камней и толстой почерневшей доски со следами зеленой краски. Место было настолько тихое и даже дикое, что Алексей Петрович с опаской огляделся: сказывали о какой-то банде, которая грабит и убивает приезжих, забредших в места, куда советовали не соваться, или гуляющих по ночам. Но к роднику вела единственная тропа, которая просматривалась далеко вниз, – и это несколько упокоило.
Усевшись на скамейку, Алексей Петрович загляделся на текучую воду и не услышал, как рядом с ним остановился старик лет шестидесяти, невысокого роста, худощавый, с толстыми усами, какие давно вышли из моды. Серые холщевые штаны, толстовка, перехваченная по талии витым шнуром с кистями, соломенная шляпа с широкими обвислыми полями – все это говорило о том, что старик этот не здешний и тоже приехал отдыхать.
Старик стоял, опершись о палку обеими руками, смотрел на Задонова и улыбался.
Алексей Петрович вздрогнул от неожиданности, не сразу узнав в старике известного писателя Сергеева-Ценского. Да и видеть его довелось всего лишь раза три. Впервые – на первом съезде Союза писателей. Сергеев-Ценский тогда сидел в президиуме рядом с Горьким и время от времени переговаривался с ним, при этом Горький, склонившись к нему, хмурился и кивал головой. В другой раз видел его на пленуме Союза, но лишь после того, как бывшие возглавители куда-то подевались, и на их место пришли в основном известные ветераны русской литературы. И последний раз – на шестидесятилетии старого писателя в тридцать пятом. Но поговорить с ним не довелось ни разу, да и особой нужды в этом не было.
И вот – на тебе: встретились в такой, можно сказать, глуши, в какой и представить себе невозможно. Поневоле вздрогнешь и не сразу узнаешь.
Сергеев-Ценский снял свою шляпу, слегка поклонился – густая и толстая копна волос, почти не тронутая сединой, съехала ему на лицо, он рукой отбросил ее назад и произнес, пришепетывая:
– День добрый, молодой человек. Надеюсь, я вам не помешал?
– Нет-нет, Сергей Николаевич. Нисколько не помешали! – воскликнул, вставая, Алексей Петрович.
– А-а! Так мы с вами встречались? То-то же смотрю на вас и думаю: где это я вас видел? И никак не могу вспомнить.
– Не мудрено, – пришел наконец в себя Алексей Петрович. – Из президиумов, надо думать, все сидящие в зале кажутся на одно лицо.
– Так вы то-оже писатель? – изумился Сергеев-Ценский и, в свою очередь, с ехидством поддел Задонова: – К тому же, судя по вашей реплике, до президиумов недоросший.
– Увы, дорасти-то дорос, да толку от этого никакого.
– А позвольте вас спросить: какой такой толк вы хотели получить, добравшись до президиумов?
– В том-то и дело, что я и сам этого не знаю, – ответил Алексей Петрович. – Ни знаний, ни таланта от этого не прибавилось. Можно сказать, ничего не прибавилось. Зато убавилось свободное время.
– Позволите присесть? – произнес неожиданно сердито Сергеев-Ценский, ткнув палкой в сторону скамьи.
– Да ради бога! – воскликнул Алексей Петрович. И добавил: – Скамья-то ничья.
Сергеев-Ценский подошел, сел, водрузил шляпу на место, сложил ладони на изогнутой рукоятке своей палки, уткнулся в них подбородком. Все это он делал с чувством собственного достоинства и, похоже, на эти мгновения забывал обо всем.
– Такие вот дела, – пробормотал он неизвестно по какому поводу.
Какое-то время оба молчали, точно прислушиваясь к тишине.
– Да-ааа! А вы, молодой человек, так и не представились, – промолвил старый писатель сварливо. – А то, знаете ли, как-то неловко разговаривать.
Судя по тону, он тоже искал одиночества, и Задонов ему явно мешал.
Алексей Петрович назвался.
– Задонов, Задонов… – пробормотал старик. Затем спросил, слегка повернув голову в сторону все еще стоящего Алексея Петровича. – Это ваша настоящая фамилия или псевдоним? Нынче все помешались на псевдонимах, – добавил он.
– Настоящая, – ответил Алексей Петрович, тоже не слишком ласково, подумав, что довесок к своей фамилии «Ценский» тоже в некотором роде псевдоним. И тут же поспешил успокоить: – Да вы, Сергей Николаевич, не волнуйтесь: я сейчас уйду. Не стану вам мешать наслаждаться одиночеством.
– Никак обиделись?
– Есть немного. Но не столько обиделся, сколько удивился.
– Да вы садитесь, молодой человек. Садитесь! Напрасно ощетинились. Впрочем, действительно, хотелось побыть одному. Место это… Кстати, вы сами-то откуда будете?
– Из Москвы. И дед мой, и отец…
– Господи! Как же это я сразу-то не сообразил! Вот ведь штука какая – старость! Едри ее в корень! Ничего не поделаешь… – И спросил: – Петр Аристархович Задонов – не ваш отец?
– Мой.
– Знавал когда-то и вашего батюшку, и вашего деда, Аристарха Егоровича. И Сибирскую магистраль они строили, и много чего еще хорошего для России сделали… Как же, как же! Не знать таких людей непозволительно. Если мне не изменяет память, Александр Третий вашего деда в дворянство произвел за его труды…
– Да, так оно и было, – подтвердил Алексей Петрович.
– А вы, стал быть, в писатели подались…
– Бес попутал, Сергей Николаевич.
– Ха-ха-ха! – откинулся назад Сергеев-Ценский, и лицо его расцвело добродушными морщинами. – И о чем же пишете? Если не секрет…
– Да все больше по части железнодорожного ведомства…
– Вот как! Книга очерков по этому ведомству… не помню названия, это ваша книга?
– Моя, – коротко ответил Алексей Петрович.
– Да вы не сердитесь на меня, молодой человек. И простите старика, если задел вашу честь. А книгу вашу прочитал с большим удовольствием. Как же, как же. Хорошо помню. Можно сказать, что вы тем самым внесли свой вклад в «Преображение России». Извините за саморекламу. Что ж, рад познакомиться! – и, слегка приподнявшись, протянул руку.
Алексей Петрович приблизился, пожал сухую жилистую руку. Сел. О ком, о ком, а о Сергееве-Ценском он знал еще с гимназических времен и приклонялся перед этим писателем.
– Да, вот такие вот дела, молодой человек. А позвольте вас спросить: вы в этих местах бывали до этого?
– Нет, не бывал. Бывал в Феодосии, в Керчи… Здесь впервые. Вместе с семьей. А забрел в эту глушь, прочитав в «Правде» о договоре с немцами. Никак не могу придти в себя.
– Да-а, вы правы: явление из ряда вон выходящее. Хотя, если вспомнить так называемый «похабный Брестский мир», то и этот вполне в общем ряду. Одно неизвестно – куда этот мир нас заведет. Войны-то с германцем, полагаю, все равно не избежать. Вопрос – когда это случится? Фюрер ихний эвон как раскатился! Чехословакия, Австрия, Норвегия, Дания… На очереди Польша. Следовательно, путь в Россию для них будет открыт. Впрочем, время покажет, – заключил Сергеев-Ценский свой монолог и снова уткнулся подбородком в сложенные на палке руки.
Какое-то время оба молчали. Задонов потому, что не знал, о чем говорить, а старый писатель, судя по всему, на эту тему говорить не расположен. Но и молчать вроде бы не слишком удобно.
– Я тут как-то совершенно случайно оказался за одним столом с Вересаевым Викентием Викентиевичем и Алексеем Николаевичем Толстым, – начал Алексей Петрович, не очень представляя себе продолжение разговора на эту тему, но хорошо помня, как Вересаев завел разговор о Сергееве-Ценском, связав с его пребыванием в Крыму в период врангелевщины.
Толстому это не понравилось. И он резко и даже, пожалуй, грубо возразил в том смысле, что под Врангелем, Колчаком и Деникиным побывали, в силу сложившихся обстоятельств, многие порядочные люди, так что обвинять их в этом недостойно настоящего писателя. Слава богу, конфликт закончился тем, что Вересаев раскланялся и ушел.
Сергей Николаевич поднял голову и ни столько с любопытством, сколько с тревогой воззрился на Задонова.
Алексей Петрович пожалел о сказанном, но деваться было некуда, и он продолжил:
– Я все никак не соберусь прочесть его книгу, – начал он уходить от сказанного. – А там, говорят, есть нечто о Крыме двадцатого года, когда туда была отправлена так называемая «тройка» во главе с Пятаковым…
– Ничего особенного в этой книге нет, – произнес старый писатель. – А шуму было много. Да, я был здесь в двадцатом. Это когда красные штурмовали Перекоп. Видел, как бежали белые, какое столпотворение творилось в Севастополе при посадках на корабли. Какой ужас охватывал тех, кому не досталось на них места. А потом… потом… Вы, молодой человек, представить не можете, что здесь творилось, когда Крым был отдан в полное распоряжение этой «тройки».! Черная полоса средневековья! Хуже того – библейских времен! – Сергеев-Ценский покачал головой. – Ничего не слыхивали? – спросил он, искоса глянув на Задонова.
– Так то же самое творилось и в Москве. Но особенно – в Питере. Сказывали, что Зиновьев столько народу извел, что и счет потеряли. Сам Горький протестовал, но ничего не мог поделать. Гражданская война – страшная штука. Взаимная ненависть вела к взаимному истреблению. Вспомните времена Кромвеля в Англии, Робеспьера во Франции…
– Э-э, милый мой! В Крыму жестокость затмила все прочие места. Если Пятакова туда послали представителем Госплана РСФСР, чтобы посмотреть, что ценного осталось после бегства «Черного барона», то известные всем пламенные р-ррреволюционеры Розалия Землячка – она же Самойлова, она же в девичестве Залкинд, – и венгр Бела Кун имели на руках мандат на полное истребление всех бывших белых офицеров. Весь Крым был объявлен «вне закона» как цитадель белогвардейщины. Вне закона были объявлены не только офицеры, но я практически вся крымская интеллигенция: медсестры, врачи, техники. Даже портовые рабочие, которые помогали беженцам грузиться на пароходы. Из них расстреляны более пятисот человек. А ведь Михаил Фрунзе, командовавший красными войсками, в своем обращении к врангелевцам, торжественно пообещал, что сдавшимся офицерам будет объявлено помилование и никакого преследования со стороны новой власти не будет. Но Бела Кун, назначенный председателем Крымского ревкома, и Землячка, возглавившая Крымскую парторганизацию, руководствовались не обещанием Фрунзе, а телеграммой заместителя Троцкого Эфраима Склянского. В ней говорилось, что война не будет окончена, пока в Крыму останется в живых хоть один белый офицер. Вы не можете себе даже представить, что там после этого началось! Расстреливали тысячами! Овраги были завалены трупами, едва присыпанными землей. Сотнями набивали баржи и топили эти баржи в море. Уничтожали людей без суда, не оставляя почти никаких документов. А на тех, что все-таки были, стояли подписи районных «троек». Особенно зверствовали «интернационалисты» из бывших военнопленных и всякого сброда. Пятаков, скорее всего, подписывал не глядя. Более пятидесяти тысяч офицеров было умервшлено тем или иным способом. Люди боялись выходить на улицы. Все узы, связывающие людей, были разорваны всеобщим доносительством. Отец опасался сына, брат – брата. Что касается Куна и Землячки, так они и сами принимали участие в расстрелах. И, небось, гордились этим своим участием…
– Да, гордились. И еще как! – воскликнул Задонов. – Мне доводилось раза два слышать их похвальбу об участии в борьбе с врангелевцами, не успевшими, как они говорили, бежать за границу. Розалия Землячка объясняла эту борьбу тем, что оставшиеся в живых непременно расползлись бы по всей стране, готовили бы восстание, вредили бы советской власти. А это, как она утверждала, привело бы к еще большим жертвам с обеих сторон.
– Что ж, в чем-то она права, – заметил Сергеев-Ценский. – Но в основном это был народ, захваченный – и не по своей воле – потоком гражданской войны. Вряд ли их смогли бы во второй раз толкнуть на пройденный путь. Но эти, с позволения сказать, товарищи в своем бахвальстве умалчивали о тех жестокостях, которые творились в Крыму с двадцатого по двадцать второй год. Ведь убивали не только белых офицеров, но их жен, детей и родственников.
– Пятакова и Куна, насколько мне известно, расстреляли: одного в тридцать седьмом, другого – в тридцать восьмом. Как врагов народа, – заметил Задонов, с трудом представляя себе то, о чем поведал ему Сергеев-Ценский.
– Зато Землячка выкрутилась, – усмехнулся старый писатель. – При этом активно сдавала в ГПУ подчиненных ей сотрудников районных парторганизаций на Кавказе, на Урале и еще черт знает где, которые возглавляла. А в середине тридцатых – членов Рабоче-крестьянской инспекции, наркомата путей сообщения. Может, поэтому в тридцать девятом и стала членом ЦК ВКП(б).
Некоторое время лба молчали, наблюдая, как две трясогузки пьют воду, то опуская, то поднимая свои головки.
– Да, жуткое было время, – произнес Сергеев-Ценский.
– Нынешнее… – начал было Алексей Петрович и замолчал, вдруг сообразив, что он ведь совсем не знает своего случайного собеседника. Что с того, что он тоже писатель! Ну да, пишет хорошо, но все больше о дореволюционном прошлом и как бы в ожидании нынешних времен. Как и многие другие из русских ветеранов художественной прозы. И хотя сам Задонов ушел из «Гудка» до того, как в наркомате путей сообщения появилась Землячка, ему было известно, что многие из его знакомых разделили участь его брата Лёвы. Она выступала с «пламенными» речами против старых кадров желдортранса на партсобраниях, о том же писала в «Гудке», не испытывая ни малейшего сомнения в своей правоте. Сегодня она член ЦК ВКП(б), и если до нее дойдет хотя бы намек на только что прерванный разговор… – и холодная волна прошла судорожной дрожью по его телу.
Между тем, он видел, что старый писатель ждет от него продолжения. И он заговорил, набрав в грудь побольше воздуху, точно собирался прыгнуть в воду:
– Нынешнее время, как мне кажется, Сергей Николаевич, решительно повернуло на конкретную работу. Сейчас не до болтовни о том, что лучше строить: тяжелую индустрию или легкую промышленность; что важнее для нынешнего этапа – производить танки для защиты наших границ, трактора – для работы на полях, или строить вместо заводов фабрики для производства модных пижам и ночных рубашек. Не то время.
– Да, вы правы, Алексей Петрович, – как-то вяло и даже будто бы с натугой откликнулся Сергеев-Ценский. – И, посмотрев на небо, добавил: – Похоже, будет дождь. Вы не находите?
Алексей Петрович глянул на небо без единого облачка, однако согласился со своим собеседником:
– Да, пожалуй.
– Вы не туда смотрите, Алексей Петрович. Вы гляньте в сторону моря. Видите на горизонте дымку?
– Вижу.
– Явный предвестник надвигающегося шторма. Ну и дождя, разумеется, тоже. Думаю, к вечеру стихия разыграется вовсю.
– Так вы вниз, Сергей Николаевич? – спросил из вежливости Задонов.
– Что? А-а… Извините, но я еще немного побуду здесь. – И пояснил: – Где-то поблизости от этого места был расстрелян один русский офицер… Очень хороший и очень близкий когда-то мне человек. Один из тех, кто случайно попал в водоворот событий. Русская литература потеряла весьма талантливого писателя, который не успел раскрыться во всю свою мощь…
– Так я пойду, пожалуй, – произнес Задонов, вставая.
Поднялся со скамьи и Сергеев-Ценский.
– Да-да! Идите, конечно… И вот что я хотел вам сказать, Алексей Петрович: мне было приятно с вами познакомиться. Что касается нашего разговора, то вы, можете быть совершенно спокойны: здесь эти слова произнесены, здесь они и останутся.
– Благодарю вас, Сергей Николаевич. Поверьте: я был очень рад нашей нечаянной встрече, нашему знакомству и совпадению наших мнений. Желаю вам доброго здоровья и творческих успехов.
– Спасибо, дорогой мой! Большое спасибо! – засуетился старый писатель. – Я вам желаю того же самого. Бог даст – свидимся.
Они еще несколько минут стояли, пожимая друг другу руки, словно не веря, что доведется свидеться еще раз.
И Сергеев-Ценский долго стоял, налегая на палку, будто чего-то ожидая, глядя на все уменьшающуюся фигуру Задонова, то появляющуюся на каменистой тропе среди кустов, то исчезающую.
Алексей Петрович прошел довольно порядочное расстояние, то прыгая с камня на камень, то цепляясь за ветки кустов. Он остановился на открытой и более-менее ровной площадке, чтобы отдышаться. И оглянулся, почему-то уверенный, что его собеседник все еще смотрит ему вслед. И точно: старый писатель стоял все в той же позе, отчетливо выделяясь на фоне камней и кустов белым своим одеянием.
Разглядев его фигуру, Задонов помахал рукой и был до слез тронут ответными взмахами.
И напряжение, все еще сковывающее его тело, спало. Вздохнув с облегчением, он умудрился сделать несколько прыжков с камня на камень, едва удержал равновесие и пошагал вниз, счастливый оттого, что все так хорошо закончилось.
А вдали над морем уже клубились черные тучи, взрываясь ветвистыми молниями, и глухой гром доносился оттуда, и черные столбы спускались вниз, изгибаясь змеиными телами, раскачивая зеленоватые волны с белыми гривами. И все на берегу притаилось в ожидании чего-то ужасного. Лишь темно-зеленые свечи кипарисов слегка подрагивали то ли от страха, то ли от нетерпения, да магнолии издавали приглушенно-тревожный звон своими жестяными листьями. Да огромное солнце пылало точно в последний раз, заливая берег удушливой жарой.
И лишь тогда, когда солнце утонуло в черных тучах, над поселком и горами разразилась облегчающая гроза.
Глава 3
Уже в Москве, точно прощаясь с крымскими впечатлениями и порывами, Алексей Петрович достал из шкафчика графинчик, налил рюмку водки – с некоторых пор водка снова появилась в доме, – выпил и загрыз сухариком. Не то чтобы ему очень уж хотелось выпить, а исключительно для того, чтобы погасить в себе всякие желания и сомнения.
Он не захмелел – разве что чуть-чуть, однако желание куда-то бежать и что-то делать действительно пропало окончательно, зато накатила тоска, тоска сама по себе потребовала еще рюмки водки, а после третьей его потянуло в сон, и он, устроившись на диване, бормоча ругательства и в то же время понимая, что его бормотание есть глупое актерство, что ему, в сущности, все равно, что подписали в Кремле и с кем, – хоть бы и с папуасами! Под это свое бормотание он забылся и в таком состоянии провалялся на диване до самого вечера.
Но самое странное – в полудреме ему привиделись длинные колонны людей, движущиеся в одном нижнем белье, то проявляясь, то растворяясь в тумане. При этом на уступе скалы видел того же Бела Куна, и ту же Землячку, которые не единожды бывали и в редакции «Гудка», и в Союзе писателей, с гордостью рассказывая о прошлом, подавая свою деятельность как подвиги вселенского масштаба. Во сне – если это был сон – его охватывал страх, что они непременно его заметят, разденут и заставят идти вместе со всеми. Он стонал и что-то бормотал, в то же время слыша, как заходила Маша, как она за дверью увещевала детей не шуметь, потому что папа спит, как в доме установилась такая тишина, будто в погребе, и как на него накатывались, сменяя друг друга, то какие-то громкие звуки, похожие на стрельбу, то погребная глухота. А белые колонны все двигались и двигались в безмолвном молчании…
Следующий московский день прошел в странном недоумении. Не возвращались ни крымское вдохновение, ни крымский восторг, а собственные потуги написать нечто из ряда вон выходящее казались жалкими и смешными, натыкаясь на те же самые колонны, на горы белых трупов, на мрачные взгляды Розалии Землячки и Белы Куна, от которых невозможно спрятаться. Без этих людей, живых и мертвых, его роман терял всякий смысл. Но и с ними – тем более! – он был совершенно невозможен.
Нужно было как-то развеяться, сбросить с себя навалившуюся одурь, и Алексей Петрович, сказавшись, что идет в Правление Союза писателей, отправился вовсе не туда, а в знакомый переулок, почему-то твердо уверенный, что там его ждут с распростертыми объятиями, поймут и утешат.
И его ждали. Признаться, он даже не ожидал такой встречи. Словно он что-то обещал этой женщине, что-то такое, что должно перевернуть всю ее жизнь – и, разумеется, в самую лучшую сторону, – обещал и позабыл о своих обещаниях.
Нет, поначалу встреча выглядела даже несколько удручающей. Открыв ему дверь, Татьяна Валентиновна глянула на Алексея Петровича с каким-то странным испугом, словно в ее квартире уже кто-то есть – кто-то взамен самого Алексея Петровича.
– Я не вовремя? – спросил он, не решаясь переступить порог, вдруг почувствовав свою ненужность и униженность.
На его вопрос Татьяна Валентиновна лишь жалко улыбнулась в ответ, подняла руки и бессильно уронила их вдоль тела. Казалось, она вот-вот расплачется.
– Вы… Ты куда-то уходишь? – попытался помочь ей Алексей Петрович, готовя почву для почетной ретирады.
– Ах, что вы! – воскликнула она сдавленным полушепотом, прижимая руки к груди тем беспомощным и жалким движением, которое вызывает умиление и раскаяние. Но тут же подалась к нему всем телом и поспешно призналась, видя его нерешительность и боясь, что он уйдет: – Я так вас ждала…
С души Алексея Петровича отлегло, самоуверенность вернулась к нему, он снова стал тем Алексеем Задоновым, который готов всех и вся одаривать своей любезностью, вниманием и покровительством.
Татьяна Валентиновна оттаивала постепенно. Какое-то время робела, и первый поцелуй был холодновато-сдержанным, но вскоре под его напором плотина прорвалась, хлынул поток страсти изголодавшейся по ласкам живой плоти. Может, тут дело не только в плоти, но и в чем-то более существенном. Пусть будет так. Он вовсе не против, ему даже приятно. Но никаких обязательств, никаких авансов – упаси бог…
Домой Алексей Петрович возвращался успокоенный.
«Как мало надо для обретения самого себя, – думал он самодовольно, шагая по вечерним улицам и продолжая ощущать свое тело как бы обновленным, поменявшим кожу, – всего-то лишь уверенность, что ты еще способен одерживать пусть маленькую, но все-таки победу. И не нужно ни умных слов, ни понимания, ни сочувствия – ничего ровным счетом, за чем ты будто бы шел к этой женщине. Хватило прикосновения рук, восторженных взглядов и безудержной чувственности».
* * *
После возвращения в Москву из Крыма Алексей Петрович еще не успел как следует осмотреться и войти в новый… то есть старый, но несколько подзабытый для себя ритм жизни, как принесли повестку из военкомата: явиться с документами туда-то к таким-то часам. Алексей Петрович, пожимая недоуменно плечами, расписался в получении, внимательно перечитал повестку, затем повестку прочитала Маша, после Маши дочка и сын – и все воззрились на Алексея Петровича, но каждый по-своему: Маша – со страхом, дети с удивлением и даже с некоторым восторгом.
Сам Алексей Петрович воззриться на себя не имел случая: на кухне зеркало отсутствовало, но первое, что пришло ему в голову – бои с японцами в далекой Монголии, и он зачем-то понадобился именно в связи с этими боями. Однако связь эта показалась ему более чем странной, если учесть, что японцев все-таки уже побили, перемирие заключили, стало быть, делать ему там вроде нечего, если не предположить, что все еще может повториться. К тому же к армии он не имел никакого отношения, разве что одно-единственное интервью с маршалом Блюхером… – бывшим маршалом, если быть точным, ныне покойным, оказавшимся, к тому же, врагом народа и прочее, – другого объяснения в голову Задонова не приходило.
– Все это ерунда, – бодрился Алексей Петрович, вертя в руках повестку. – Если и попаду в Монголию, то исключительно в качестве корреспондента какой-нибудь газеты… Впрочем, – почесал он затылок, – при чем тут военкомат? В таких случаях звонят из газеты.
– Вот именно! – воскликнула Ляля, заглядывая отцу в глаза, имея в виду, что еще позвонят.
Иван тут же повторил за сестрой:
– Вот именно, папа! – И глаза его загорелись: папа поедет воевать, а потом расскажет, как он бил япошек.
Только Маша ничего не сказала, смотрела на мужа умоляюще, точно просила его спрятаться под кроватью и не ходить ни в какие военкоматы.
– Ладно, – порешил Алексей Петрович. – Завтра все разъяснится. Утро вечера мудренее.
Завтра было первое сентября 1939 года, пятница.
Когда семейные страсти несколько поутихли и все занялись своими делами, Алексей Петрович позвонил в Союз писателей и выяснил, что не он один получил такую повестку, что связано это с обострением международной обстановки, что писателей и журналистов призывают на военные курсы, чтобы в случае войны… Впрочем, сие есть военная тайна и оная не для телефонного разговора.
По-видимому, и в Союзе не знали точно, зачем военкоматы собирают писателей.
На другой день утром – Алексей Петрович брился перед зеркалом – радио сообщило, что германские войска только что вторглись в Польшу и стремительно продвигаются в глубь ее территории. Маша вбежала в ванную комнату, тихо вскрикнула:
– Леша, война! – и прижала ко рту ладони, испугавшись за свой вскрик, за свой ужас и за то, что дети воспримут вскрик и ужас, написанный на ее лице, как-то не так: как не положено, как нельзя, то есть тоже испугаются и наделают глупостей. Каких глупостей, Маша не знала, но в ней после гибели деверя прочно угнездился страх за свою семью, за близких, и любое проявление естественного чувства в себе и в других пугало ее невероятно.
Алексей Петрович кинулся в комнаты, уставился на черную тарелку репродуктора. Диктор монотонным голосом сообщал о случившемся. Сообщение уместилось в несколько фраз. Было обещано правительственное заявление. Затем дали музыку из «Ивана Сусанина».
Алексей Петрович постоял с минуту, затем пошел добриваться, на ходу бросив жене:
– Только ради бога без истерик. Польша – это еще ничего не значит.
Он успокаивал жену, но в нем самом беспокойство лишь возрастало, и он твердил про себя, что этого надо было ожидать, что к этому шло, что он это предвидел, хотя ничего похожего он не ожидал и не предвидел и даже ни о чем подобном не думал. То есть мысль о возможной и неизбежной войне с Гитлером существовала давно, даже, как теперь ему казалось, еще до прихода Гитлера к власти, и не в нем одном, но мысль эта от частого повторения стала такой привычной, что уже не вызывала практически никаких эмоций.
Подсознательно возможность войны отодвигалась в далекое будущее, потому что все – или большинство – уверовали, будто Сталин это будущее просчитал до дней и минут, что к тому времени страна и армия настолько укрепятся, что никто не решится напасть на такую могучую державу, имеющую такую непобедимую армию. Уж если эта армия, плохо вооруженная, раздетая, разутая и полуголодная, в недалеком прошлом победила собственную контрреволюцию и войска интервентов, собранные со всего света, то теперь, когда… а еще и япошек… ну, и так далее. Сказка про белого бычка.
В газетах, которые Маша вынула из почтового ящика, о вторжении немцев в Польшу не было ни строчки. Если иметь в виду, что у Франции и Англии заключен с Польшей договор о взаимопомощи, то это вторжение… Впрочем, и в Австрию немцы вторгались, и в Чехию – и ничего страшного не произошло, мировая война не разразилась. А договор с поляками имел в виду, скорее всего, не Германию, а Советский Союз. Да и в Советском Союзе основным врагом своим до недавних пор считали Польшу, а в Польше – Россию, и сама Польша не прочь была в союзе с Германией двинуться на восток. Однако не столь важно, кто что считал. Важен факт. Но факт этот не единственный, он стоит в ряду других подобных фактов. Скорее всего, пронесет и на этот раз, то есть не разразится ничего сверх того, что уже разразилось… А полякам пусть немцы хорошенько надают по их спесивым рожам. Жаль, конечно, что не мы это сделаем за их вероломство в двадцатом, однако чужими руками – оно даже и лучше, мудрее во всяком случае.
На том Алексей Петрович и успокоился и постарался успокоить Машу и детей. Авторитет его в семье был непререкаем, и лица детей и жены после короткой лекции приняли обычное выражение, а через минуту – и вполне жизнерадостное: Первое сентября все-таки, первый учебный день, впереди столько впечатлений – до Польши ли им! Дети в сопровождении Маши ушли в школу, Алексей Петрович собрался и тоже вышел из дому.
По дороге в военкомат Алексей Петрович только и слышал со всех сторон, что Германия да Польша, Польша да Германия. И ни в одном голосе не уловил ни осуждения Германии, ни сочувствия Польше. Может, прав Сталин, подписав с Гитлером договор о ненападении? – сверху-то виднее…
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































