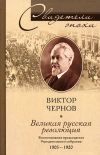Автор книги: Виктор Минут
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Я поставил свои вещи на мостик, стал так, чтобы придерживать их коленями, так как иначе при движении поезда они неминуемо свалились бы под колеса вагона, руками же схватился за коротенькие поручни. Было около десяти градусов мороза. Шел небольшой снежок при слабом ветре. Одет я был, как я уже упоминал выше, в бумазейную[53]53
То есть из бумазеи – плотной хлопчатобумажной ткани с начесом с изнаночной стороны.
[Закрыть] рубашку и суконные брюки, под которыми были поддеты фуфайка и теплые кальсоны. Верхнюю одежду составляла кожаная куртка на бараньем меху. На ногах сапоги черного товара с поддетыми шерстяными и бумажными носками, на руках шерстяные перчатки, на голове папаха с опущенным тыльником.
Во время ходьбы одежда эта вполне предохраняла от холода. Сносна она была и во время остановок поезда, но во время движения поезда, когда поднимался сильный ветер, она казалась совершенно недостаточной. Сначала у меня начали стыть ноги, стоявшие на железном мостике, затем руки, державшие железные поручни, потом холод начал распространяться по всему телу. Попасть в вагон не было никакой физической возможности. В ответ на мои попытки отодвинуть дверь и втиснуться хоть как-нибудь на заветную тормозную площадку, которая представлялась мне раем, я получал лишь крепкую русскую ругань. По справедливости должен заметить, что даже при желании этих счастливцев помочь мне они не могли бы исполнить моей просьбы. Молил их потому, что положительно изнемогал от холода. Наконец дошел до такого состояния, что решил: если в Торжке[54]54
Торжок – уездный город Тверской губернии; ныне – районный центр Тверской области.
[Закрыть] никто не выйдет из вагона и мне не удастся в него проникнуть, то сойти с поезда, так как для меня было совершенно безразлично, быть ли расстрелянным большевиками или, замерзнув, упасть под колеса поезда. Первый род смерти был менее мучителен. К счастью, в Торжке вылезли из вагона человек пять, и мне удалось наконец втиснуться на тормозную площадку, после того как я проехал 75 верст на буфере.
Не буду описывать, какая теснота была внутри вагона. Самое богатое воображение не может себе представить этого. Достаточно сказать, что, когда пассажирам, находящимся посредине вагона, нужно выйти, то они вылезают по плечам и спинам остальных. Уборные битком набиты пассажирами, и пользоваться ими, конечно, нельзя. А ведь некоторым приходится ехать несколько суток.
В такой обстановке часам к пяти вечера 8 марта доехал я до Вязьмы, где была пересадка и где нужно было взять билет для дальнейшего пути, так как билеты продаются только до узловых станций. В Вязьме[55]55
Вязьма – уездный город Смоленской губернии, находится в 175 км от Смоленска и в 210 км от Москвы; ныне – районный центр Смоленской области.
[Закрыть] застал громадное скопление пассажиров, ожидающих по несколько дней возможности попасть на проходящие поезда. Собралось несколько тысяч человек.
Публика эта состояла из людей, едущих из северных голодных губерний на юг, где кое-как можно еще достать сравнительно дешевый хлеб, и возвращающихся домой после этой поездки; вторых было меньше.
Едущих на юг можно разделить на три категории: первые – люди, отправляющиеся в хлебородные местности, чтобы закупить хлеб для своих семей и вернуться назад. Вторая – люди, совсем уезжающие на юг, чтобы прокормиться там до нового урожая. Это обычно часть семьи: отец с сыном или двумя. Видя, что имеющихся у них запасов не хватит для прокормления всей семьи, некоторые члены ее предоставляют свою долю остающимся, а сами уезжают. Наконец, третья категория, в настоящее время значительно уменьшившаяся, – это спекулянты-мешочники, покупающие на юге хлеб для продажи его затем вчетверо, впятеро дороже на севере.
Путь движения этого голодного люда шел через Вязьму в обход Москвы, в которой образовался такой затор, что выбраться из нее, по словам очевидцев, не было никакой возможности. Не могу себе представить, что творилось в Москве, судя по тому, что я видел в Вязьме, так как воображение отказывается рисовать картины ужаснее тех, которые пришлось наблюдать в Вязьме.
Во время моего первого призыва в декабре 1918 года ездить по железной дороге было тяжело, но все-таки несравненно лучше, чем теперь. Во-первых, тогда не было еще такого массового переселения голодающих людей, во-вторых, было все-таки больше поездов. Теперь же, вследствие недостатка в паровозах и в топливе, пассажирское движение было сокращено до одной пары по всем линиям, а в «Известиях Совета солдатских и рабочих депутатов» за 8 марта я прочел, что в Совете народных комиссаров прошел с положительным решением вопрос о приостановке вовсе с 15 марта пассажирского движения для упорядочения транспорта{136}136
К 1919 г. железнодорожный транспорт в Советской России находился на грани полного коллапса. По сравнению с 1913 г. парк грузовых вагонов сократился в 3,4 раза: с 502 тыс. до 150 тыс. Резко упало производство паровозов: с 917 в 1915 до 214 в 1918 и 74 – в 1919 г. Износ паровозного парка в феврале 1920 г. оценивался в 65 %, а на отдельных дорогах – до 85 %. Из-за необходимости снабжения Красной армии и городского пролетариата СНК в марте 1919 г. распорядился почти на месяц полностью прекратить пассажирские перевозки (за исключением пригородных).
[Закрыть]. Судите сами, что представляла собою многотысячная толпа, берущая штурмом проходящие и без того переполненные поезда. Многим пассажирам, получившим уже билеты, приходилось по несколько дней ждать возможности попасть на поезд. За это время они съедали всю ту провизию, что брали с собою для продовольствия в пути, и при невозможности купить что-либо на станции, даже за самые бешеные деньги, умирали от голода. Ночью пассажиры устилали своими телами сплошь полы во всех комнатах и коридорах вокзала, местами в два слоя, лежа друг на друге, не оставляя никакого прохода. Воздух, конечно, ужасный, вне же здания – холод. Вся ночь в Вязьме прошла для меня в том, что я то войду в здание погреться, у самого входа, постою до тех пор, пока не станет жарко, то выйду на перрон, где брожу, пока ночной холод не проберет до костей.
В Вязьме пришлось пробыть около суток. Билет удалось получить до Минска, то есть до самой крайней станции, дальше которой регулярного движения не было. Удалось это благодаря тому, что, приготовив заранее точную сумму денег за билет николаевскими деньгами, я показал кассиру издали мое удостоверение, отогнув к нему нижнюю половину бумаги, где стояли подпись комиссара и печать комиссариата. В спешке выдачи билетов бесконечному хвосту пассажиров, он не обратил внимания на мою уловку и не обнаружил того, что удостоверение годилось только до Смоленска.
Итак, у меня был билет. Теперь нужно было попасть на поезд. Задача нелегкая. Правда, большая часть пассажиров направлялась или на юг, или на север, следующим по количеству пассажиров следовала Москва, и, наконец, менее всего направлялось на запад. Но это было только относительно, абсолютное же количество их было все-таки очень велико для одного поезда в сутки.
Ночью прошел один поезд на Минск, очень свободный, как о том можно было судить, глядя в освещенные окна, но в него не пустили ни одного пассажира, так как это был так называемый штабной поезд, предназначенный исключительно для советских служащих, поэтому-то он был и освещен, ибо все прочие поезда обычно погружены в полнейший мрак. Мелькнула было у меня мысль воспользоваться моим удостоверением в качестве якобы предписания для отправления на службу в Красной армии и попытаться попасть этим способом на поезд, но тотчас же я решил лучше уж не испытывать своего счастья. Мало ли на кого я мог нарваться в поезде. Не стоило рисковать из-за удобств езды в течение всего лишь одной ночи.
Наконец, около полудня 9 марта мне удалось втиснуться в крытый вагон поезда, шедшего в Минск. В холодном вагоне без печки и без двойного пола, с четырьмя маленькими оконцами по углам, были устроены нары, с одной стороны в один ряд, с другой стороны в два ряда. В этом вагоне вместо 40 человек нас набилось примерно 140. Лежали и под нарами, и на нарах, и стояли вплотную друг к другу посредине.
В Смоленск приехали часам к девяти вечера в полной темноте. В Смоленске я, конечно, не остановился, даже не выходил из вагона. Положим, это было и невозможно. Тяжела была эта ночь в пути от Смоленска до Минска. Это была третья ночь абсолютно без сна, причем почти круглые сутки на ногах, потому что в Вязьме только урывками удавалось посидеть в неудобной позе на своих собственных вещах. В полной темноте, в душной атмосфере утомление давало себя чувствовать очень сильно. Могу сказать, что я не падал от усталости только потому, что падать было некуда: настолько плотно, прижимая друг друга, стояли пассажиры, но по временам веки невольно закрывались, охватывала дремота, и колени внезапно подгибались. Просыпаясь от этих толчков, вновь в томлении ждал я рассвета под монотонный стук поезда и звучное храпение счастливцев, захвативших себе места на нарах или на грязном полу под ними.
Глава XI. Мой путь от Минска до Гродно
В Минск поезд наш пришел около семи часов утра 10 марта. Был серенький денек ранней весны. Слякоть, пронизывающая сырость и легкий туман в воздухе. Наскоро напился чаю, заварив его в своем походном чайнике, закусил остатками взятой из дому провизии и затем, взвалив себе на плечи походный мешок и взяв в руки саквояж, бездомным бродягой приготовился я к дальнейшему пути.
Что мне было делать? Во время пути из разговоров спутников между собою я узнал, что железнодорожное сообщение до последнего времени производилось до станции Барановичи[56]56
Барановичи – уездный городом Минской губернии, располагавшийся западнее Минска (139 км) и восточнее Бреста (193 км); ныне – районный центр Брестской области Белоруссии.
[Закрыть], но билеты продавались не иначе как по разрешению минского Совета рабочих и солдатских депутатов. В случае же безбилетной посадки на поезд, контроль, производящий проверку билетов вскоре после отъезда из Минска, не ограничивался двойной платой, а арестовывал безбилетных пассажиров и проверял их личные документы. Если я ничего не имел против уплаты штрафа в двойном размере, если я готов был подвергнуться неприятности быть насильно высаженным, вернее, вытолкнутым из поезда, то меня, во всяком случае, совершенно не устраивала проверка документов, потому что у меня, кроме самых уличающих меня видов на жительство и удостоверений, вплоть до удостоверения для посещения позиций с моей фотографией, подписанного командующим армией, других документов не было.
Надобно было, следовательно, просить разрешения на проезд от местного совдепа. Но идти туда для меня было равносильно, что идти в пасть льва: в Минске я был начальником штаба округа более года в начале войны, там же был около полугода главным начальником снабжений Западного фронта в конце войны. Меня там знала, если не в лицо, то по крайней мере по фамилии, чуть ли не каждая собака. Просить разрешение у местного совдепа при таких условиях было прямым безумием.
Таким образом, мое первоначальное предположение проникнуть как можно дальше по железной дороге к границам Совдепии и затем пройти пешком зону боевых действий, приходилось осуществлять уже в Минске. Это был довольно длинный путь, поэтому я решил сделать попытку изыскать какой-либо способ передвижения. Разузнать об этом можно было только у местных жителей. Но к кому обратиться?
У меня в Минске было несколько лиц, близко знакомых и расположенных ко мне, которые, я уверен, не отказали бы мне в своей помощи, но, во-первых, все они принадлежали к таким классам общества, что навряд ли остались в Минске при большевистском режиме, во-вторых, если бы случайно кто-нибудь из них и остался в Минске, я опасался скомпрометировать такое лицо своим посещением. Был у меня еще один знакомый из минских торговцев, еврей, почему-то убежденный в том, что благодаря мне его сын, признанный негодным к службе в строю, был оставлен в команде местного воинского начальника, и питавший поэтому ко мне особую признательность.
Я решил попытаться узнать у него, нет ли возможности в какой-либо еврейской повозке скрытно пробраться через большевистские линии в расположение поляков и что это может стоить. Пошел к нему в магазин, так как не знал, где он живет. Прихожу, оказывается, в магазине его нет, он дома. Спрашиваю адрес и иду к нему на квартиру. На квартире, оказывается, его тоже нет, так как только что ушел в магазин. Эту неудачу я приписал указанию судьбы и поэтому решил более не искать его, а тотчас же идти из Минска пешком. Фамилии своей я, конечно, не назвал ни в магазине, ни на квартире моего знакомого. Узнать ни там, ни здесь, даже если бы помнили меня, не могли, так как длинная запущенная борода и костюм до неузнаваемости преобразили мою внешность.
Зашел в соборную часовню на площади, помолился Богу, вручая себя всецело Его воле, и отправился в поход.
Около десяти часов утра 10 марта я, пройдя через город, был уже на Виленском тракте. Выбрал я это направление по многим причинам. Во-первых, я слышал в вагоне, будто поляки уже захватили Лиду, что было совершенно неверно: Лида была занята поляками месяца полтора-два спустя, и я, идя туда, был ближе к цели. Во-вторых, что было важнее всего, путь на Лиду пролегал по местности, хорошо изученной мною по карте в бытность мою начальником штаба 10-й армии, ибо это был ее район. Знание на память хоть крупных населенных пунктов для меня было существенно, так как никакой карты у меня с собой не было, и в незнакомой местности я оказался бы с завязанными глазами. В-третьих, во время пути на Минск в вагоне случайно оказался один из чинов пограничной стражи, только что сформированной советским правительством. От него осторожными вопросами я выпытал, что сплошной охраны границы постами или кордонами пограничной стражи, как было ранее, еще нет, и что их отряд, состоящий из сотни конницы и роты пехоты, стоит пока сосредоточенно в местечке Молодечно. Значит, здесь граница контролировалась слабо. Как было в других местах, я не знал.
Пошел я из Минска не по кратчайшему направлению на Лиду, а взял сначала на север (на Заслав[57]57
Заслав – местечко в Минском уезде, находится в 12 км от Минска, на реке Свислочь; ныне – город Заславль в Минском районе Минской области Белоруссии.
[Закрыть]). Это уклонение было сделано мною умышленно для того, чтобы не идти по кратчайшему пути, быть может, уже проторенному моими предшественниками, а потому и более опасному.
Сельские жители вообще очень любопытны. В деревне появление всякого нового лица производит известного рода сенсацию. В настоящее же время, чреватое важными событиями, всякий пришелец – клад. Его немедленно атакуют со всех сторон. Начинаются расспросы, откуда, куда, зачем идет, как и где живется, где, что видел и слышал и так далее без конца.
Мне надо было подготовить соответствующие, вполне удовлетворительные ответы, по возможности такие, которые не могли бы привлечь ко мне внимания и оставляли бы по себе как можно менее впечатления. И вот какое объяснение придумал я своему путешествию. Я выдавал себя за беженца из Гродненской губернии, возвращающегося на прежнее место жительства, покинутое во время войны; но, так как я, несмотря на некоторое знание польского языка, не мог выдавать себя за местного уроженца, поляка или белоруса, ибо выговор тотчас же выдал бы меня, то я говорил, что я «рассейский», из Тверской губернии, но жил до войны в Гродненской губернии, в местечке, занимался починкой часов и слесарством; что во время войны бежал к себе на родину и жил там до тех пор, пока было возможно; что теперь голод выгнал меня оттуда и я пробираюсь на старое место посмотреть, как там живется, с тем чтобы затем выписать к себе и жену, оставшуюся в России. На вопрос, почему уже от Минска пошел пешком, у меня был готов ответ, что билеты из Минска дают не иначе как по разрешению совдепа, которое приходится ожидать не менее двух дней, между тем в Минске такая дороговизна, что бедному человеку положительно нельзя жить.
И так я начал свое пешее путешествие. Как я уже упомянул, был серенький денек ранней весны. На широкой дороге, обсаженной столетними березами, посредине, где было наезженное санями полотно, лежал снег, на обочинах снег уже согнало; глина на поверхности оттаяла, ноги скользили по ней и разъезжались.
Несколько суток, проведенных почти совершенно без сна и все время на ногах, непривычная ноша на плечах и в руках сильно давали себя знать. Пройдя не более двух верст по тяжелой вязкой дороге, я начал сильно уставать. Плечи ломило, ноги скользили, меня шатало из стороны в сторону. Изнемогая от усталости, я решил остановиться на ночлег в первой же встречной деревушке, как бы близко к городу она ни была. В довершении всего меня очень беспокоила правая рука. Дело в том, что в бытность мою еще у себя дома я во время колки дров ссадил себе руку около запястья. Ссадина была пустячная, и скоро образовался струп. Во время путешествия на буфере от Спирова[58]58
Имеется в виду станция Спирово вышневолоцкого уезда Тверской губернии; ныне – поселок городского типа, районный центр Тверской области.
[Закрыть] до Торжка я ударился больным местом о дверцу вагона и сорвал струп. В ранку, очевидно, попала грязь, и делалось воспаление. Зайти в аптеку мне было некогда, и я должен был ограничиться тем, что, разорвав два носовых платка на узкие бинты, перевязывал по несколько раз в день больное место.
В опущенном состоянии рука затекала и ныла, поэтому мне приходилось нести багаж большей частью в левой руке. От продолжительного напряжения левая рука положительно онемела, и я подумывал уже даже о том, не расположиться ли мне у какого-нибудь сенного сарая или вообще какой-либо постройки, если вскоре не встретится деревни.
В это время меня начали обгонять крестьяне, едущие из города, большей частью на порожних розвальнях. Очевидно, они возвращались домой с базара. Я решил воспользоваться этим случаем, чтобы дешевым способом ускорить свое движение. На первые две просьбы подвезти меня с обещанием поделиться махоркой, я не получил даже ответа.
На третью просьбу, обращенную к молодому крестьянину, сидящему на полых розвальнях, последовал вопрос: «А сколько дашь?» Я сказал, что поделюсь, чем могу, ну так с полвосьмушки[59]59
Полвосьмушки – 1/16 часть фунта, то есть около 30 г.
[Закрыть] отсыплю. «Ну садись», – сказал он мне, и мы поехали.
Оказалось, что мой возница жил в расстоянии около 25 верст от Минска, но несколько в стороне от большой дороги, по которой ему надобно было ехать только 18 верст. Таким образом, мне было по пути с ним на 18 верст до перекрестка, по которому он сворачивал с большой дороги к востоку (вправо), мне же надо было свернуть на запад (влево). Я ему рассказал вкратце свою подготовленную для публики историю и сказал, что хочу переночевать в Заславе. Он мне объяснил, как пройти от перекрестка до Заслава, до которого, по его словам, было не более пяти верст.
Из разговора с ним во время пути я узнал, что он сочувствует большевикам, которые изгнали помещиков, забравших большую силу при немцах. Осторожно расспрашивая его о порядках, я узнал, что у местных крестьян не производилось еще ни реквизиций, ни мобилизаций, не взыскивался чрезвычайный налог, этим и объяснялись его симпатии к большевикам.
Наконец, около двух часов дня, мы доехали до перекрестка. Я расплатился табаком с моим возницей, взвалил снова мешок за плечи и пошел по проселку, малонаезженному и покрытому обледенелыми языками. Начинало немного подмораживать, образовалась гололедица, и идти было еще труднее, чем по скользкой глине, которую пришлось мне месить утром. Поскользнувшись несколько раз и упав на твердый лед, я убедился наконец, что мне до Заслава все равно не дойти, и вот, увидев первую деревню, зашел в нее.
Деревня состояла всего из нескольких хат. Выбрал ту, которая была поисправнее других, и заглянул во двор. Крестьянин лет пятидесяти пилил дрова. Я попросил разрешения войти в хату немного отдохнуть, на что получил тотчас же согласие. Внутренность хаты представляла собою довольно обширную квадратную комнату с русской печью в одном углу. Вдоль стен стояли лавки. В противоположном входу углу, под образами, стоял стол. По иконам было видно, что хозяева были православные.
В хате находился старик на вид лет семидесяти, щепавший лучину для горения, примерно таких же лет старуха и двое детей в возрасте тринадцати-четырнадцати лет. Из разговоров собитателями хаты я узнал, что деревня называется Селец, находится в двадцати пяти верстах от Минска и примерно верстах в трех с половиной от Заслава. Старик оказался отцом того крестьянина, которого я встретил первым на дворе, старуха – его матерью, подростки – его детьми, жена его, как выяснилось, была больна уже вторую неделю грудью (из расспросов я догадался, что у нее воспаление легких) и лежала за перегородкой у печки.
Тотчас, как только я вошел и познакомился с хозяином, как я и ожидал, начались расспросы, кто я, откуда и зачем я иду. Я рассказал подготовленный мною вымысел, причем назвал себя Николаевым. Впоследствии при подобных расспросах я постоянно менял свою фамилию, употребляя обыкновенно фамилии вроде Семенов, Петров и т. п.
Узнав, что я часовых дел мастер, хозяева тотчас же принесли мне старые часы с гирями, сильно запушенные, покрытые густым слоем пыли, с исковерканным маятником, погнутыми рычагами и прочими неисправностями и просили меня посмотреть, можно ли их починить или нет, так как они уже почти пять лет даром валяются на чердаке.
Осмотрев часы, я увидел, что все части налицо и серьезных поломок нет, не хватало кое-каких винтиков и шпиньков, которые я мог изготовить сам при помощи взятых с собою инструментов. Поэтому я заявил им, что часы можно исправить, и я берусь это сделать, если поспею до темноты, так как при свете лучины навряд ли будет хорошо работать.
Хозяева очень обрадовались, тотчас же освободили мне стол, принесли чистую тряпку, спросили, не хочу ли я закусить чего-нибудь. Я, конечно, не отказался, потому что с семи часов утра не имел во рту, что называется, ни маковой росинки. Тотчас же сварили картофеля, поставили жбанок молока и добрую краюшку хлеба из просеянной муки, какой в Совдепии я давно уже не видел. Не теряя времени, я принялся за работу и часа через три, то есть еще до наступления полной темноты, успел справиться с нею. Повешенные на стену часы довольно громким, густым боем начали отбивать и ходить. Я был очень доволен, что на первый раз мне удалось оправдать свою собственную рекомендацию. Быстрая починка часов произвела очень хорошее впечатление на хозяев, и мне тотчас же принесли маленькие карманные часы с просьбой починить и их. Но тут я уже не хотел искупать свою судьбу и портить произведенное впечатление. Эту работу я от себя отклонил под тем предлогом, что для починки маленьких часов необходимы тонкие инструменты, токарный станочек и другие приспособления, которых у меня с собою сейчас нет. Но при этом утешил их, что, быть может, при окончательном переселении я пройду по этим местам и тогда не миную их хаты. Они уговаривали меня основаться где-нибудь поблизости, в Заславе или в каком-либо другом из соседних местечек и заняться моим делом, убеждая, что в заработке недостатка не будет. Когда я заметил, что ведь тут есть же мастера-евреи, они возразили, что к евреям никто не понесет, потому что те только деньги дерут, а ничего путного не делают. Я сказал, что подумаю.
Затем речь зашла о вознаграждении меня за работу. Я отказался взять что-либо, так как считал себя вознагражденным данным мне приютом и едой. Хозяева продолжали настаивать на своем. Наконец согласились на том, что завтра сын хозяина подвезет меня на лошади до следующего за Заславом местечка, по направлению к местечку Ивенец[60]60
Ивенец – местечко в Минском уезде, в 31 км от Воложина; ныне – городской поселок в Воложинском районе Минской области Белоруссии.
[Закрыть].
Ужинали при свете лучины, так как керосина в деревнях давно уже не было. Поговорили на разные темы по современным вопросам, причем оказалось, что мои хозяева были против большевиков, и рано легли спать.
Мне постлали сена на лавке, покрыли его чистым рядном. Под голову дали подушку, которую я незаметно от хозяев покрыл носовым платком. Заснул я как убитый. Проснулся от пения петухов. Только что начинало светать. В избе все еще спали. Некоторое время я не мог даже сообразить, где я и что вокруг меня. Впервые после нескольких дней нервного напряжения, когда надобно было быть все время начеку, ощутил я, хоть относительный, но все-таки покой в глухой деревушке в двадцати пяти верстах от города.
По временам слышался шум проезжающих мимо саней и говор проходивших и проезжавших людей. Каждый такой звук невольно будил тревогу: не идут ли справиться из сельского комитета, что это за прохожий появился в деревне? Наконец поднялись и хозяева. Заварили моего чаю, угостил я хозяев сахаром, они меня за то горячими ржаными лепешками и вареным картофелем, и часов в семь утра сын хозяина, согласно уговору, повез меня в Раково[61]61
Раков – местечко Минского уезда, расположен на берегу реки Ислочь в 40 км от воложина; ныне агрогородок в воложинском районе Минской области Белоруссии.
[Закрыть], до которого было верст пятнадцать.
Через Заслав проехали в семь с половиной часов утра. Ощущение было неприятное, так как в местечке снега не было вовсе, лошадь, запряженная в розвальни, шла все время шагом, и я был на виду у всех прохожих, большей частью евреев. Для того чтобы не обращали внимания, я, оставив на розвальнях вещи, сам пошел пешком на некотором расстоянии от саней, как будто не имея ничего общего с ними.
Когда выехали из местечка, дорога стала сносной и можно было ехать довольно быстро. Часов около одиннадцати приехали в Раково. Это очень большое местечко с несколькими мощеными улицами. Дневная жизнь была уже в полном разгаре. По улицам сновала масса евреев. Надобно было быть очень осторожным. Я отпустил своего возницу у костела, не доезжая базарной площади, и затем, расспросив у него, как выйти из местечка на Ивенецкую дорогу, пошел по указанному направлению. Базарной площади миновать нельзя было, пришлось пересечь ее. Старался это сделать незаметно, избегая открытых мест и норовя пройти за возами и ларями. В одном месте услышал, как два проходящих парня условливались пойти на заседание комитета по случаю прибытия члена Минского совдепа. Этот разговор придал бодрости моим ногам, и я, быстро пройдя местечко, вышел на Ивенецкую дорогу, широкий шлях, идущий перелеском.
Вдоль дороги все время шли телеграфные столбы с большим количеством проводов, которые были подвешены на поперечинах в несколько ярусов. Такая масса проводов по тракту меня порядочно смущала, такая связь с Минском мне была очень неприятна, и я уже подумывал свернуть на какое-либо другое направление, более скромное в отношении культуры, но, пройдя версты три, я увидел, что эта мощная телеграфная сеть на значительном пространстве была разрушена, столбы повалены, и провода оборваны. После этого обилие телеграфных проводов, встречаемое мною нередко в дальнейшем пути, меня более не смущало.
До Ивенца считалось двадцать пять верст, и я надеялся засветло дойти до места ночлега, но не рассчитал своих сил. Правда, я успел отдохнуть от железнодорожного путешествия и выспался, но не успел еще приобрести навыка в носке багажа, и он очень утомлял меня.
Погода была немного теплее, чем накануне, но пасмурная. По временам накрапывал дождик, иногда, только на несколько минут, проглядывало солнце. Местность была холмистая. Постоянные подъемы и спуски при суглинистом грунте были очень тяжелы. С частыми отдыхами, чуть ли не через каждые две версты, часам к пяти я подошел к местечку Велма.
Заморосил мелкий дождик, начинало уже темнеть. Дальше идти было невозможно, до Ивенца было еще верст восемнадцать. Я решил переночевать в местечке, тем более что оно было небольшое и отличалось от обыкновенной деревни только тем, что в нем был костел. К ксендзу-то я и надумал идти, просить у него ночлега. Расспросил, где живет ксендз; оказалось, в маленькой усадебке (так называемое плебанье[62]62
Плебания (польск. plebania) – двор католического священника в Польше и в Белоруссии; обычно состоял из жилого дома и хозяйственной постройки.
[Закрыть]), в расстоянии четверти версты от местечка. Пошел туда. Дверь мне открыла служанка. Подозрительно оглядела меня и спросила по-польски, что мне было нужно.
Я объяснил ей, что имею дело к ксендзу. С опаской в пустила меня в прихожую. Через минуту вышел ко мне молодой, лет не более тридцати, бодрый, упитанный ксендз и обратился ко мне с тем же вопросом. Я рассказал ему, что иду в Ивенец, устал в пути и прошу его, не позволит ли он переночевать у него в прихожей, что ничего мне не нужно, только небольшую охапку соломы. Ксендз после краткого раздумья решительно отказал, посоветовав пойти в местечко, где есть много домов, в которых обычно останавливаются прохожие. Когда я просил назвать, к кому мне пойти, он назвал мне три еврейских имени: Шолома, Айзика и Сруля.
Нечего было делать, пошел назад. Придя в местечко, у первого встречного узнал, где живет Шолом. Иду к нему. Отказал, так как к нему приехала свадьба, хотя я никого не видел. Иду к другому. Того застал за ужином, он, не вставая из-за стола и повернув ко мне только свою бороду, резким еврейским фальцетом закричал на польско-жидовском жаргоне, что у него нет места. У третьего постигла та же неудача, но этот, по крайней мере, посоветовал обратиться к одному христианину, Минько, который жил от него дома через два и, по его словам, принимал прохожих.
Положение было не из приятных. Дождь все усиливался. Сумерки сгустились. Предстояла перспектива стучаться чуть ли не у каждого дома в незнакомом маленьком селении. Пошел к Минько.
Минько оказался мужик лет тридцати пяти, здоровый, широкоплечий, с военной выправкой, бывший солдат. Семья состояла из жены, матери его и троих детей в возрасте от трех до десяти лет. Когда я попросил его пустить меня на ночлег, он, не колеблясь, согласился, но предупредил, что у них очень тесно. Действительно, вся семья помещалась в одной комнате, разделенной только тонкой дощатой перегородкой.
Узнав после обычных расспросов, кто я такой, Минько тотчас же попросил меня посмотреть стенные часы, которые остановились на Рождество. При свете лучины осмотрел я часы. Это были обыкновенные часы с двумя гирями. Все было в исправности, но страшно запущено и засижено тараканами. Я тотчас же принялся за работу и зажег для этого свечу, взятую на всякий случай с собою. В это время вскипятили чаю и сварили неизменные картошки. Пока я чистил часы, хозяин занимал меня разговорами. Он был поляк, но говорил по-русски очень чисто. Жил он главным образом своим огородом, а кроме того прирабатывал у помещиков, пока они были в этой местности. Большевикам он не сочувствовал. Боялся, что отнимут у него его клочок земли, и негодовал на большевиков за то, что благодаря им лишился заработка у помещиков.
Часа через два часы были готовы и пошли. Опять меня начали спрашивать, что мне следует за работу. Я отказался от уплаты деньгами и сам предложил ему вместо уплаты подвезти меня до Ивенца. Так далеко хозяин везти меня не мог: на это требовалось много времени, лошадь слабая, а дорога очень плохая. Брался подвезти меня верст на пять, так как ему все равно на днях надо было побывать в одной деревне в тех краях. Я, конечно, и тому был рад.
Отказавшись подвезти меня до Ивенца, хозяин удвоил свою любезность и за ужином усердно подкладывал мне вареный картофель, а затем на лавке мне была устроена мягкая постель из вороха сена, покрытого старой попоной.
Заснул опять как убитый и проснулся только тогда, когда хозяйка завозилась у печки. После обычного утреннего чая, которым я угощал своих хозяев, уделяя каждому члену семьи по кусочку драгоценного сахара, мы отправились в путь на розвальнях.
Вчерашний дождь сильно согнал снег, и большей частью лошадь волокла сани по вязкому суглинку. Наконец доехали до той деревни, откуда мне предстояло идти пешком в Ивенец.
Когда подъезжали к ней, нас нагнали маленькие санки в одну лошадь. На заднем сиденье сидели женщина лет тридцати и парень лет восемнадцати, а на козлах, спиной к лошади и лицом к спутникам, девочка лет двенадцати. Правил лошадью парень.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?