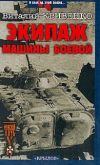Текст книги "Воображая город: Введение в теорию концептуализации"

Автор книги: Виктор Вахштайн
Жанр: Классическая проза, Классика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]
Прививка этнометодологии к городским исследованиям
Эти самостоятельные и независимые люди формируют группу постольку, поскольку все вместе стоят на одном и том же тротуаре… постольку, поскольку они группируются вокруг одной и той же автобусной остановки.
Ж.-П. Сартр
Этнометодология – наиболее радикальная и последовательная из многочисленных теорий практик [Волков, Хархордин 2008]. Само возникновение этнометодологического проекта тесно связано с тенденциями развития послевоенной социальной теории. Интуиция общества как трансцендентного, всепроникающего и универсального морального закона (апогей которой – расцвет структурного функционализма) в 50‐х годах ХХ века еще не подлежала тотальному пересмотру, но уже и не казалась само собой разумеющейся. На первом этапе ей противопоставляются концептуализации социального целого, в котором общественный порядок не является порядком sui generis, а конституируется, достигается, осуществляется, продуцируется в некоторых конкретных обстоятельствах социальной жизни. Но каковы те правила, по которым производится общество-вокруг-нас? И где источник этих правил? На чем основывается нормативный социальный порядок, если он не служит основанием самому себе? Последний вопрос, по сути, является модифицированной версией классического вопроса «Как возможно общество?» [Зиммель 1994]. Менее чем через полстолетия после своей успешной институционализации именно в качестве науки об обществе социология снова оказывается перед необходимостью решения гоббсовой проблемы, задаваясь вопросом о возможности социального порядка и проблематизируя тем самым свои собственные основания [Корбут 2013].
Для того чтобы социальное стало проблемой, нужно было, чтобы оно перестало быть аксиомой. Предметом исследования является лишь то, что не лежит в тени дотеоретических допущений. Чтобы Гоббс смог проблематизировать солидарное сосуществование людей, предположив наличие некоторого дообщественного и досоциального состояния, должна была ослабеть аристотелевская традиция мышления о социальности. В этой традиции человек есть «общественное животное», а солидарность индивидов врожденна, т. е. возводима к априорно присущей им человеческой природе. Так же и Альфред Шюц получает возможность проблематизировать общество, по мере того как теряет убедительность предложенная Э. Дюркгеймом логика мышления, в которой социальный порядок самодостаточен и может быть объяснен фактами социального же порядка. Гоббс, отказываясь от аристотелевской идеи априорной социальности, обращается к идее здравого разума (recto ratio), Шюц, заявляя о конституируемой природе социальности, обращается к повседневному миру здравого смысла. Впрочем, здесь нас интересует не сомнительное сходство двух этих концептов, а неожиданно повторяющийся сюжет обнаружения «социального как производного и достигаемого».
Идея производства социального порядка в локальных обстоятельствах повседневного взаимодействия сама по себе не очевидна. Ее делают очевидной (как одну из возможных конструируемых очевидностей) работы А. Шюца и тех, кто воспринял теоретическую логику его социологии повседневности. Благодаря этой новой созданной феноменологами очевидности Гарольд Гарфинкель и получает возможность постулировать непреходящую ценность повседневного мира для социологического исследования. Он пишет:
Знакомый мир здравого смысла, мир повседневной жизни, является предметом непреходящего интереса для любой дисциплины – и гуманитарной, и естественнонаучной. В общественных же науках и в особенности в социологии он, по сути, составляет основной предмет изучения. Он определяет саму проблематику социологии, входит в самое природу социологического отношения к действительности и странным образом охраняет свой суверенитет от претензий социологов на адекватное его объяснение [Гарфинкель 2002: 41].
Претензию на адекватное объяснение (точнее, описание) и выражает гарфинкелевская этнометодология, как проект исследования обыденных, рутинных, «естественно организованных» действий, конституирующих социальный порядок. Отсюда определение этнометодологии, предложенное соратником Гарфинкеля Э. Ливингстоном: «Этнометодология – это исследование производства социального порядка» [Livingston 1987: 12].
В каком отношении находятся этнометодология, естественным образом организованные повседневные действия и социальный порядок? Ливингстон пишет:
Этнометодологи исследуют практические действия и практические обоснования как деятельную работу по производству социального порядка. Большая часть моего исследования посвящена изучению конкретных упорядоченностей повседневного общества, я покажу, как эти упорядоченности и их доступные описанию свойства производятся на месте, in situ, некоей локальной когортой исполнителей. Центральным вопросом этнометодологической исследовательской программы является вопрос: что представляют собой наблюдаемые упорядоченности практических действий? [там же: 15].
И в то же время:
…аналитик сам безнадежно и непоправимо вовлечен в производство социального порядка; аналитик – это практический аналитик своих собственных практических действий [там же: 13].
Таким образом, отношения в обозначенном выше треугольнике «этнометодология – практические действия – социальный порядок» приобретают рекурсивный характер. Этнометодология есть исследование упорядоченных практических действий, производящих социальный порядок. Этнометодология есть производство социального порядка посредством упорядоченных практических действий. Этнометодология есть производство социального порядка посредством исследования упорядоченных практических действий упорядоченными практическими действиями. Здесь отношение «исследование/производство» так же рекурсивно как отношение «практические действия / социальный порядок».
Впрочем, проблема рекурсивности отношений потребует от нас более детального изучения; пока же зафиксируем: этнометодология возникает как результат развития послевоенной социологии, изначально в ней находит свое отражение основная интенция феноменологической традиции – проблематизация социального порядка и поиск его оснований в повседневном мире.
Такова историко-социологическая версия рождения этнометодологии. Это версия, идущая от истории идей, от описания интеллектуального контекста, от размещения исследуемого проекта в некоторой «традиции», «направлении», «программе», «аксиоматике». Это версия рождения этнометодологии как идеи среди других идей.
Собственная, этнометодологическая, версия появления этнометодологии выглядит принципиально иначе. Э. Ливингстон пишет:
В 1954 году юридический факультет Чикагского университета профинансировал изучение механизмов вынесения вердикта присяжными. Среди социологов, принимавших участие в исследовании, был Гарольд Гарфинкель. В ходе проекта в комнате присяжных исследователи установили микрофоны, так что все обсуждение записывалось. Для социологов главным в этом исследовании был вопрос: «Каким образом присяжные выносят свои решения?» <…> Так Гарфинкель наткнулся на новую проблемную область – область вездесущих и абсолютно неисследованных феноменов. В работах о том, как «должны» выноситься вердикты, или – несмотря на явное расхождение между теорией и наблюдаемыми практиками – как эти решения «на самом деле» выносятся, не было недостатка. Тем не менее присяжные использовали свои собственные методы. Эти методы были просто применяемыми методами; не «высоконаучными» методами, а обыденными, знакомыми, прозаичными методами и, по большей части, методами повседневного общения и обывательского теоретизирования. Сходным образом методы, применяемые социологами, – не декларируемые «научные» методы, а те реально применяемые ими техники, которые только и позволяют им выставлять «научные» методы в качестве правдоподобных описаний собственных рабочих практик, – это распознаваемые, знакомые, «грубые», неартикулированные методы, используемые социологами для достижения практических целей. Так родилась этнометодология… [там же: 1–3].
Пешеходы на нью-йоркском перекрестке и пассажиры московского метро – мы все теперь немного гарфинкелевские присяжные, производящие опознаваемые действия и использующие рутинные методы (этнометоды) наделения их смыслом. Город – такой же локально производимый «здесь и сейчас» социальный порядок. Теперь мы должны научиться видеть его не с крыши небоскреба, а в перспективе совместного коллективного производства видимых и распознаваемых феноменов городской жизни. Парадигматический сдвиг, предложенный этнометодолгами, – это сдвиг от урбанизированной повседневности (urban everyday life) к повседневной урбаничности (everyday urbanity).
Новая концептуализация предполагает различение как минимум трех элементов, на которых теперь должно быть сосредоточено наше внимание. И все эти элементы есть в наблюдении Ливингстона за нью-йоркскими пешеходами.

Схема 14. Этнометодологическая концептуализация
Центральный концепт первой орбиты – практики. Этнометодологический текст легко узнаваем по тому, насколько часто в нем повторяются предикаты «живые», «конкретные», «реальные», «социальные» применительно к «практикам». Но такие предикаты не являются предикатами в нашем смысле слова – их бессмысленно помещать на вторую орбиту концептуализации. Скорее, речь идет о символе веры этнометодологов: социальный порядок неотчуждаем от производящих его практик; город – это «непрерывно разворачивающийся процесс практического осуществления». Люди делают город, переходя дорогу.
Какие люди? Вовлеченные в производство некоторого локального порядка группы индивидов (которые никогда не рассматриваются этнометодологами как социологически интерпретируемые, реальные группы индивидов) в этнометодологическом языке называются когортами. Андрей Корбут, анализируя то, как люди выходят из автобуса, очень точно схватывает эту интуицию:
Выход из автобуса производится какой-то когортой людей. Это всегда конкретная когорта, членом которой являются какие-то люди, т. е. каждый, кто принадлежит к ней, кем бы он ни был. Ее «случайность» обеспечивается самим способом ее организации: членом именно этой когорты может стать любой пассажир. Когорта распадается после окончания выхода, но на следующей остановке следующая когорта организует следующий выход из автобуса… Производящая выход из автобуса когорта людей осуществляет выход как организационный факт своей деятельности. Эта когорта является когортой, пока осуществляется данный конкретный выход. Она локальна, и ее локальность представляет собой характеристику ее деятельности. Порядок этой деятельности – это порядок ее осуществления [Корбут 2006: 226].
Нет когорт без практического действия, нет практического действия без производящих его когорт. И в этом смысле этнометодологический проект – действительно один из самых антииндивидуалистских проектов в социологии ХХ века. Невозможно помыслить единичного производителя социального порядка.
Утверждая, вслед за Кеннетом Либерманом, что когорта обладает свойствами гештальта (как он понимается в гештальтпсихологии), Корбут схватывает еще одну важную интуицию: когорта
является упорядоченной и упорядочивающей. И для выходящих, и для невыходящих существование локальной производящей когорты – наблюдаемый феномен, наблюдаемость которого составляет черту его производства и обеспечивает его. Можно сказать, что выход из автобуса состоит в производстве наблюдаемости и наблюдаемых феноменов выхода из автобуса [там же: 227].
Но чем обеспечена такая специфическая наблюдаемость, опознаваемость, «схватываемость» практических феноменов? Теми самыми методами упорядочивания и «опрозрачивания» практик, которые мы все используем рутинным образом, не придавая им особого значения.
Корбут пишет:
Ожидающие прихода автобуса располагаются на остановке так, чтобы обеспечить вход в автобус в соответствии с выходом из него: входящие будут заходить в автобус, скорее всего, в ту дверь, из которой они будут выходить, т. е. тот, кто будет выходить из первой двери, будет располагаться в начале остановки, а тот, кто будет выходить из последней, – в конце (если дверей несколько). Для тех, кто ожидает автобуса, расположение людей на остановке может быть доступно описанию как соответствующее намерению людей выйти в определенную дверь, но чтобы это описание было возможно, феноменальное поле остановки должно быть определенным образом упорядочено. Для тех, кто ожидает автобуса, именно данное конкретное расположение является наблюдаемым элементом порядка выхода: то, что стоящие вначале будут выходить в первую дверь, составляет видимую характеристику производства ожидания автобуса на остановке в актуальных обстоятельствах ожидания. Т. е. ожидающий видит, кто как будет выходить, и видит как элемент именно этой расстановки людей [там же: 227].
Итак, три элемента фокусировки – когорты, практические действия и упорядочивающие их методы – дают нам исходные различения, с которых можно начать реконцептуализацию городской жизни в этнометодологической оптике. Однако парадоксальным образом специфика этой оптики – принципиальный отказ различать когорты, практики и методы как что-то потенциально (аналитически) отделимое друг от друга. Когорты-практики-методы для этнометодолога существуют неразрывно, их крайне сложно (и не нужно) отмыслить друг от друга. Такой прием, характерный для многих практикоориентированных концепций, оппоненты иронично называют элизией или конфляцией [Арчер 1999]. Но именно этот прием позволяет этнометодологам избавиться, например, от бурдьевистского дуализма. Нет больше социальных структур, объективирующихся в физическом пространстве. Есть только наблюдаемые структуры коллективного производства города здесь и сейчас. Аналогичным образом нет отдельно города и отдельно сообщества. И то и другое – эпифеномены разворачивающейся перед нашими глазами повседневной упорядоченности практических действий.
Мало чему так сильно сопротивляется социологический здравый смысл, как подобной реконцептуализации сообщества. Городом пожертвовать куда легче. В конце концов, город в социологическом исследовании всегда был определяемым, а не определяющим – объектом, а не ресурсом концептуализации. Но сообщество? Это одна из наших самых проверенных, самых онтологически твердых первичных реальностей. Мы не можем просто заменить социологическое сообщество этнометодологической когортой, потому что когорта – всего лишь группировка различимых человеческих юнитов, формация вовлеченных в данную конкретную практику тел.
Как тогда перевести сообщество на язык этнометодологии?
«Вы нашего кота не видели?» Производство соседства в КорсторфайнеНесколько лет назад в одной из элитных московских школ прошла полузакрытая психолого-педагогическая конференция, посвященная «зазаборным детям». «Зазаборные дети» – неполиткорректное именование нового поколения школьников, выросших в подмосковных коттеджных поселках. Некоторые из них впервые увидели своих сверстников в день, когда пошли в школу. Ближний круг ежедневного общения таких детей состоит из няни, гувернантки, шофера и садовника. Причиной организации конференции послужило шокировавшее педагогов событие. Один из второклассников принес в школу столовый нож и полоснул по руке своего соседа по парте. На вопрос, зачем он это сделал, мальчик ответил, что хотел проверить, пойдет ли у того кровь. Доучившись до второго класса, ребенок не был уверен, что остальные дети вокруг него настоящие.
Пригородные поселки всегда рассматривались социологами как образцы соседства [Gans 1967]. Соседство же – это экземплификация сообщества, сообщество per se. Множество работ (преимущественно американских) провозгласило смерть соседства в результате всепроникающего и растлевающего влияния урбанизации. Тревожные тенденции в пригородных поселках были обобщены теорией морального минимализма. М. Баумгартнер пишет:
В пригородах помощь между друзьями и соседями ограничивается мелкими одолжениями: забрать соседского ребенка после школы, одолжить стиральный порошок или недостающий для готовки ингредиент, убрать снег или полить растения, пока хозяева в отъезде. Подлинные жертвы, однако, остаются за пределами сообщества… В этом смысле слабые социальные связи подкрепляют общее безразличие и холодность, а отсутствие конфликтов идет рука об руку с отсутствием заботы [Baumgartner 1988: 132].
Чтобы зафиксировать эту пагубную динамику в строгих аналитических категориях, Л. Ричардс на материалах этнографических исследований австралийских пригородных сообществ в окрестностях Мельбурна попыталась составить детальный каталог ожиданий – что значит быть плохим или хорошим соседом.
Хорошие соседи:
1) приглашают друг друга на барбекю;
2) укрывают соседей во время дождя и стирают их одежду;
3) в грозу затаскивают внутрь соседские мусорные баки, чтобы их не унесло ветром;
4) подбирают почту;
5) помогают с тяжелыми работами в саду (вроде установки навеса или забора);
6) делятся горячей водой или электричеством в случае неполадок;
7) присматривают за детьми;
8) кормят животных и поливают растения, пока хозяева в отъезде;
9) самое главное – смотрят за домом.
Плохие соседи, напротив:
1) ссорятся с вами из‐за сломанного забора;
2) выпускают собак без поводков;
3) бросают машины на тротуаре;
4) устраивают вечеринки в неподобающее время; и
5) самое неприятное – шпионят за вами (обратная сторона присмотра за домом) [Richards 1990; цит. по: Laurier, Whyte, Buckner 2002].
Все эти выделенные Ричардс соседские ожидания сформулированы в полном соответствии с «правилами хорошего соседства», которые издавна были предметом исследования в социологии сообществ. Например, правило минимальной осведомленности: соседи должны знать, кто где работает и чем увлекается. Если новый сосед г-н Х занимается теннисом и ищет партнера для игры, то г-жа Y должна познакомить его с г-ном Z, который тоже неплохо играет в теннис.
Итак, у нас есть соседство, правила и ожидания. Но это вовсе не то, что интересует настоящего этнометодолога. Этнометодолог должен изучить, как соседство собирается и производится в повседневной локальной упорядоченной организованной деятельности его членов.
Эрик Лорье, Ангус Уайт и Кэти Бакнер из университета Глазго продемонстрировали этот феномен на примере поисков потерявшегося кота Джека, сбежавшего от своих хозяев – Питера и Кристины Уиннингов, живущих в шотландском пригородном поселке Корсторфайн.
Вечер вторника. Джека не было дома уже 48 часов, Кристина и Питер начали беспокоиться. Раньше он почти никогда не убегал больше чем на сутки. Проходившая мимо соседка Миссис Монро остановилась поздороваться. Питер как раз чинил забор. «Вы случайно не помните, когда в последний раз видели нашего кота?» – спросил он. Миссис Монро ответила, что не уверена и должна спросить своего мужа [Laurier, Whyte, Buckner 2002: 354].
Миссис Монро – не самый близкий Питеру человек в соседстве, но самый близкий сосед в прямом смысле: она живет в том же доме, их лужайки разделены общей стеной. Пространственная близость накладывает серьезные моральные обязательства: соседняя дверь – первая, в которую вы звоните, если кот не вернулся домой.
Вечер среды. Уиннинги начали звонить в двери соседей, с которыми были шапочно знакомы – все они жили на той же улице. Ким, жена терапевта, живущего через дом от них, посоветовала постучаться в коттедж, находящийся по диагонали от дома Уиннингов. Со второго этажа, где расположена ее комната, она несколько раз видела Джека, сидящего в том коттедже на подоконнике и пожилую женщину, которая его гладила [там же: 357].
Следуя за Уиннингами, говорят исследователи, мы можем проследить те различия, которыми они руководствуются в общении с соседями. Через двадцать четыре часа после обнаружения пропажи кота они обращаются к своим знакомым, живущим по соседству, отдавая предпочтение тем из них, кто бывал у них дома и видел Джека. Жена терапевта Ким всегда держала для Джека немного корма, ее чаще остальных Питер и Кристина просили присмотреть за животным на время своего отъезда. На втором этапе поиска мы также понимаем, что именно окно – наиболее релевантная соседству архитектурная деталь. Пригородные сообщества – это сообщества окон.
Четверг. Позвонив в дверь пожилой женщины, Питер сразу же представился: «Я ваш сосед Питер. Я живу вот тут». Женщина ответила, что зовут ее Мойра и кот Уиннингов приходит к ней довольно часто, она его кормит и называет Том. Мойра долго извинялась за то, что приглашала чужого кота в свой дом, но Питер заверил ее, что не видит в этом никакой проблемы. Мойра сказала, что уже несколько дней не видела Джека-Тома и снова начала оправдывать свои слишком теплые отношения с чужим питомцем: в прошлом у нее было много кошек, но сейчас она уже слишком стара, чтобы завести котенка. Питер еще раз заверил ее, что все в порядке и попросил позвонить, если она увидит Джека или что-то узнает от других соседей.
Каждое высказывание в этом диалоге индексично, то есть глубоко контекстуально. Говоря «Я живу вот тут», Питер не просто входит в диалог, он актуализирует некоторое имплицитно полагаемое соседское обязательство. Эта фраза, по сути, означает: «Вы должны мне сказать…». Говоря «Я слишком стара, чтобы завести котенка», Мойра одновременно и оправдывает свои действия, выводя их из под потенциальной моральной оценки, и отсылает к своему плохому зрению: «Я плохо вижу и не уверена, что могу вам помочь».
Позже в четверг. Миссис Монро постучала в дверь Уинниингов: «Вы нашли Джека? Алек [муж] сказал, что последний раз видел Джека напротив их дома в понедельник – тот просился внутрь». Кристина поблагодарила соседку, добавив: да, это была последняя ночь, когда Джек ночевал дома. Они некоторое время обсуждают, что еще можно сделать. Кристина и Питер уже обзвонили кошачьи приюты и компании, занимающиеся ловлей бездомных и потерявшихся животных. Завтра они попробуют расклеить объявления.
Разговор на пороге – особая форма коммуникации. Он асимметричен. Не заходя внутрь, миссис Монро подчеркивает, что пришла «по делу», что всерьез занимается пропажей Джека. Она пришла сообщить новости, какими бы незначительными они ни были, и «обновить статус». У разговора на пороге двух соседей есть масса специфических коммуникативных особенностей, подчеркивают исследователи; одна из них – вежливо завершить его может только человек снаружи, хозяева лишены такой привилегии.
Суббота. На выходных, как только появилось время, Кристина и Питер напечатали дома объявление о пропаже кота. Они повесили его на газетный ларек, на дверь клиники ветеринара, на дверь супермаркета, на фонарные столбы на углах трех улиц, параллельных той, на которой они живут, а также на доску объявлений в местном парке.
Выбор мест для расклейки объявлений четой Уиннингов – сам по себе любопытный пример «соседской картографии». Традиционно такой выбор описывается в категориях публично релевантных зон [там же: 361]. Но практическая задача, стоящая перед Питером и Кристиной, сложнее. Им нужно принять во внимание: а) предполагаемые маршруты кота; б) точки пересечения ежедневных маршрутов соседей, имеющих наибольшие шансы увидеть кота; в) места, в которых максимальное количество соседей, будет иметь возможность прочитать это объявление (независимо от маршрутов кота и кошкорелевантности соседей). По тому, как распределено ограниченное количество объявлений, мы можем судить, какой критерий воспринимается Уиннингами в качестве основного (предполагаемые кошачьи маршруты).
Понедельник. Малознакомый сосед, живущий на противоположной стороне улицы, бросил в почтовый ящик Уиннингов записку: его новые соседи по дому нашли кота – тот был без ошейника, голодный и ободранный – и передали его в центр помощи потерявшимся животным. (Как впоследствии выяснилось, Питер туда звонил, но служащие приюта не смогли сопоставить его описание с переданным им котом.) Кристина познакомилась с новыми соседями, пока они разгружали машину, и выяснила, в какой именно приют передали Джека.
У истории, рассказанной Лорье, Уайтом и Бакнер, счастливый конец – для кота Джека, но не для теории сообществ. Потому что из приведенного описания, в частности, следует, что концептуализация соседского сообщества как некоторой «вещи», имеющей собственные субстанциальные качества и характеристики (нормы, правила, ожидания, моральные пресуппозиции, социальные связи, градус солидарности etc.), пасует перед простым вопросом: как именно там ищут потерявшегося кота? Авторы теории морального минимализма, говорят Лорье, Уайт и Бакнер, слишком близко к сердцу восприняли идеи Норберта Элиаса о «процессе цивилизации» [Элиас 2007], замечания Ричарда Сеннета о «падении публичного человека» [Сеннет 2002] и Фердинанда Тённиса о «гибели гемайншафта» [Тённис 2002]. (Странно, но Ханну Арендт их критический аргумент, кажется, не задел.) До тех пор, пока мы находимся в плену подобных абстракций в своих рассуждениях об «остывании социального», мы не видим главного: как совместные поиски потерявшегося животного создают соседство. А значит, мы больше не можем мыслить соседство – да и сообщество в целом – в качестве микрофабрики по производству доверия (что мы и делали в параграфе о Новой Москве и Старом Париже), но исключительно в виде некоторого дериватива, производной от повседневных упорядоченных практик локальных когорт.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?