Текст книги "Пришвин и философия"
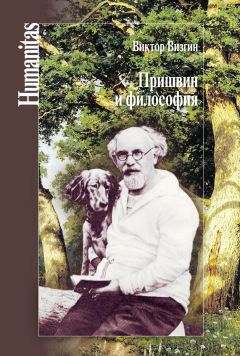
Автор книги: Виктор Визгин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Пришвин и Рид
«До последней крайности, – говорит Пришвин, – надо беречься пользоваться философскими понятиями и держаться языка, которым мы перешептываемся обо всем с близким другом, понимая всегда, что этим языком мы можем сказать больше, чем тысячи лет пробовали сказать что-то философы и не сказали»[71]71
Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т. 6. М., 1957. С. 379. У Пришвина стоит «о всем».
[Закрыть]. Философы претендуют говорить истинно «обо всем» в свете Всего как единого Целого (das All, le Tout). А с другом мы говорим просто обо всем на свете, о самых разных разностях, в том числе иногда и о философических предметах, то есть о Всем как Едином, о Бытии и даже «о Боге». И вот что еще важно: с другом мы беседуем в охотку, сообразуясь с вольным порывом души, используя свои собственные слова, а не профессиональный язык философов с его «цеховыми» условностями, идейными и концептуальными «заморочками», который принуждает рассуждать заведомо известным, предсказуемым и часто затемняющим живую реальность образом.
Я вцепился в эту мысль почти восьмидесятилетнего русского писателя, может быть, потому, что сам думаю подобным образом. Последнее время читал шотландца Дугалда Стюарта (1763–1829) об его учителе, Томасе Риде (1710–1796), основателе философии здравого смысла (common sense)[72]72
Стюарт Д. Рассказ о жизни и творчестве Томаса Рида, доктора богословия //Рид Т. Философия здравого смысла. М., 2014. С. 547–627.
[Закрыть]. В чем суть этой философии, если выразить ее кратко? Опасность при ответе на этот вопрос, как и при «лобовом» истолковании любой философии, в том, что при этом легко «соскочить» на банальность идеологически простенькой мысли, которую давно нашли и сочли за «главную». В случае философии здравого смысла ответ, кажется, напрашивается сам собой, если мы вспомним слова Пришвина, которыми начали сопоставлять его с Ридом: мол, мыслящий, бойся дурманящего голову философического искусственного языка с его ловушками для трезвого здравого смысла! Размышляй о самом главном на обычном языке, на котором перешептываешься с другом, когда вы оба в уютных креслицах и можете беседовать сколько душе угодно и о чем угодно! Суть дела, однако, в том, чтó стоит в приведенном выше предостерегающем высказывании русского писателя за закурсивленными нами словами («до последней крайности надо беречься пользоваться философскими понятиями и держаться языка, которым мы перешептываемся…»)? Как узнать, когда «последняя крайность» наступила и поэтому можно использовать искусственный философский язык? Как узнать, когда такой язык становится даже необходимым? У Пришвина, по крайней мере, прямых ответов на эти вопросы нет. А в них все дело.
Суть этого высказывания умудренного долгой творческой жизнью писателя не в принижении значения философии с ее специальным языком, сопровождающемся соответствующим возвышением здравого смысла с присущим ему обычным языком, который с ним неразлучен. Даже не в упреке философии в ее самомнении как «царицы наук» здесь кроется главное, а в том, чтобы ясно осознать место и функцию всех языков, обычных и необычных, общезначимых и специальных, естественных и искусственных, и понять неизбежность их гармоничной взаимосвязи и ее условия. Трудный, но зато интересный и плодотворный путь философской мысли – идти между двух крайних «огней»: между «философофобией» и «философофилией», если угодно. По нему и пошел Томас Рид. Шел он таким путем, как это обычно бывает, в условиях своего времени. Но по-другому никто из нас, смертных, идти не может.
Пусть «мостиком» между великим шотландским философом и Пришвиным нам послужит великий русский поэт – В.А. Жуковский, близкий по времени к Риду и его школе[73]73
См. о нем как мыслителе: Визгин В.П. Жуковский как философ: Заметки благосклонного читателя // Филология: Научные исследования. № 2. 2014. C. 168–180.
[Закрыть]. Почему Жуковский в письме Авдотье Петровне Елагиной советовал Ване Киреевскому, ее сыну, вместо немецких философов взяться за перевод шотландцев, например Дугалда Стюарта? Прямых объяснений этого я у поэта не нашел. Могу только высказать предположение, почему он дал такой совет своему воспитаннику, увлеченному как раз немецким идеализмом. В немецкой философии от Канта до Гегеля Жуковский почувствовал дисгармонию, опасный «перебор» в составе употребляемых в ней языков в пользу искусственного философского языка. Это – первое. Вторую же причину такого совета я вижу в том, что подчеркнуто специальным языком в большинстве случаев у немецких философов говорил если и не атеизм, то пантеизм и вообще рационалистическое умонастроение, уводящее от христианской культурной традиции. А в такой установке сознания, в таком умонастроении русский поэт увидел угрозу несомненной правде, самой Истине. Шотландская же философия здравого смысла, принимая и понимая развивающуюся науку своего времени, избегала крайностей, в том числе и указанной. Она учила примирять научный прогресс и христианские устои европейской цивилизации. В этом ее сила. И поэтому не случайно она оказалась близкой такому чуткому и тонкому мыслителю, каким был великий русский поэт. Какие иноземные имена напрашиваются, когда мы обращаемся к Ивану Киреевскому как отдаленному источнику русской религиозной философии в целом и пришвинской мысли в частности?[74]74
В последний год своей жизни Пришвин читает книгу Гершензона об Иване Киреевском и отмечает совпадение основных идей основоположника славянофильства со своей мыслью. См. об этом в разделе «Пришвин и Лосский».
[Закрыть] Ну конечно же – Шеллинга и шотландских философов. Иван Киреевский их хорошо знал, и предпочитать шотландцев тогдашним кумирам, Гегелю и Канту, ему косвенно посоветовал Жуковский.
«Весь смысл и все должное философии, – говорит Пришвин, – состоит в том, чтобы побудить каждого мыслить самостоятельно и собственными словами выражать свои мысли»[75]75
Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т. 6. С. 411.
[Закрыть]. Если самостоятельность нашей мысли требует языка особого, специального, скажем, философского, то его употребление тем самым будет оправданным. Нас увлекают веяния времени. А вечное нам является только в попытке самостоятельного созидания в мысли и деле. Вот поэтому и философия как таковая зовет нас, в конце концов, к одному – к тому, чтобы выращивать свою мысль из нашего личного опыта, выражая ее своими словами. Конечно, в своем опыте разобраться невозможно, не усваивая себе опыт других, запечатленный в религии, философии, науке и искусстве, да и не только в них.
Пришвинская фраза, которую я только что процитировал, напомнила о молодых годах, когда мы жадно набрасывались на философские книги, надеясь обрести с их помощью примерно то, о чем говорит русский писатель, то есть какое-то скрытое и прочное основание всего, из которого непременно последует указание, как нам жить и к чему стремиться. Философия воспринималась нами тогда как какая-то «царица наук», как высшее знание и мудрость.
В науках познаются частные истины, общие принципы и законы устройства разных планов Вселенной. А изучая философию, думали мы, можно познать последние основы всего, открыть самые скрытые, самые трудно постигаемые и важные смыслы, увидев Целое как единое. Но вот на что интересно обратить внимание: что-то в философии нас питало, а что-то нет. Гуссерль и тогда был притчей во языцех, о нем вокруг все причастные философии говорили и писали как о несравненном гении, основоположнике современной философии, научной и строгой. Но сколько бы раз я ни перечитывал некоторые его программные сочинения, ничего резонирующего с собственными философскими устремлениями не мог в них найти! Да, невероятное упорство и последовательность в разработке глобального рационального проекта восхищала; вызывала сочувствие и понимание острая критика некоторых предшествующих философий, но при этом как-то не верилось, что на прокламируемом Гуссерлем пути может действительно возникнуть какая-то философская «строгая наука», которая нас, наконец, просветит, ободрит и укажет, как правильно мыслить и жить[76]76
Подробнее об этом см.: Визгин В.П. Поздний Гуссерль: квазирелигия разума как продуктивный тупик // История философии. Т. 20. 2015. С. 102–129.
[Закрыть].
А вот шопенгауэровская картина мира увлекала, воспламеняла воображение так, что и сам начинал смотреть на мир по-шопенгауэровски, но собственными глазами, самостоятельно. Помнится, мы с другом, любителем, как и я, философии, гуляя по Крымским горам, искали в очертаниях причудливых скал, в фигурах их выветривания то Шопенгауэра, то Ницше. И находили. Но Гуссерля мы там, на Кара-Даге, не искали и не встречали. Имени его не произносили. Задним числом я понимаю, что для меня лично философия всегда была продуктивной лишь в том случае, если дружила с художественным, эстетическим началом. А оно, кстати, невозможно без обычного языка, на котором перешептываются друзья, когда поверяют друг другу свои самые заветные мысли.
От русского писателя, точку зрения которого на философию мы самым кратким образом раскрыли, и собственных воспоминаний обратимся снова к шотландскому философу. Ридовская философия здравого смысла «перекликается» с установкой на доверие[77]77
См. о ней: Визгин В.П. На пути к другому: От школы подозрения к философии доверия. М., 2004.
[Закрыть]. Мысль всегда проходит через распутье: идти ли ей в познании снизу, аналитически выявляя самые низшие по рангу элементы сущего и сводя к ним высшие, или же пытаться, напротив, верхним светом бытия, доступного нашему духу непосредственно, освещать мир, тем самым познавать его и соответственно достигнутому знанию действовать? Иными словами, мы всегда стоим на распутье между подозрением и доверием как установками нашей воли и мышления.
В своей философии Томас Рид пришел к формулировке «инстинктивных начал» человеческого духа. Их следует понимать как некие базовые предрасположенности нашего менталитета. Обратим внимание на одно из таких начал, о котором пишет ученик Рида, его комментатор и биограф Дугалд Стюарт. Мы имеем в виду начала доверчивости и правдивости. Обратимся к первому из них – к началу доверия, противоположностью которого выступает подозрение. «Школа подозрения» (выражение Рикёра) включает, прежде всего, таких ее отцов-основателей, как Ницше с его генеалогией морали, Фрейда с его психоанализом и Маркса с его историческим материализмом. В эпоху, предшествовавшую этим корифеям «подозрения», в связи с выдвинутым Томасом Ридом принципом доверия (и доверчивости) спорил Джозеф Пристли, о чем рассказывает нам Дугалд Стюарт. Ключевым пунктом в аргументации Пристли является вопрос о «причине доверия»[78]78
Стюарт Д. Указ. соч. С. 599.
[Закрыть]. В чем причина доверия как установки нашего духа? Чтобы понять столкнувшиеся между собой позиции Пристли и Рида по этому вопросу, лучше всего процитировать самого основоположника философии здравого смысла, цитируемого Пристли и затем, повторно, Стюартом: «Если бы доверчивость была, – пишет Рид, – следствием рассуждения и опыта, она бы росла и усиливалась по мере приращения рассуждений и опыта. Если же это дар природы, то сильнее всего она должна быть в детстве, а опыт должен делать ее все более ограниченной и узкой; и самый поверхностный взгляд на человеческую жизнь показывает, что причиной доверчивости является последнее, а не первое»[79]79
Там же.
[Закрыть]. Итак, установка доверия, считает Рид, является «даром природы», «инстинктивным началом», что оспаривается Пристли, который, будучи материалистом, выступает в роли предшественника позднейшей «школы подозрения».
Кредо представителей школы «подозрителей» от Джозефа Пристли до Зигмунда Фрейда состоит примерно в следующем. В мире не существует высшего сверхприродного или духовного начала как чего-то самостоятельного, сущего по себе, а не через другое, что онтологически стоит ниже его. Поэтому прямого опытного контакта с таким началом у человека быть не может; возможен контакт только с низшим, то есть с материальным миром.
Следовательно, все содержание нашего духа, говорят представители «школы подозрения», нужно объяснять, исходя из такого единственно возможного опыта, к которому присоединяются научно нормированные рассуждения, очищающие его от отклоняющихся от подобного материализма фантазий. Пристли, правда, был деистом, и в свою картину мира допускал Бога как причину творения, но не допускал Его нисхождения в мир и действия в нем.
Позиция Рида – изначально другая: человек естественным для него образом смотрит на мир и воспринимает его и «сверху» и «снизу», причем вторая установка подчинена первой. Иными словами, практикующий установку на «подозрение» в своих наблюдениях и интеллектуальных построениях, не отдавая себе в том отчет, зависит от того, чтó мы открываем в бытии в качестве зрящих «сверху» и воспринимающих тем самым мир с доверием к нему. Рид развивает свою аргументацию, обращаясь, подобно Пристли, к свидетельствам опыта, но понимает при этом опыт, не прибегая к материалистической метафизике как основе для его толкования[80]80
В вопросе о причине доверия на такой же позиции стоит и Адам Смит в своей «Теории нравственных чувств», о чем нам сообщает Дугалд Стюарт.
[Закрыть]. В противовес установке на подозрение, предполагающей за высшим низшее как его источник, он исходит из установки на доверие ко всему объему опытно нам открываемого. А открывается нам в мире, например, не только власть вражды, но и сила симпатии.
Теперь вернемся к Пришвину и зададимся вопросом, почему же Рид развивает такую продуманную, весомую аргументацию в пользу важности обычного языка и предполагаемой им «естественной установки» сознания для самой философии? Не потому ли, что только таким языком можно проложить дорогу к другу? Об этой дороге жизни и творчества, понимаемых как единое целое «жизнетворчества», и говорит состарившийся русский писатель. В поздние годы он всю свою жизнь и творчество понял как дорогу к другу – к другому человеку, понимающему его мысль и способного ее продолжить и передать новым поколениям. Если этой дороги нам не удастся найти, то мы как деятельные участники мирового творческого движения окажемся несостоявшимися, несбывшимися.
«Из тупика логизма, – пишет Пришвин о герое своего романа, прототипом которого был он сам, – через Природу к творчеству» Алпатов выходит, преодолевая первый кризис своей жизни. Второй экзистенциальный кризис он преодолевает, выходя «из Природы к людям», когда его творчество становится деятельностью «действительно живого существа, а не мертво-логического»[81]81
Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т. 3. М., 1956. С. 760. В.Д. Пришвина пишет, что это запись от 13.1.1943, но в «Дневниках 1942–1943» (М., 2012) ее нет.
[Закрыть]. Полемика с немецким идеализмом, в частности с Гегелем, слышна в этих словах. Кстати, Гегель признавал за шотландскими философами способность к «тонким замечаниям», но отвергал их мысль в целом, потому что, как он считал, у них «спекулятивная философия совершенно исчезает»[82]82
Гегель Г.В.Ф. Сочинения. Т. XI. Лекции по истории философии. Книга третья. М.; Л., 1935. С. 379.
[Закрыть]. Термин «спекулятивное» нес у Гегеля исключительно позитивные коннотации, и его он использовал для характеристики своей системы абсолютного идеализма[83]83
Гегель. Соч. Т. 1. М.; Л., 1929. С. 141.
[Закрыть]. Поэтому понятно, почему Томасу Риду он уделил в своей «Истории философии» лишь один небольшой абзац.
Немецкий идеализм как бы интеллектуально «эгоцентричен», выражая самомнение логически препарированного сознания, очищенного до абсолютной идеи. Это, может быть, не самые удачные слова для выражения его односторонности. Но именно в ней его уязвимое место, «ахиллесова пята». В этих условиях гармонию расходящихся сторон единого бытия можно только логически симулировать, и поэтому в немецком идеализме господствует в высшей степени искусственный язык.
Итак, жизнь в ее единстве с творчеством Пришвин понимал как «дорогу к другу». Его идея «творческого поведения», в основе которого лежит «родственное внимание» ко всему в мире, несовместима с установкой на подозрение, претендующей на свою исключительность в качестве единственно истинной. Поэтому можно сказать, что эта пришвинская идея может быть представлена как своего рода вариант философии доверия, лишь на волне которого, согласно русскому писателю, можно плодотворно сотрудничать с космической жизнью.
Как и Рид, Пришвин считал, что на волне доверия общаются с миром, прежде всего, дети. Опыт детства он сознательно применяет для определения стратегии своей творческой работы: «Ни в коем случае, – говорит писатель, – нельзя расставаться с детскими рассказами ради рассуждений»[84]84
Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т. 6. С. 448.
[Закрыть]. Поэзия и философия, считает он, питаются залежами доверия, которыми столь богата душа ребенка: «Мальчик Витя, – записывает он, – стоял и слушал нас, не улыбаясь. И понимали мы, что какая-то великая космическая метафизика клубилась в нем в поисках выхода. <… >
Сколько философии и поэзии клубится в ребенке и куда это после у взрослого человека девается?»[85]85
Пришвин М.М. Собр. соч. в шести томах. Т. 6. С. 449.
[Закрыть] Эти наблюдения Пришвина прямо перекликаются с заключением шотландского философа относительно причины доверчивости: раз доверчивость – дар природы, «то сильнее всего она должна быть в детстве»[86]86
Рид Т. Философия здравого смысла. С. 599.
[Закрыть].
На склоне лет Пришвин, думая о своей будущей книге, хотел показать творческий путь к другому: «Дорога к другу. Лучшее движение души русского человека это к другу, за друга (выручить, вызволить, постоять за)»[87]87
Пришвин М.М. Собр. соч. Т. 6. С. 394.
[Закрыть]. Дорога к другу есть самораскрытие любви. Что обычнее ее, которой «все возрасты покорны»? Но не только все «времена» ей покорны, но и все «места», поскольку они мыслятся вместе с размещенными в них существами или, для внешнего глаза, «вещами». Говоря об этом, невольно вспоминаешь «симфонию» «творческой эволюции», блистательно начертанную Бергсоном. В тональности гимна божественной любви, одухотворяющей Вселенную и дающей ей единый смысл, она прозвучала и в последнем произведении французского философа, в «Двух источниках религии и морали». Философская мысль достигает максимально возможных для себя высот, если не отвергает с презрением художественного отношения к миру с неотъемлемой от него доверчивостью и здравым смыслом, ведущим к «наивному реализму». Ничего подобного в немецком идеализме, в частности у Гуссерля, не было. Немецкий философ силой не родственного, как у Пришвина или Бергсона, а объективирующего внимания стремится не оставить без обоснования ни одну из «мелочей» этого мира, поставив все на единое научное основание. В упорстве стремления к строгой всеобъемлющей науке он действительно велик. Но претензия на единственно истинную, ибо подлинно научную, как он считает, философию, на мой взгляд, – заблуждение, иллюзия. Наука имеет свои границы. Религию и искусство заменить она не может. Ученый мыслит подобиями и законами, сходствами и тождествами, а художник – «от-личиями», как говорил Пришвин[88]88
«Существенное <… > в человеке не его подобие с другими, а отличие от всех» (Пришвин М.М. Дневники 1942–1943. М., 2012. С. 557). И еще: «Ученый рассматривает вещи в их соотношении, а художник в от-личиях» (там же. С. 559).
[Закрыть], проникая светлым лучом доверия и «родственного внимания» вглубь «предмета», открывая его как неповторимое лицо и вступая тем самым в познавательном акте в личные отношения с миром. Художественное познание, на наш взгляд, позволяет и философии достигать высот знания.
Томас Рид это прекрасно понимал, сознавая при этом значение настоящей, «работающей» науки, образцом которой для него была механика Ньютона. Он хотел и своей искомой науке о человеческом духе сообщить такую же основательность и дать ей столь же весомое эмпирическое основание, как это сделал Ньютон с наукой о природе. Эмпиризм и индуктивный метод – вот истинно английское умонастроение, которое разделял не только англичанин Фрэнсис Бэкон, давший ему мощный толчок. Ему верен и шотландец Томас Рид. Заметим мимоходом, что Габриэль Марсель, говоря о «высшем эмпиризме», понятии, фигурировавшем у Шеллинга, встречается в этом выражении с британской традицией, оказавшейся ему весьма близкой. Неудивительно, что и творчество Пришвина на Западе было, прежде всего, замечено не в Германии, где он учился, или Франции, а именно в Англии, стране выдающихся натуралистов в самом широком и глубоком смысле слова[89]89
Повесть «Жень-шень», написанная по впечатлениям от поездки писателя на Дальний Восток в 1931 г. и изданная в 1933 г., в 1936 г. была опубликована в английском переводе в Лондоне с предисловием известного биолога Джулиана Хаксли, брата писателя Олдоса Хаксли. См. об этом: Пришвин М.М. Дневники 1936–1937. СПб., 2010. С. 905, 918–919.
[Закрыть].
Присматриваясь к философии здравого смысла, мы понимаем, что философия немыслима без борьбы с самой собой, а именно без борьбы мысли как ничем не ограниченного поиска истины с его приостановкой, то есть с философией как «заморочкой», как «эпистемологическим препятствием», по выражению Башляра. Философы, впадающие в «абсолютный скептицизм», о котором говорит Рид, считают, что они доказали, исходя из одного только разума, несостоятельность веры в существование внешнего мира и реальность нас самих. Вот такой скептицизм и есть одно из философских «препятствий» на пути самосознания человеческого духа. Скептицизм остановил поиск истины на утверждении своего негативного вывода. Томас Рид, развивая философию здравого смысла, и устремился на борьбу с такой иллюзией, подкрепленной вроде бы самыми строгими доказательствами: «Бедняги-неучи, будучи простыми смертными, – замечает он, – верят безо всяких сомнений в существование солнца, луны, звезд, земли, которую мы населяем, страны друзей и родственников. <…> Но философы, сожалея о доверчивости толпы, постановили не иметь никакой веры, кроме той, что основана на разуме». И если философия, на которую возлагалось столько надежд, эта «дочь света», по выражению шотландского мыслителя, не может прийти ни к чему другому, кроме как к несовместимому со здравым смыслом скепсису по отношению ко всякой реальности, в том числе и к реальности нас самих, то, восклицает Рид, «я презираю философию и отвергаю ее водительство – дайте моей душе жить со здравым смыслом!»[90]90
Рид Т. Философия здравого смысла. С. 56.
[Закрыть] Философия в его лице порывает с упоенным собой и заносчивым софистическим разумом, чтобы открыть глаза на саму реальность, присутствие которой строго доказать разумом, может быть, и нельзя, но которое дано нам безо всякой претенциозной науки с ее вроде бы безупречными рассуждениями, дано, если угодно, прямо, непосредственно, интуитивно, самой жизнью. Иными словами, не затуманенная интеллектуальными фантазиями, «не замороченная», просторно открытая для ищущей мысли, то есть подлинно глубокая философия, говорит Рид, «не имеет других корней, кроме принципов Здравого смысла»[91]91
Там же. С. 57.
[Закрыть]. И Пришвин, подобно шотландскому философу, считает, что философия опасна тем, что легко срывается в бессердечное думанье, в мысль абстрактную, оторвавшуюся от жизни, от ее сердцевины.
Философофобами, однако, ни русский писатель, ни шотландский философ не были. Пришвин не принимал философию как остановленный интеллектуальными «заморочками» поиск истины, или правды. Философии педантов и доктринеров отвлеченного разума он противопоставлял свою житейскую и писательскую мудрость «родственного внимания» и «привлеченной» сердечной мысли, удивительно схожую с философией здравого смысла шотландской школы.
Я думал здесь поставить точку. Но неожиданно в дневниках Пришвина начала 20-х годов нашел целую концепцию здравого смысла. Здесь он цитирует Бергсона, говорящего о необходимости присмотра со стороны здравого смысла за отвлеченными рассуждениями[92]92
Пришвин цитирует «Творческую эволюцию» (не называя источника). См.: Бергсон А. Творческая эволюция. М.; Жуковский, 2006. С. 172. Об этом мы еще скажем чуть ниже.
[Закрыть]. Сам факт такого цитирования означает, что ему близка позиция французского философа и его отношение к здравому смыслу. О Томасе Риде и его последователях-шотландцах Пришвин ничего не говорит. Он никогда не изучал этих философов. Но в эти годы он внимательно читает Джемса и Бергсона, у которых понятие здравого смысла играет по преимуществу позитивную познавательную роль[93]93
Например, у Джемса в состав его концепции эмпирического метода входит понятие здравого смысла. Если у Рида здравый смысл служит главным образом инструментом против чрезмерного скептицизма, то у американского философа он выступает как одна из компонент критерия оценки религиозных верований. Пригодность для жизни в конкретных условиях эволюции мира и человека – вот как можно приблизительно определить содержание такого критерия как естественной оценочной нормы. В ее состав наряду с «философскими убеждениями и моральными инстинктами» входит, согласно Джемсу, и здравый смысл (Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. М., 1993. С. 260).
[Закрыть]. Его интересует само понятие здравого смысла, имеющее свою историю. Но несравненно сильнее его интересует использование этого понятия как основания для его художественного метода исследования жизни в целом и, в частности, как теоретический инструмент для истолкования русской истории. Он подчеркивает его актуальность для понимания революции и большевизма, «оседлавшего» революционную стихию. Сначала скажем о здравом смысле как средстве контроля за отвлеченными рассуждениями, как об этом сказал Бергсон, процитированный русским писателем.
Понятие здравого смысла служит Пришвину прежде всего в качестве опоры для критики философии и науки, когда они в чрезмерных упованиях на свои абстракции «наступают на пятки» художественному познанию мира, предельно конкретному и личному. В дневнике 1947 г. Пришвин роняет такую фразу: «Без философии можно обойтись в жизни, но без юмора живут только глупые»[94]94
Пришвин М.М. Дневники 1946–1947. М., 2013. С. 710.
[Закрыть]. В состав понятия здравого смысла чувство юмора входит непременно. Входит в него также и несколько ироническое отношение к идеям, особенно к тем, что слишком уж крепко вбиты в головы и поэтому препятствуют ее «проветриванию» живым изменчивым опытом. «Друг мой, – наставляет писатель своего читателя, – бойся “идей”, не забирай их себе в голову: это ангелы смерти носятся в воздухе»[95]95
Пришвин М.М. Дневники 1944–1945. С. 237.
[Закрыть]. Речь не идет при этом о мыслях. О мысли Пришвин самого высокого мнения. Слово «мысль» он пишет иногда даже с большой буквы, как и «слово». А вот идеи, особенно закавыченные – совсем другое дело. Как головные «заморочки» (кстати, от слова «морок») они противопоказаны жизни.
У Пришвина есть такая классификация умов, судя по которой можно сказать, что живой органический ум это и есть здравый смысл, в то время как противоположный ему ум, называемый им «партийным» или «политическим», можно обозначить как механический и искусственный. Органический ум, или здравый смысл, это «общий ум, который образуется в народе от поколения к поколению, от человека к человеку. Этот народный ум, – продолжает свое рассуждение Пришвин, – как “здравый смысл” привлекает нас и завлекает необъяснимостью своего происхождения, своего начала, как и все живое на земле»[96]96
Цит. по: Пришвина В.Д. Путь к Слову.
[Закрыть]. Все у Пришвина как художника олицетворяется, в том числе и здравый смысл. Его воплощенной персонификацией выступает для него его первая жена, Ефросинья Павловна, хранительница народного слова, преданий, примет, прибауток и крестьянской мудрости[97]97
См., например: Пришвин М.М. Дневники 1926–1927. С. 244.
[Закрыть].
Свое научно-художественное исследование жизни писатель строит на понятии здравого смысла. Россия, после революционного катаклизма в особенности, – неизученная страна. И вот Пришвин хочет ее исследовать без сложных приборов и вычислений «простым глазом», «простым здравым смыслом», который он понимает вполне по-шотландски: «Стоит дерево, так оно и есть дерево, а не дерево само по себе и мое представление о дереве»[98]98
Пришвин М.М. Дневники, 1923–1925. М., 1999. С. 97.
[Закрыть].
Пришвин различает такие понятия, как, во-первых, собственно здравый смысл, во-вторых, «больной смысл» как его антипод и, в-третьих, «лично-творческий» высший смысл, создаваемый одаренными личностями. Поясним все эти понятия, соединяемые, можно сказать, в концепцию здравого смысла.
«”Здравый смысл”, – говорит Пришвин, – создался тоже, как и наука и философия, отдельными личностями, потерявшими свое имя в истории, он имеет к истории философии такое же отношение, как “народная словесность” к истории литературы, его отличие от философии то, что им <…> пользуются все, он есть всеобщее достояние»[99]99
Пришвин М.М. Дневники 1920–1922. М., 1995. С. 64.
[Закрыть]. Просвещение должно внести высшие ценности в «массы», спустившись для этого «в кладовую здравого смысла». И вот важный ход мысли Пришвина: область высокого личного творчества не примыкает вплотную к зоне здравого смысла, между ними существует «промежуточное состояние больного смысла».
Как же философствующий писатель раскрывает содержание вводимого им понятия? В «больном смысле» философские понятия, «ставшие ходячими, вступают в борьбу со здравым смыслом». Вот здесь уже чувствуется приближение к ридовской философии здравого смысла. Но если раскрыть Джемса, определив предварительно ту его книгу, которую в это время читает Пришвин, то увидим, что это не столько Рид, сколько американский философ-прагматист, которому в своих приведенных нами выше формулировках обязан русский писатель. Об этом мы скажем чуть ниже.
Итак, Пришвин подчеркивает в «больном смысле» его враждебность к смыслу здравому. Можно сказать, что философия, теряющая связи с изменчивой жизнью и потому ставшая плоской и рутинной, именно в силу этого и воображает себя стоящей недосягаемо высоко над здравым смыслом. Отсюда и ее подчеркнутое презрение к нему, к его защитникам и апологетам, среди которых на первый план естественно выходят шотландцы во главе с Томасом Ридом. «Больной смысл» культурологически соответствует приблизительно тому явлению, которое в нашей публицистике получило название «образованщины» или, что примерно то же самое, «полуобразованности». Речь в социологическом плане идет о массе интеллигенции, представители которой не дотягиваются до уровня самостоятельных творцов, создающих высшие культурные ценности личным творчеством, но пытаются компенсировать это тем, что свысока смотрят на «народный» здравый смысл. Такие интеллигенты, говорит Пришвин, хотят «сразу перекинуть простому народу <…> идеи высшего смысла». И поэтому интеллигенция «вечно борется со здравым смыслом».
Пришвин использует философское понятие здравого смысла в контексте истории вестернизации России, ключевой фигурой в которой является Петр Первый. В высшей степени характерно, что Пришвин, такой черноземно-русский человек, сознает себя безусловным приверженцем «европейских ценностей»[100]100
«Я такой русский человек, который пропьет, променяет и растащит всю свою родину, а европейская святыня, чужая ему, но отдаленно-прекрасная – на нее не посягнет» (Пришвин М.М. Дневники 1920–1922. М., 1995. С. 31).
[Закрыть], как сейчас часто, не слишком глубоко понимая, что это значит, говорят. Носителем высших идей, выношенных личным творчеством выдающихся людей, у него выступает сам Петр Великий, первый из царей русских ставший императором. Коммунизм и большевизм видятся теоретизирующему писателю современным воплощением этих западных идей.
Следующий момент анализируемых нами пришвинских рассуждений состоит в том, что за «больным смыслом» не признается право на критику здравого смысла. Но это не означает, что таким правом вообще никто не наделен. Нет, «высший, лично-творческий» смысл имеет право вступать в борьбу со здравым смыслом. Пример тому – упомянутый Петр I. Его революцию Пришвин приветствует. Но ни большевизм, ни коммунизм в целом, внедряемые в жизнь людьми «больного смысла», в том виде, в каком он ими насаждается, его совершенно не устраивают.
Итак, в чем же смысл пришвинских рассуждений о здравом смысле, если отвлечься от погруженности их в контекст русской истории? Вот суть его мысли: смысл (мысль, мышление) заболевает, когда теряет лицо. Становясь безличным, смысл вульгаризируется и деградирует. Такое его состояние и называется Пришвиным «больным смыслом». В силу своей обезличенности такой смысл неоправданно враждебен здравому смыслу, который в основе своей, напротив, создавался творчески продуктивными личностями, имена которых успели забыться. Главное в рассуждении о здравом смысле, проводимом Пришвиным, – это противопоставление личного органического творчества его механической имитации, которая адресуется «всем». Судить здравый смысл может только тот, кто наделен личной духовной творческой силой и способен обогащать культуру. Таковы, например, библейские пророки. Таковы и великие ученые, первопроходцы, создатели влиятельных учений и т. п. Таким по рангу у Пришвина тех лет выступает и первый русский император.
Итак, здравый смысл, по Пришвину, определяется через отрицание характеристик, установленных для смысла больного. Больной смысл – смысл бессердечной мысли. Здравый же смысл мыслит, проводя зарождающуюся мысль через сердце, его «фильтры» и «магниты». И в таком развороте пришвинских рассуждений мы видим, насколько они близки философии здравого смысла Томаса Рида, хотя в ряде формулировок русский писатель опирается совсем не на Рида, а на Джемса. Можно сказать, что ридовская мысль резонирует с его мыслью через посредничество прагматистской философии Джемса.
Изложив концепцию здравого смысла, обнаруженную в дневниках Пришвина, поставим такой напрашивающийся вопрос: какова ее связь с историей философии, какие мыслители повлияли на нее? Беглый ответ мы уже дали, сказав о Джемсе. Теперь развернем его, но так, чтобы он не был слишком долгим и не уводил нас от темы. Итак, зимой 1920 г. Пришвин интенсивно изучал работы Джемса, а вскоре стал читать и Бергсона. Что же именно? По характеру приводимых им цитат и по содержанию его высказываний можно установить, что он читал книгу Джемса «Прагматизм», в русском переводе П.С. Юшкевича опубликованную в 1910 г. Его первое упоминание Джемса отсылает к представлению американского философа о «потоке сознания». Нетрудно найти эти места в указанной книге[101]101
Джеймс У. Прагматизм // Джеймс У. Воля к вере. М., 1997. С. 279, 281.
[Закрыть]. Несколько позже Пришвин ставит себе целью прочитать его «Психологию» (точнее, «Принципы психологии»). Но главный источник пришвинской концепции здравого смысла, определивший ее вплоть до формулировок, находится в пятой лекции джемсовского «Прагматизма» («Прагматизм и здравый смысл»).
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































